Читать онлайн Выкрикивается лот 49
- Автор: Томас Пинчон
- Жанр: Зарубежная классика, Современная зарубежная литература
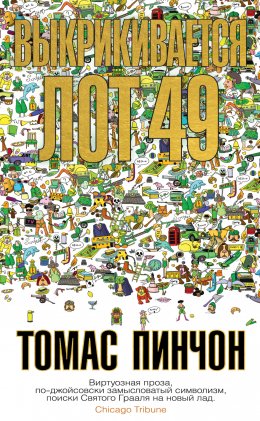
© Н. В. Махлаюк, С. Л. Слободянюк, перевод, примечания, 2000
© С. Ю. Кузнецов, примечания, 2000
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Глава первая
Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас, вернувшись домой с таппервэрской вечеринки[1], где хозяйка, видимо, от души сдобрила фондю киршем[2], обнаружила, что она, Эдипа, назначена распорядителем, точнее, распорядительницей имущества Пирса Инверарити[3], калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, как-то в свободное время просадившего два миллиона долларов, но тем не менее оставившего активы настолько солидные и путаные, что приведение их в порядок явно требовало распорядительства не только лишь почетного. Эдипа стояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора и поминала всуе имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспоминала, как хлопнула дверь номера в масатланском отеле[4], пробудив две сотни птиц в холле; думала о том, как над склоном у библиотеки Корнеллского университета занимается заря, которой никто, впрочем, там не видел, поскольку склон выходил на запад; размышляла о сдержанной и печальной мелодии Бартока из четвертой части Концерта[5] для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда[6], который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. Может, так и умер Пирс, гадала Эдипа, погиб, раздавленный среди грез единственным в доме предметом поклонения? У нее вырвался громкий беспомощный смех. Ты больна, Эдипа, говорила она то ли себе, то ли комнате, которая и так знала.
Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы «Уорп, Уистфулл, Кубичек и Макмингус», было подписано неким Мецгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Мецгеру предписывалось выступать в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, буде таковое возникнет. В дополнительном распоряжении, сделанном год назад, душеприказчицей также назначалась Эдипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период. И весь остаток дня – во время похода на рынок в торговом центре Киннерета-Среди-Сосен[7], где она покупала рикотту[8] и слушала «мьюзак» (сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте Концерта Вивальди для казу[9] в исполнении ансамбля «Форт-Уэйн Сеттеченто»[10], солировал Бойд Бобрик); собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере «Сайентифик Америкэн»[11], готовя лазанью и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата латука и наконец разогревая еду в духовке и смешивая вечерний виски-сауэр для супруга, Уэнделла Мааса по прозвищу Мучо[12], к его возвращению с работы, – она вспоминала и вспоминала, перетасовывая задом наперед толстую колоду дней, которые либо казались (уж ей ли не знать?) более или менее одинаковыми, либо ненавязчиво выстраивались уголок к уголку, как карты у фокусника, чтобы тренированный взгляд тут же выцепил любую аномалию. Она мучилась до середины телешоу Хантли и Бринкли[13] и в конце концов вспомнила, что однажды в прошлом году часа в три ночи раздался междугородный звонок – вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно (если только Пирс не оставил дневника), – и собеседник, поначалу заговорив с сильным славянским акцентом, представился вторым секретарем Трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь; после чего плавно смодулировал в комично утрированный негритянский выговор, затем перешел на грязный диалект пачуко, изобилующий «чингас» и «мариконес»[14], визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у нее родственников в Германии, и наконец сымитировал голос Ламонта Крэнстона[15], которым Пирс говорил всю дорогу до Масатлана.
– Ради бога, Пирс, – сумела вставить Эдипа, – я думала, между нами…
– Марго, – серьезно прервал он, – я только что побывал у комиссара Уэстона, старика завалили прямо в их дурдоме, причем пугач тот самый, из которого шлепнули профессора Квакенбуша.[16] – И понес что-то в этом роде.
– Ради бога, – повторила Эдипа.
Мучо перевернулся и смотрел на нее.
– Пошли его ко всем чертям и повесь трубку, – весьма разумно предложил он.
– Я слышал, – сказал Пирс. – Думаю, что Уэнделлу Маасу пришла пора повидаться с Тенью. – Повисла основательная и многозначительная пауза.
Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона. Телефонная линия могла быть любой длины и тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти: его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, которых она якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Мецгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этом дополнительном распоряжении? Или он решил сделать его позже – например, из-за ее раздражения и равнодушия Мучо? Эдипа чувствовала себя беззащитной, растерянной и сбитой с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного, она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, что не знает, с чего начать.
– Мучо, малыш, – позвала она в припадке беспомощности.
Мучо Маас, приехавший домой, впрыгнул в дверной проем.
– Опять сегодня облом… – начал он.
– Послушай-ка… – начала вместе с ним Эдипа. Но дала Мучо выговориться первым.
Он работал диск-жокеем на Полуострове и регулярно мучился совестью насчет своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эд,[17] – обычно начинал он. – Пытаюсь, но никак не могу», – из бездны депрессии, страшившей Эдипу чуть не до истерики. И наверное, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она сорвется, как-то приводил Мучо в себя.
«Ты слишком чувствителен» – так она обычно отвечала. Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда. Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мучо ежеутренне трижды брил верхнюю губу по росту волос и трижды против, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать; покупал костюмы без плечевых подкладок и отправлялся к портному, чтобы еще более неестественно обузить лацканы; волосы лишь смачивал водой[18], зачесывая их вверх и отбрасывая назад на манер Джека Леммона.[19] Вид опилок, даже карандашных стружек приводил его в содрогание, поскольку они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач; и даже сидя на диете, он не мог, подобно Эдипе, позволить себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему претило, слишком живо напоминая ту субстанцию, которая часто смешивается с моторным маслом и бесчестно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слово «конфетка», прозвучавшее, как ему казалось, со злым умыслом. Произнес его кондитер, беженец из Венгрии, говоривший действительно о конфетах, но таков уж был Мучо – тонкокожий.
Впрочем, по крайней мере в машины он верил. Может, даже слишком; да и как могло быть иначе, когда все семь дней в неделю он видел людей беднее себя: негров, мексиканцев, голодранцев из южных штатов – натуральная процессия, – сдававших в трейд-ин совершенно немыслимые развалюхи; металлические и моторизованные продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представали чужим (да хоть его) взглядам фактически голыми: покореженные корпуса, проржавевшие днища, кое-как закрашенные крылья – уже только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи Мучо; внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью; и когда из машин выгребали мусор, то с неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были действительно выкинуты (людям этим, полагал Мучо, перепадало так мало, что почти все нажитое приходилось возить с собой из страха потерять), а какие просто (и возможно, трагически) забыты; отрезанные купоны, обещавшие экономию в пять или десять центов, талоны на скидку, розовые флаеры с предложением распродаж, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, желтые страницы, выдранные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или платья настолько старого, что могло сойти за исторический реквизит, – обрывки, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки, – все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа, пыли, телесных выделений, и Мучо было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это честная свалка, он, наверное, сумел бы примириться и сделать карьеру: крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом, – как и любая смерть кажется чудом, пока не подступит к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к насилию и крови, были для впечатлительного Мучо слишком правдоподобны, и долго выносить их он не мог. И даже если длительное ощущение неизменной серой тошноты выработало в нем некоторый иммунитет, его по-прежнему трясло, когда владельцы и их тени выстраивались в шеренгу лишь для того, чтобы обменять помятую и сбойную версию себя на самобеглую проекцию чьей-то чужой, но такой же тупиковой жизни. Словно это было самым обычным делом. Для Мучо это был ужас. Непрерывный, запутанный инцест.
Эдипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мучо уже два года работал на КЯУХ, и та площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно (упаси Господи, конечно), попади Мучо на войну – япошки на деревьях, фрицы на «тиграх», узкоглазые с духовыми трубками по ночам, – он об этом забыл бы куда быстрее, чем о салоне подержанных автомобилей, который столь тревожил его вот уже пять лет. Пять лет. Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь по́том, или кричат на языке кошмаров, их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется – Эдипа это знала. Но когда же забудет Мучо? Она подозревала, что работа на станции (полученная им через своего старого приятеля, менеджера КЯУХ по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю – салон был спонсором), с неизбежным хит-парадом и даже трескучими синдицированными выпусками новостей – пустые грезы незрелых предвкушений, – была только буфером между Мучо и автосалоном.
Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планирует, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбается из центра водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно.
До тех пор, пока Мучо не открывал рот.
– Сегодня меня вызвал Фанч, – сообщал он, наливая, – и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж. – (Фанч был режиссером программы и злейшим врагом Мучо.) – Я теперь, видите ли, слишком сексуален. Мне следует изображать молодого отца или там старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть, и трепещут от каждого моего слова. Поэтому теперь я должен записывать все телефонные разговоры. Фанч лично отредактирует все, что ему покажется непристойным, – то есть все мои реплики. Цензура, сказал я ему, потом добавил, что он предатель, и ушел.
Подобные рутинные перебранки происходили между ними примерно раз в неделю.
Эдипа показала ему письмо Мецгера. Мучо знал о ее отношениях с Пирсом; они кончились за год до того, как Мучо на ней женился. Он прочел письмо и, застенчиво моргая, уставился вдаль.
– Что мне делать? – спросила Эдипа.
– О нет, – ответил Мучо. – Это не ко мне. Только не я. Я даже не могу толком сосчитать наш подоходный налог. А исполнение воли покойного – тут мне вообще нечего сказать. Повидай Розмана.
Их юрист.
– Мучо. Уэнделл. Это закончилось. До того, как он вписал туда мое имя.
– Да-да. Я это и имел в виду, Эд. Я некомпетентен.
Так что на следующее утро она пошла и встретилась с Розманом. Предварительно проведя полчаса перед зеркалом, вновь и вновь рисуя тонкую линию на веках, которая искривлялась, прежде чем она успевала убрать кисточку. Большую часть ночи она не спала, поскольку в три часа раздался еще один телефонный звонок, и, когда аппарат, секунду назад безмолвствовавший, вдруг пронзительно заверещал, сердце у нее замерло от ужаса. Они мгновенно проснулись и первые несколько звонков лежали, не размыкая объятий и даже не глядя друг на друга. Наконец Эдипа, понимая, что терять уже нечего, взяла трубку. Звонил доктор Иларий, ее мозгоправ, или психотерапевт. Изъяснялся он как Пирс, изображающий гестаповского офицера.
– Надеюсь, я вас не разбудил, – сухо начал он. – У вас был очень испуганный голос. Как таблетки? Не помогают?
– Я их не принимаю, – ответила Эдипа.
– Чувствуете в них какую-то угрозу?
– Я не знаю, из чего они сделаны.
– Вы не верите, что это просто успокоительное.
– А я могу вам верить?
Она не верила, и его следующие слова объясняли причину недоверия.
– Нам нужен сто четвертый, чтобы построить мост. – Сухой смешок.
Мост, die Brücke, – таким кодовым словом назывался эксперимент, с проведением которого он помогал районной больнице, исследуя влияние ЛСД-25, мескалина, псилоцибина и других подобных наркотиков на большую группу пригородных домохозяек. Внутренний мост.
– Когда же, – спросил Иларий, – мы сможем включить вас в наше расписание?
– Нет, – отвергла предложение Эдипа, – у вас есть полмиллиона других, выбирайте среди них. Сейчас три часа ночи.
– Нам нужны вы.
И вдруг прямо в воздухе над своей кроватью Эдипа увидела хорошо знакомый портрет Дядюшки Сэма, который вывешивали на всех наших почтамтах: глаза горят нездоровым блеском, желтые впалые щеки жутко нарумянены, указательный палец уставлен ей точно между глазами. Ты нужна мне. Она никогда не спрашивала доктора Илария, зачем нужна, боясь любого ответа, который он мог дать.
– У меня и так галлюцинации, без ваших наркотиков.
– Не рассказывайте о них, – быстро сказал он. – Ладно. О чем вы еще хотели поговорить?
– Это я-то хотела?
– Я так думал, – сказал он. – Было такое ощущение. Не телепатия. Но связь с пациентом порой бывает своеобразной.
– Только не в этом случае.
И Эдипа повесила трубку. Но заснуть уже не смогла. Будь она проклята, если станет принимать его пилюли. В буквальном смысле проклята. Она ни в коем случае не желала сидеть на крючке – так ему и сказала.
– Но ведь у меня на крючке вы не сидите? – Он пожал плечами. – Тогда можете уходить. Лечение окончено.
Она не ушла. Не потому, что этот шаман имел над ней какую-то власть. Просто проще было остаться. Кто заметит, в какой день она вылечится? Только не он, и он сам это признавал. «Не надо таблеток», – умоляла Эдипа. Иларий лишь корчил ей рожу, такую же, как раньше. Он весь был соткан из очаровательной эксцентрики.[20] У него была теория, что лица симметричны, как кляксы Роршаха, красноречивы, как картинки тематического апперцепционального теста,[21] и вызывают определенные ассоциации, как слова-стимулы, так что а почему бы и нет. Он утверждал, что однажды вылечил случай истерической слепоты с помощью лица номер тридцать семь, «Фу-Маньчжу»[22] (многие его лица, как немецкие симфонии, имели номер и название): указательные пальцы поднимают уголки глаз, средние выворачивают края ноздрей, безымянные растягивают рот, изо рта высовывается язык. На Иларии это выглядело весьма пугающе. И в результате, когда развеялся призрак Дядюшки Сэма, именно лицо Фу-Маньчжу пришло ему на смену и оставалось с Эдипой до самого рассвета. Она с трудом взяла себя в руки перед встречей с Розманом.
Однако Розман тоже провел бессонную ночь, так как весь вечер сидел перед телевизором и смотрел сериал о Перри Мейсоне[23], которого обожала его жена и к которому сам Розман питал сложное, двойственное чувство, желая одновременно и стать таким же блестящим адвокатом, и – поскольку это было невозможно – уничтожить Перри Мейсона, развенчав его. Когда Эдипа зашла в офис, верный адвокат ее семьи поспешно и виновато запихивал в ящик стола пачку разноцветных и разноформатных листов. Она знала, что это был черновик монографии «Адвокаты против Перри Мейсона. Вполне возможное обвинение», над которой он работал с того момента, как начался показ телесериала.
– Насколько я помню, вы раньше редко чувствовали себя виноватым, – сказала Эдипа; они часто встречались на сеансах групповой терапии, куда их возил на своей машине фотограф из Пало-Альто, воображавший себя волейбольным мячом. – Это хороший знак, верно?
– А что, если бы вы были одной из шпионок Перри Мейсона? – ответил Розман. И, секунду подумав, добавил: – Ха-ха.
– Ха-ха, – согласилась Эдипа; они посмотрели друг на друга. – Я должна выполнить волю покойного, – сказала Эдипа.
– О, – сказал Розман, – тогда приступайте. Не смею вас удерживать.
– Да нет, – отмахнулась Эдипа и рассказала ему все.
– Зачем же ему это понадобилось? – озадачился Розман, прочитав письмо.
– Что? Умирать?
– Нет, называть вас в числе душеприказчиков.
– Он был непредсказуем.
Они пошли перекусить. Розман пытался заигрывать с ней под столом, ногой. Эдипа была в сапогах и почти ничего не почувствовала. Отбрыкалась и решила не волноваться попусту.
– Хотите – сбежим со мной, – предложил Розман, когда подали кофе.
– Куда? – спросила Эдипа.
И Розман заткнулся.
Возвращаясь в офис, он обрисовал, во что она вляпалась: придется разобраться в бизнесе, изучить расходные книги, дождаться официального утверждения завещания, собрать все долги, составить опись активов, оценить имущество, решить, что ликвидировать, а что попридержать, оплатить счета, уплатить налоги, распределить наследство…
– Эй, – сказала Эдипа, – а может кто-нибудь это сделать за меня?
– Я могу, – ответил Розман, – частично, разумеется. Но разве вам не интересно?
– Что?
– То, что вы можете узнать.
Как выяснилось, ей предстояло сделать всевозможные открытия. Едва ли о Пирсе Инверарити или о себе; скорее, о том, что раньше по тем или иным причинам оставалось вне поля зрения. Эдипу не покидало острое чувство отчуждения, сопереживания не получалось, ясность отсутствовала, все было расплывчато, как в кино, когда механик забыл навести резкость. Но она неожиданно заметила, что плавно входит в роль задумчивой и печальной девушки, которая, подобно Рапунцель[24], неким волшебным образом стала пленницей сосен и соленых туманов Киннерета и теперь ждет спасителя, который крикнет: «Эй, спусти вниз свои косыньки!» И коль окажется Пирсом спаситель, радостно вынет заколки она, шпильки отбросит и вниз беспечально обрушит лавину волос, шелестящих и спутанных, шепчущих нежно, по которым карабкаться будет спаситель до половины примерно, но тут злой колдун превратит вдруг в парик ее косы прекрасные, и обратно на землю низвергнется Пирс, звонко шлепнувшись прямо на задницу. Но неустрашимый Пирс сумел бы, наверное, отпереть замок башенной двери, использовав одну из многочисленных кредитных карточек в качестве отмычки, и, преодолев крученую лестницу, поднялся бы наверх, что, собственно, и следовало ему сделать с самого начала, будь он похитроумней. Впрочем, как бы ни развивались их отношения, пределов своей башни они с Пирсом никогда не покидали. Как-то в Мехико они забрели на выставку картин великолепной испанской изгнанницы Ремедиос Варо[25]; в центральной части триптиха «Bordando el Manto Terrestre»[26] были изображены хрупкие девушки с нежными личиками, огромными глазами и золотистыми волосами, томящиеся на верху круглой башни, в комнате, и ткавшие гобелен, который вываливался через оконный проем в пустоту, тщетно пытаясь ее заполнить; все остальные здания и животные, все волны, корабли и леса земные были вышиты на гобелене, и гобелен был целым миром. Ошарашенная Эдипа стояла перед картиной и плакала. Никто не заметил, поскольку на ней были зеленые солнцезащитные очки. В какую-то секунду она подумала, что слезы заполнят все пространство за линзами и никогда не высохнут, если очки достаточно плотно прилегают к глазным впадинам. Тогда она сможет навеки сохранить печаль этого момента и смотреть на мир в преломлении слез, этих особенных слез, открывающих невиданное разнообразие связей в важных промежутках от плача до плача. Она посмотрела себе под ноги и поняла, что стоит на том, что соткано за пару тысяч миль отсюда в ее собственной башне и лишь по случайности известно как Мексика, а значит, Пирс никуда ее не увез, ибо, согласно картине, бежать было некуда. А от чего она, собственно, так хотела сбежать? Любая узница, имеющая массу времени для размышлений, довольно быстро понимает, что башня, ее высота и конструкция, равно как и «я» пленницы, совершенно несущественны и что на самом деле в заточении ее держит магия, безликая и злобная, пришедшая извне и не поддающаяся разумному объяснению. Не имея никаких средств (кроме нутряного страха и женской хитрости) для изучения этой бесформенной магии, для понимания принципа ее действия, для измерения ее мощи и для подсчета силовых линий, узница может впасть в суеверие, подыскать себе полезное хобби (вышивку, например), спятить или выйти замуж за диск-жокея. А что делать, если башня везде и рыцарь-избавитель против ее магии бессилен?
Глава вторая
Итак, Эдипа выехала из Киннерета, не подозревая, что движется навстречу новым приключениям. Накануне Мучо Маас, с загадочно-непроницаемым видом насвистывая мелодию «Я хочу целовать твои ноги» (новой песни, записанной «Шальным Диком и Фольксвагенами» – английской группой, которой Мучо в данный момент увлекался, хотя и не верил в ее перспективность), стоял засунув руки в карманы, пока Эдипа втолковывала ему, что ей надо съездить на несколько дней в Сан-Нарцисо, чтобы разобраться с бухгалтерскими книгами и бумагами Пирса, а также обсудить дела с Мецгером, вторым душеприказчиком. Мучо был огорчен ее отъездом, но в отчаяние не впадал, и Эдипа уехала, велев ему повесить трубку, если позвонит доктор Иларий, и поручив присматривать в саду за орегано, которое покрылось каким-то плесневым грибком.
Сан-Нарцисо располагался южнее, ближе к Лос-Анджелесу. Как многие имеющие название поселения в Калифорнии, Сан-Нарцисо был не столько городом, сколько конгломератом различных проектов: районов стандартной застройки, кварталов, построенных по жилищному займу, торговых зон – и все они располагались вдоль дорог, ведущих к автостраде. Тем не менее Сан-Нарцисо стал местом жительства Пирса, там располагалась его штаб-квартира, именно там десять лет назад он начал заниматься перепродажей земельных участков, заложив основы своего богатства, на котором впоследствии все и строилось, устремляясь ввысь хлипкими и нелепыми сооружениями. Уже только поэтому, думала Эдипа, Сан-Нарцисо должен быть уникальным местом, со своей особенной аурой. Но если оно и отличалось чем-то существенным от прочих населенных пунктов Южной Калифорнии, то на первый взгляд это отличие было практически незаметным. Эдипа на взятой напрокат «импале» подъехала к Сан-Нарцисо в воскресенье. Все было спокойно. Щурясь от яркого солнца, она посмотрела вниз на склон холма, где расположились домики, дружно стоявшие на блекло-коричневой земле ровными рядами, словно заботливо выращенный урожай; и ей вспомнилось, как однажды она открыла транзисторный приемник, чтобы заменить батарейку, и впервые увидела печатную плату. Вот и сейчас упорядоченное расположение домов и улиц на склоне предстало перед ней с той же неожиданной, поразительной ясностью, как и печатная плата. Хотя Эдипа разбиралась в радио еще меньше, чем в южнокалифорнийцах, в обоих случаях внешняя упорядоченность виделась ей как своего рода иероглифическая запись, несущая в себе некий тайный смысл. Казалось, не было пределов тому, что могла поведать Эдипе печатная плата (надо было лишь попытаться проникнуть в ее тайну); и в первые минуты ее пребывания в Сан-Нарцисо где-то за границами Эдипиного понимания замаячило новое открытие. В воздухе до самого горизонта висел смог, солнце ослепительно сияло над светло-коричневой местностью; остановив свой «шевроле» на вершине холма, Эдипа оказалась как бы в преддверии некоего религиозного откровения. Словно на какой-то другой частоте, из центра какого-то вихря, слишком медленного, чтобы ее нагретая кожа ощутила его центробежную прохладу, прозвучали слова. Что-то в этом роде, подумалось Эдипе, и должно было произойти. Она вспомнила о муже, о том, как Мучо хотел уверовать в свою работу. Ощущал ли он нечто подобное, глядя сквозь звуконепроницаемое стекло на коллегу в наушниках, который менял пластинку жестом, выверенным, как движения служителя культа, священнодействующего с елеем, кадилом или потиром, и в то же время оставался сосредоточенным на звучащем голосе, подголосках, музыке, ее послании и пребывал в ней, чувствуя ее, как все те фанаты, для которых она звучала? Понимал ли Мучо, заглядывая через стекло в Первую студию, что, даже если бы он услышал эту музыку, все равно не смог бы в нее поверить?
Что-то отвлекло Эдипу от этих мыслей, словно набежавшее на солнце облако или сгустившийся смог спугнули «религиозное откровение» (или что это было?); она завела двигатель и помчалась со скоростью семьдесят миль в час по поющему асфальту, выскочила на шоссе, которое, по ее мнению, вело в Лос-Анджелес, и поехала через застроенный район или, скорее, вдоль чахлой придорожной полосы отчуждения с бесчисленными автосалонами, нотариальными конторами, закусочными, киношками для автомобилистов, офисами и небольшими фабриками; номера домов перевалили за 70 000, а потом и за 80 000. Таких ей никогда раньше не встречалось. В них было что-то противоестественное. Слева потянулось скопление розоватых приземистых строений за многомильной оградой с колючей проволокой и сторожевыми вышками, и вскоре промелькнул главный вход – ворота с двумя шестидесятифутовыми ракетами по бокам, на носовом обтекателе каждой из них красовалась надпись аккуратными буквами: «ЙОЙОДИН». Значительная часть жителей Сан-Нарцисо работала на этом предприятии – Галактронном отделении корпорации «Йойодин», одного из гигантов аэрокосмической промышленности. Пирс, как слышала Эдипа, владел большим пакетом акций этой корпорации и в свое время вел переговоры с окружным налоговым ведомством о неких льготах, призванных убедить руководство «Йойодина» и разместить здесь один из своих филиалов. Таковы, объяснял он, обязанности отца-основателя.
Вскоре ограда с колючей проволокой сменилась уже знакомой чередой стандартных коричневатых строений из шлакоблоков, в которых размещались фирмы-дистрибьюторы офисного оборудования, изготовители уплотнителей, газобаллонные станции, фабрики по производству застежек-молний, склады и все такое прочее. По случаю воскресенья все они пребывали в немоте и параличе – все, за исключением отдельных контор по торговле недвижимостью и стоянок грузовиков. Эдипа решила остановиться в первом же мотеле, который ей попадется по пути, сколь бы занюханным он ни оказался, поскольку в какой-то момент неподвижность в четырех стенах показалась ей более желанной, чем иллюзия свободы, вызванная скоростью, ветром в волосах и сменяющимся пейзажем. Да и сама дорога напоминала ей иглу шприца, воткнутую где-то там, за горизонтом, в вену-автостраду, в вену заядлого наркомана Лос-Анджелеса, чтобы даровать ему ощущение счастья, необычайной ясности, избавления от боли или того, что испытывает город вместо боли. Впрочем, даже если бы Эдипа была крошечным растворенным кристалликом героина, Лос-Анджелес по-прежнему продолжал бы ловить кайф, не замечая того, есть она или нет.
Увидев мотель, она тем не менее какое-то мгновение колебалась. Перед мотелем красовалась тридцатифутовая реклама из крашеного листового железа в виде нимфы с белым цветком в руке; а чуть ниже, несмотря на яркое солнце, горела неоновая надпись: «Мотель „Эхо“». Нимфа была очень похожа на Эдипу, которую, однако, поразило не столько это сходство, сколько скрытая воздуходувная система, заставлявшая трепетать газовый хитон нимфы, периодически обнажая ее длинные розовые ноги и огромные груди с киноварными сосками. На ее накрашенных губах играла зазывная улыбка, не то чтобы совсем шлюховатая, но уж никак не улыбка сохнущей от любви нимфы.[27] Эдипа въехала на стоянку, вышла из машины и на секунду остановилась под палящим солнцем, вдыхая неподвижный воздух и наблюдая, как искусственный вихрь регулярно вздымает газовый хитон на пять футов вверх. Ей вспомнилась мелькнувшая у нее мысль о медленном вихре и словах, которые она не расслышала.
Номер оказался достаточно сносным, чтобы провести в нем предстоящие несколько дней. Дверь выходила в длинный двор с плавательным бассейном, в котором поблескивала на солнце зеркально-гладкая вода. В дальнем конце располагался фонтан с еще одной нимфой. Ни малейшего движения. Если кто и жил за другими дверями или наблюдал за ней в окна с затычками гудящих кондиционеров, Эдипа их не видела. Администратор, которого звали Майлз, – этакий недоучка лет шестнадцати, с битловской прической, в мохеровом пиджаке без лацканов и манжет, на одной пуговице, – нес ее сумки, напевая, вероятно, ради собственного удовольствия, а может, и для нее тоже:
ПЕСНЯ МАЙЛЗА
- «С таким толстяком не станцуешь фраг», —
- Ты мне начинаешь твердить,
- Когда хочешь меня оскорбить.
- Но я все равно крутой,
- И рот свой ты лучше закрой.
- Да, детка,
- Я толстый, пожалуй, для фрага,
- Но точно не слишком худой,
- Чтобы свим танцевать с тобой.[28]
– Чудесно, – похвалила Эдипа. – Только почему вы поете с английским акцентом, хотя говорите без него?
– Это, – объяснил Майлз, – стиль нашей группы. Она называется «Параноиды». Нас еще почти никто не знает. Менеджер говорит, что нужно петь именно так. Мы пересмотрели кучу английских фильмов, чтобы усвоить акцент.
– Мой муж – диск-жокей, – сказала Эдипа, стараясь быть полезной, – правда, на небольшой тысячеваттной радиостанции, но если у вас есть запись, я бы могла попросить его поставить вас в ротацию.
Майлз закрыл за собой дверь и прошел в комнату, глазки у него забегали.
– В обмен на что? – спросил он, приближаясь к Эдипе. – Сами знаете, такие дела даром не делаются. Думаю, вы хотите того же, что и я.
Эдипа схватила первое попавшее под руку оружие – им оказалась ушастая антенна, стоявшая на телевизоре в углу.
– Ага, – произнес Майлз, останавливаясь. – Вы тоже меня ненавидите. – И сверкнул глазами из-под челки.
– Ты и впрямь параноид, – сказала Эдипа.
– У меня гладкое юное тело, – заявил Майлз. – Я думал, старым теткам это нравится.
И ушел, предварительно выклянчив за доставку сумок два четвертака.
Вечером к Эдипе явился Мецгер. Он был так хорош собой, что поначалу она подумала, будто Они – там, наверху, – ее разыгрывают, подослав актера. Он стоял на пороге – на фоне продолговатого бассейна, в котором бесшумно трепетала вода, мерцая в рассеянном свете предзакатного неба, – и говорил «миссис Маас», будто в чем-то ее упрекая. Огромные лучистые глаза с необычайно длинными ресницами озорно смотрели на нее; она заглянула ему за спину, словно ожидала увидеть там юпитеры, микрофоны, камеры, но там была лишь бутылка французского божоле, которую Мецгер, по его словам, в прошлом году провез контрабандой в Калифорнию, запудрив мозги таможенникам, – бесшабашный правовед-нарушитель.
– Что ж, – промурлыкал он, – прорыскав весь день по мотелям и наконец разыскав вас, я имею право войти, не так ли?
На этот вечер у Эдипы не было никаких особых планов, разве что посмотреть по телевизору очередную серию «Золотого дна».[29] Она переоделась в облегающие джинсы и черный свитер из грубой шерсти, а волосы распустила. И осознавала, что выглядит очень даже неплохо.
– Входите, – сказала она, – но у меня только один стакан.
– Я буду пить из горлышка, – галантно предложил Мецгер.
Он прошел в комнату и, не снимая пиджака, уселся на пол. Откупорив бутылку, налил Эдипе вина и начал разговор. Вскоре выяснилось, что Эдипа была недалека от истины, предположив, что Мецгер был актером. Лет двадцать назад, еще ребенком, он прославился, снимаясь под псевдонимом Малыш Игорь.
– Моя мать, – с горечью произнес он, – взялась за меня всерьез, хотела, не иначе, высосать все соки. Порой я думаю, – добавил он, приглаживая волосы на затылке, – что она преуспела. И мне становится страшно. Вам, должно быть, известно, в кого может превратить сына такая матушка.
– Вы нисколько не похожи… – начала было Эдипа.
Мецгер кривовато усмехнулся, сверкнув двумя рядами крупных зубов.
– Внешность нынче не имеет значения, – сказал он. – Я уже сам ни в чем не уверен. Но сама возможность меня пугает.
– И как часто, – решилась спросить Эдипа, понимая, что это всего лишь слова, – такая тактика съема срабатывала, Малыш Игорь?
– Кстати, – заметил Мецгер, – Инверарити лишь однажды упомянул ваше имя.
– Вы были друзьями?
– Нет. Я готовил его завещание. Не хотите узнать, что он сказал?
– Нет, – ответила Эдипа и включила телевизор.
На экране появился ребенок неопределенного пола, его голые ножки были как-то неловко сжаты, длинные вьющиеся локоны мешались с шерстью сенбернара, который вдруг начал лизать розовое личико ребенка, отчего малыш трогательно наморщил нос и произнес: «Ну, Мюррей, перестань, я буду весь мокрый».
– Это я, это я! – вскричал Мецгер, глядя в экран. – Бог ты мой, вот он я.
– Который из них? – спросила Эдипа.
– Фильм назывался… – Мецгер щелкнул пальцами, – «Уволенный».
– О вас и вашей маме?
– О мальчике и его отце, которого с позором выперли из британской армии за трусость, но на самом деле он пострадал вместо друга, понимаете, и, чтобы вернуть себе доброе имя, отец вместе с сыном отправляется вслед за своим полком в Гелиболу[30], где ему каким-то образом удается соорудить крошечную подлодку, и каждую неделю они проникают через Дарданеллы в Мраморное море и торпедируют турецкие торговые суда – отец, сын и сенбернар. Пес смотрит в перископ и лает, когда заметит что-то подозрительное.
Эдипа налила себе вина.
– Вы все выдумываете.
– Слушайте, слушайте, в этом месте я буду петь.
И точно, малыш, пес и невесть откуда взявшийся веселый греческий рыбак с цитрой встали на рирпроекционном фоне псевдододеканесского морского пейзажа[31] на закате, и мальчик запел.
ПЕСНЯ МАЛЫША ИГОРЯ
- Мы из всех закоулков бьем фрицев и турков —
- Мой папа, мой песик и я.
- Победим очень скоро, как три мушкетера,
- Опасности вместе пройдя.
- В перископ иль в бинокль виден Константинополь.
- Поплыли смелее, друзья!
- Подойдя к берегам, отомстят всем врагам —
- Мой папа, мой песик и я.
Затем рыбак исполнил соло на своем инструменте, после чего юный Мецгер на экране снова запел высоким голоском, а взрослый, несмотря на протесты Эдипы, принялся ему подпевать.
Либо он все выдумал, вдруг подумала Эдипа, либо подкупил инженера местной телестудии, чтобы тот запустил этот фильм, но в любом случае все это часть заговора, хитроумного заговора с целью ее обольщения. Ну, Мецгер…
– Вы мне не подпевали, – заметил Мецгер.
– А я не знала слов, – улыбнулась Эдипа.
Фильм прервался громогласным вторжением рекламы Лагун Фангосо, нового района застройки, расположенного к западу от Сан-Нарцисо.
– Инверарити вложил средства в этот проект, – сообщил Мецгер.
Проектом предусматривалось построить сеть каналов с частными причалами для катеров, соорудить плавучий зал собраний посреди искусственного озера, на дне которого планировали разместить отреставрированные галеоны, привезенные с Багамских островов, обломки колонн и фризов Атлантиды, найденные у Канар, подлинные человеческие скелеты из Италии, гигантские раковины моллюсков из Индонезии – все на потеху любителям подводного плавания. На экране мелькнул план застройки, и у Эдипы невольно вырвался вздох. Мецгер оглянулся – на всякий случай: авось этот вздох предназначался ему. На самом деле ей просто вспомнился вид, открывшийся с холма. У нее вновь возникло ощущение причастности к тайне, обещания иерофании: печатная плата, плавные изгибы улиц, отдельный выход к воде, Книга Мертвых[32]…
Не успела она опомниться, как опять начался «Уволенный». Маленькая субмарина, названная «Жюстин» в честь умершей матери, стояла у пирса, готовая к отплытию. Проводить ее собралась небольшая толпа: там был и старый рыбак с дочкой, длинноногой курчавой нимфеткой, которая в случае счастливого конца досталась бы Мецгеру; и медсестра из английской миссии с красивой фигурой, которая досталась бы отцу Мецгера; и даже овчарка, не сводившая глаз с сенбернара Мюррея.
– Ну да, – сказал Мецгер, – сейчас у нас начнутся неприятности в проливе. Там и так было гиблое место из-за кефезских минных полей[33], а тут еще немцы сплели гигантскую сеть из тросов толщиной два с половиной дюйма.
Эдипа снова наполнила стакан. Они теперь лежали на полу, глядя на экран и слегка соприкасаясь бедрами. В телевизоре раздался ужасный взрыв.
– Мины! – крикнул Мецгер и, обхватив руками голову, откатился от Эдипы.
«Папа, – захныкал Мецгер в фильме, – мне страшно!» В подводной лодке начался кавардак: сенбернар носился взад-вперед, брызгая слюной, которая смешивалась со струйками воды из давшей течь переборки, а отец пытался заткнуть дыру своей рубашкой. «У нас есть лишь одна возможность, – объявил отец, – спуститься к самому дну и попытаться пройти под сетью».
– Смешно, – сказал Мецгер. – Немцы устроили в сети ворота для прохода своих подлодок, чтобы атаковать британский флот. Все наши лодки класса Е пользовались этими воротами.
– Откуда вы знаете?
– Я там был.
– Но… – Эдипа не договорила, заметив, что у них неожиданно кончилось вино.
– Ага, – сказал Мецгер, доставая из внутреннего кармана бутылку текилы.
– Без лимонов? – по-киношному весело спросила Эдипа. – И без соли?
– Мы же не туристы. Разве Инверарити предлагал вам лимоны, когда вы там были?
– Откуда вы знаете, что мы там были?
Она смотрела, как он наполняет ее стакан, и вместе с уровнем жидкости росла ее неприязнь к Мецгеру.
– В тот год он списал эти расходы как деловые издержки. Я занимался его налогами.
– Бессердечный чистоган[34], – задумчиво произнесла Эдипа. – Вы и Перри Мейсон – одного поля ягоды, вас интересуют только деньги, грязные адвокатишки.
– Но наша красота проявляется в хитроумности нашей аргументации, – разъяснил Мецгер. – Адвокат в зале суда, выступая перед присяжными, становится актером, верно? Раймонд Берр[35] – актер, играющий адвоката, который перед присяжными превращается в актера. Я же – бывший актер, ставший адвокатом. Недавно сняли пилотный выпуск сериала по мотивам, в сущности, истории моей жизни, и главную роль сыграл мой друг Мэнни Ди Прессо. Он, кстати, бывший адвокат, бросивший практику, чтобы стать актером. В фильме он играет меня, актера, ставшего адвокатом, который периодически превращается в актера. Пленка хранится в оборудованном кондиционером подвале одной из голливудских студий, и ничто не может ей повредить, ее можно показывать бесконечно.
– Вы попали в передрягу, – заметила Эдипа, глядя на экран, чувствуя тепло Мецгерова бедра через его брюки и свои джинсы.
– Турки на патрульных катерах с прожекторами и пулеметами, – сказал Мецгер, подливая ей текилы и наблюдая, как маленькая субмарина наполняется водой. – Хотите поспорить, что будет дальше?
– Конечно нет, – ответила Эдипа. – Фильм снят давным-давно. – (Мецгер в ответ лишь улыбнулся.) – Его крутят раз уже, наверное, сотый.
– Но вы же не знаете, чем все закончится, – сказал Мецгер. – Вы его не видели.
На сей раз рекламная пауза заполнилась оглушительной похвалой сигаретам «Биконсфилд», чье основное достоинство заключалось в фильтре из костного угля наивысшего качества.
– А кости чьи? – поинтересовалась Эдипа.
– Инверарити был в курсе. Ему принадлежал пятьдесят один процент акций компании, разработавшей фильтры.
– Так расскажите.
– Как-нибудь в другой раз. У нас пока еще есть возможность заключить пари. Ну так как, спасутся они или нет?
Эдипа почувствовала, что опьянела. Ей вдруг пришло в голову, что отважная троица в конечном счете не выберется. Она понятия не имела, сколько еще будет идти фильм. Посмотрела на часы, но они остановились.
– Что за чушь, – сказала она, – конечно, они спасутся.
– Откуда вы знаете?
– Все такие фильмы обычно хорошо кончаются.
– Все?
– Ну, почти все.
– Значит, вероятность хеппи-энда меньше, – самодовольно констатировал он.
Эдипа глянула на него через стакан:
– Тогда озвучьте шансы, в процентах.
– С процентами все сразу станет ясно.
– Ладно, – крикнула она, пожалуй, несколько нервно, – спорю на бутылку чего-нибудь – текилы, идет? – что вам не удалось спастись! – И почувствовала, что попалась на удочку.
– Что мне это не удалось… – Мецгер задумался. – Еще одна бутылка за вечер окончательно усыпит вас, – решительно произнес он. – Нет.
– На что тогда будем спорить?
Она уже поняла. Казалось, они минут пять не мигая смотрели друг другу в глаза. Эдипа краем уха слышала, как телевизор один за другим изрыгает рекламные ролики. Она вдруг ощутила жгучую досаду – возможно, из-за того, что хмель ударил в голову, или потому, что фильм никак не начинался.
– Хорошо, – наконец сдалась она, стараясь скрыть дрожь в голосе, – спорим. На что хотите. Что вам не удастся спастись. Что вы пойдете на дно Дарданелл на корм рыбам, ваш папа, ваш песик и вы.
– Заметано, – протянул Мецгер, беря ее за руку якобы для того, чтобы заключить пари, но вместо этого поцеловал ладонь, проведя шершавым кончиком языка по линиям ее судьбы – неизменным, чуть солоноватым опознавательным знакам личности.
Неужели, подумалось Эдипе – как и в первый раз в постели с ныне покойным Пирсом, – все это происходит на самом деле? Но тут вновь начался фильм.
Отец укрылся в воронке на крутом скалистом берегу, месте высадки десанта АНЗАК[36], по которому турки осатанело лупили шрапнелью. Ни Малыша Игоря, ни его пса нигде не было видно.
– Что за черт? – возмутилась Эдипа.
– Ну и ну! – воскликнул Мецгер. – Телевизионщики перепутали катушки.
– Это до или после предыдущего эпизода? – спросила она, потянувшись за бутылкой текилы, и ее левая грудь очутилась в непосредственной близости к носу Мецгера.
Прежде чем ответить, он комически скосил глаза.
– Это будет подсказка.
– Ну же. – Она слегка задела его нос чашечкой бюстгальтера и наполнила стакан. – Или спор отменяется.
– Нет, – отрезал Мецгер.
– По крайней мере скажите: это тот полк, где он служил?
– Валяйте, – сказал Мецгер, – задавайте вопросы. Но за каждый ответ вы будете снимать какой-нибудь предмет одежды. Поиграем в боттичелли[37] на раздевание.
Эдипе пришла в голову великолепная мысль.
– Хорошо, – сказала она, – но сперва я на секундочку загляну в ванную. Закройте глаза, отвернитесь и не подглядывайте.
На экране в потусторонней тишине угольщик «Река Клайд»[38] с двумя тысячами солдат на борту пристал к берегу неподалеку от Судд-эль-Бара[39]. «Прибыли, ребята», – шепотом произнес чей-то голос с нарочито британским акцентом. Тут же турки открыли огонь из всех стволов, и бойня началась.
– Я помню этот эпизод, – сообщил Мецгер, сидя с плотно закрытыми глазами спиной к телевизору. – На пятьдесят ярдов от берега море обагрилось кровью. Правда, в фильме этого не показывают.
Эдипа шмыгнула в ванную, где был встроенный шкаф, быстро разделась и принялась напяливать на себя все, что могла, из привезенной с собой одежды: шесть разноцветных трусиков, пояс, три пары нейлоновых чулок, три бюстгальтера, две пары эластичных брюк, четыре нижних юбки, черное вечернее платье, два летних платья, полдюжины расклешенных юбок, три свитера, две блузки, стеганый халат, нежно-голубой пеньюар и гавайский балахон из орлонского акрила. Затем надела браслеты, брошки, серьги, кулон. Все это заняло, казалось, целую вечность, и, покончив с одеванием, Эдипа едва могла передвигаться. К тому же она совершила ошибку, глянув на себя в высокое зеркало, где отразился пляжный мячик с ножками, из-за чего расхохоталась так, что повалилась на пол, задев при этом стоявший на полочке баллончик с лаком для волос. Баллончик грохнулся об пол, что-то отлетело, из него вырвалась мощная струя распыленного лака, и баллон заметался по ванной, наполняя ее липучими ароматными клубами. Мецгер кинулся на помощь Эдипе, которая, катаясь по полу, пыталась встать на ноги. «Пресвятые угодники», – пропищал он голоском Малыша Игоря. Баллон, угрожающе шипя, отскочил от унитаза и просвистел буквально в четверти дюйма от уха Мецгера. Мецгер бросился на пол и прикрыл собой Эдипу. Баллончик продолжал как очумелый носиться по ванной; из комнаты доносились (крещендо) грохот морских орудий, пулеметов, гаубиц, винтовок и револьверов, крики и обрывки предсмертных молитв погибающих пехотинцев. Эдипа скользнула взглядом по прикрытым глазам Мецгера и уставилась на светильник под потолком, на фоне которого то и дело мелькал летающий баллончик, мощь которого казалась неистощимой. Она сжалась от страха, но ни капельки не протрезвела. Баллончик, казалось, знал, куда и зачем летит, как будто сложная траектория его метаний была заранее просчитана быстродействующей вычислительной машиной или самим Господом Богом; Эдипа, разумеется, не обладала такими способностями и лишь боялась, что этот летящий со скоростью сто миль в час снаряд в любой момент может попасть в нее или Мецгера. «Мецгер», – простонала она и впилась зубами в его обтянутое гладкой тканью предплечье. В воздухе стоял запах лака для волос. Баллончик ударил в зеркало и отскочил. Серебристое стекло на секунду застыло филигранным цветком и со звоном рухнуло в раковину, а баллончик понесся к душевой кабине, долбанул в панель из матового стекла и разнес ее вдребезги, затем срикошетил по трем кафельным стенам, взмыл к потолку, пролетел мимо светильника над двумя распростертыми телами – и все это в сопровождении жуткого шипения под невнятный грохот, доносившийся от телевизора. Казалось, этому не будет конца, однако внезапно баллончик иссяк на лету и упал на пол примерно в футе от Эдипиного носа. Она с опаской покосилась на него.
– Ни фига себе, – заметил чей-то голос. – Круто.
Эдипа разжала зубы, выпустив руку Мецгера, оглянулась и увидела в дверном проеме Майлза, паренька с челкой и в мохеровом пиджаке, правда почему-то учетверенного. Похоже, это и были «Параноиды» – группа, о которой он говорил. На взгляд Эдипы, они все были одинаковые, трое с гитарами, и у всех открыты рты. Она заметила и несколько девичьих мордашек, выглядывавших из-под мышек и коленок «Параноидов».
– Тут у них какая-то извращёнка, – сказала одна из девушек.
– Вы из Лондона? – поинтересовалась другая. – В Лондоне все так делают?
Лак для волос клубился, как туман, на полу сверкали осколки стекла.
– Господи помилуй, – подытожил парень с ключом от двери в руке, и Эдипа решила, что это и есть Майлз.
Затем он принялся увлеченно рассказывать о том, как на прошлой неделе побывал на оргии серфингистов, для которой потребовался пятигаллонный бочонок почечного сала, маленький автомобиль с откидным верхом и дрессированный тюлень.
– Мы явно проигрываем в сравнении, – сказала Эдипа, которой наконец удалось встать на ноги. – Так что почему бы вам всем не выйти на улицу и не спеть. Без хорошей музыки такие дела идут туго. Спойте нам серенаду.
– Может, – робко предложил один из «Параноидов», – попозже вы присоединитесь к нам у бассейна?
– Если нам станет действительно жарко, ребятки, – весело подмигнула им Эдипа.
Детки гуськом вышли из номера, предварительно понатыкав удлинители во все имеющиеся розетки во второй комнате и вытянув провода в окно.
Мецгер помог Эдипе встать на ноги.
– Так как насчет боттичелли на раздевание?
В другой комнате по телевизору гремела реклама турецких бань «Сераль Хогана», расположенных в центре Сан-Нарцисо, если там вообще имелся центр.
– Тоже собственность Инверарити, – заметил Мецгер. – Вы не знали?
– Садист, – заорала Эдипа, – еще раз заикнетесь, и я вам этот ящик на голову надену!
– Совсем злитесь, да? – улыбнулся он.
Не совсем.
– А что здесь, черт побери, не его собственность? – спросила она.
Мецгер многозначительно посмотрел на нее:
– Вам лучше знать.
Если бы она и захотела, то все равно не смогла бы, так как снаружи мощно грянули гитарные аккорды и «Параноиды» запели. Ударник рискованно взгромоздился на трамплин для прыжков в воду, остальных не было видно. Мецгер подошел сзади к Эдипе, намереваясь потискать ее груди, но не сразу обнаружил их под ворохом одежды. Они стояли у окна, слушая пение «Параноидов».
СЕРЕНАДА
- Я лежу на песке и смотрю на луну
- Над одиноким морем.
- Луна манит к себе одинокий прилив,
- Утешая меня только светом своим.
- Луна, неподвижная и безликая,
- Тщетно пляж украшает
- Жалким подобием дня,
- Мешая серость теней с белизной луча.
- Ты тоже лежишь сегодня одна,
- Как и я,
- В одинокой квартирке своей ты одна,
- И поэтому лучше
- Сдержи одинокий свой крик.
- Могу ли прийти я к тебе и луну загасить,
- Вспять прилив повернуть?
- Ночь стала еще темней, и я сбился с пути,
- И в душе моей мрак.
- Нет, я останусь один,
- Пока он не придет за мной,
- Пока не захватит он небо, и песок, и луну,
- И пустынное море,
- И пустынное море…
и т. д. [Затухание звука]
– Что теперь? – Эдипа слегка вздрогнула.
– Первый вопрос, – напомнил Мецгер.
В телевизоре лаял сенбернар. Эдипа бросила взгляд на экран и увидела, как Малыш Игорь, одетый турецким оборвышем, крадется со своей собакой по бутафорскому городу, который она приняла за Константинополь.
– Еще одна предыдущая часть? – с надеждой спросила она.
– Вопрос не принимается, – сказал Мецгер.
На пороге «Параноиды» оставили бутылку «Джека Дэниелса», как некоторые оставляют молоко, дабы умилостивить лепреконов.
– Ого, – обрадовалась Эдипа и налила себе выпить. – Малыш Игорь добрался до Константинополя на славной субмарине «Жюстин»?
– Нет, – ответил Мецгер.
Эдипа сняла серьгу.
– Он добрался туда на этой – как вы там ее назвали? – подводной лодке класса Е?
– Нет.
Эдипа сняла вторую серьгу.
– Он добрался туда по суше, возможно через Малую Азию?
– Возможно, – сказал Мецгер.
Эдипа сняла еще одну серьгу.
– Третья серьга? – спросил Мецгер.
– Если я вам отвечу, вы что-нибудь снимете?
– Сниму, даже если не ответите! – загоготал Мецгер, сбрасывая пиджак.
Эдипа еще раз наполнила свой стакан, а Мецгер приложился к бутылке. Затем Эдипа минут пять не отрываясь смотрела фильм, забыв о том, что должна задавать вопросы. Мецгер с серьезным видом снял брюки. На экране отец, судя по всему, предстал перед военно-полевым судом.
– Ага, – обрадовалась она, – опять перестановка частей. Здесь его с позором увольняют со службы, ха-ха.
– Может, он просто вспоминает прошлое, – сказал Мецгер. – А может, его судили дважды.
Эдипа сняла браслет. И пошло-поехало: на экране сменялись эпизоды, Эдипа одну за другой снимала с себя надетые вещи, что, казалось, нисколько не приближало ее к наготе, и все это перемежалось выпивкой и сопровождалось непрерывным шивари[40], доносившимся под аккомпанемент гитар со стороны бассейна. Периодически фильм прерывался рекламой, и тогда Мецгер изрекал: «Собственность Инверарити» или «Контрольный пакет акций», а потом просто стал молча кивать и улыбаться. При этом Эдипа бросала на него злобные взгляды, все больше проникаясь мыслью – несмотря на боль, начинавшую пульсировать в висках, – что из всех возможных комбинаций новых любовников только им удалось найти способ замедлить ход времени. В голове у нее все туманилось и мутилось. В какой-то момент она зашла в ванную, попыталась взглянуть на себя в зеркало и не обнаружила своего отражения. На миг ее охватил безмерный ужас. Но она быстро вспомнила, что зеркало разбилось, рухнув в раковину. «Теперь семь лет невезения, – громко сказала она. – Мне будет тридцать пять». Закрыв за собой дверь, она воспользовалась случаем и почти машинально напялила на себя еще пару юбок, пояс и две пары длинных носков. Ей вдруг пришло в голову, что с восходом солнца (если оно вообще взойдет) Мецгер испарится. Она толком не знала, хочется ли ей, чтобы он исчез. Вернувшись в комнату, она обнаружила, что Мецгер в одних трусах спит на полу, с восставшим членом под трусами и головой под диваном. Эдипа также заметила его довольно толстое брюшко, прежде скрытое костюмом. На экране новозеландцы и турки кололи друг друга штыками. Эдипа вскрикнула и бросилась к Мецгеру, повалилась на него и принялась целовать, пытаясь разбудить. Он открыл лучистые глаза, пронзил ее взглядом, и она словно почувствовала укол где-то между грудями. Она опустилась на пол рядом с ним, вздохнув с огромным облегчением, и вся ее ригидность испарилась, словно волшебная жидкость. Эдипа вдруг так ослабела, что ничем не могла помочь Мецгеру, которому пришлось самому раздевать ее; минут двадцать он крутил и поворачивал ее туда-сюда – эдакая коротко остриженная, широкоскулая девочка-переросток, играющая с куклой Барби. В процессе раздевания Эдипа пару раз засыпала. Проснувшись в очередной раз, она обнаружила, что Мецгер уже приступил к половому акту; она легко присоединилась к сексуальному крещендо – словно в монтажном переходе к сцене, снятой движущейся камерой. Снаружи возобновилась гитарная фуга; Эдипа попыталась сосчитать количество доносящихся электронных голосов: получалось не меньше пяти, хотя она точно помнила, что только трое «Параноидов» были с гитарами; должно быть, остальные шли в записи.
Так оно и было. Эдипа и Мецгер кончили одновременно, и в момент оргазма во всем номере внезапно отключилось электричество: погас свет, телевизор заглох, экран потух и почернел. Странное было ощущение. По-видимому, «Параноиды» перестарались, и в номере вышибло пробки. Когда вскоре зажегся свет, Эдипа и Мецгер все еще лежали обнявшись посреди разбросанной по всей комнате одежды, вдыхая запах пролитого бурбона, а на экране телевизора вновь возникли Малыш Игорь, его отец и собака – на сей раз в полутемной рубке «Жюстин», где неумолимо поднимался уровень воды. Первым утонул пес, выпустив облако пузырей. Затем камера крупным планом показала плачущего Малыша Игоря, его руку на пульте управления. Тут где-то в цепи произошло короткое замыкание, и электрический разряд поразил малыша, который успел лишь судорожно дернуться и испустить пронзительный вопль. В силу известного голливудского пренебрежения правдоподобием отец был избавлен от убиения электрическим током, дабы произнести прощальную речь, попросить прощения у Малыша Игоря и сенбернара за то, что вовлек их в эту гибельную авантюру, и посетовать на то, что им не суждено встретиться на небесах: «Последний раз ты видел своего папочку, малыш. Тебе предстоит отправиться в рай, а мне суждено гореть в аду». В финале крупным планом возникло его искаженное страданием лицо на фоне оглушительного рева хлещущей в пробоину воды, который затем сменился этой странной киномузыкой тридцатых годов с играющими в унисон чуть ли не десятком саксофонов, и на экране появилась надпись: «Конец».
Эдипа вскочила на ноги, отбежала к противоположной стене и, повернувшись, злорадно посмотрела на Мецгера.
– Они погибли! – выкрикнула она. – Так-то, паршивец, я выиграла.
– Ты выиграла меня, – улыбнулся Мецгер.
– Так что тебе про меня сказал Инверарити? – спустя какое-то время спросила она.
– Что с тобой придется попотеть.
Эдипа заплакала.
– Иди ко мне, – позвал Мецгер. – Ну, иди же.
Выдержав паузу, она сказала:
– Иду.
И вернулась к нему.
Глава третья
Неожиданности не заставили себя ждать. Если за открытием системы Тристеро (или просто Тристеро, как она ее обозначила в качестве кодового наименования) скрывалось то, что должно было положить конец ее заточению в магической башне, тогда, рассуждая логически, началом этого процесса должна была стать измена мужу с Мецгером. Логически. Возможно, это Эдипу больше всего и тревожило: все увязывалось логически. И чувствовалось (она уловила это с первой минуты пребывания в Сан-Нарцисо), что ее всюду ждут новые откровения.
Больше всего открытий обещала оставшаяся от Пирса коллекция марок, которая нередко заменяла Пирсу саму Эдипу, – тысячи маленьких разноцветных окон, уводящих в глубины пространства и времени: саванны, кишащие антилопами и газелями, галеоны, плывущие на запад и уходящие в никуда, портреты Гитлера, закаты, ливанские кедры, никогда не существовавшие лица-аллегории, – Пирс мог рассматривать их часами, напрочь забыв об Эдипе. А Эдипу марки нисколько не увлекали. Мысль о том, что теперь все это придется разобрать и оценить, вызывала головную боль. Не могли они ничего рассказать, у нее даже и подозрения такого не возникло. И если бы ее специально не подготовили, сперва обострив чутье специфической манерой соблазнения, а потом закрепив его различными как бы случайностями, что вообще могли рассказать ей безмолвные марки, эти былые соперницы, обманутые, как и она, смертью и готовые разойтись по разным лотам, начав путь к новым владельцам, несть им числа?
Чутье у Эдипы стало резко обостряться, то ли когда пришло письмо от Мучо, то ли когда они с Мецгером забрели в странный бар под названием «Граф». Эдипа не могла вспомнить, что было раньше. В самом письме ничего особенного не было, оно пришло в ответ на одну из более или менее бессвязных писулек, которые она добросовестно посылала ему дважды в неделю, но об оказии с Мецгером умалчивала, поскольку чуяла, что Мучо и так узнает. И отправится на танцевальный вечер, устроенный его радиостанцией в спортивном зале, и там на одной из гигантских замочных скважин, вычерченных на блестящем полу баскетбольной площадки, высмотрит смазливую девчонку, неуклюже размахивающую руками в попытке сохранить равновесие на каблуках, которые делают ее на дюйм выше любого парня, какую-нибудь Шерон, Линду или Мишель, семнадцатилетнюю спелую ягодку, чьи бархатные глазки в конце концов неизбежно встретят взгляд Мучо, и далее все будет развиваться банальнее некуда, поскольку обнаружится, что мысль о сексе с малолеткой никак не желает покинуть закоулки законопослушного разума. Такое уже случалось, и схема была известна, хотя Эдипа была весьма щепетильна и упомянула об этом, по сути, только раз, опять же часа в три ночи и совершенно с бухты-барахты спросив, боится ли Мучо статьи Уголовного кодекса. «Конечно», – только и ответил Мучо после короткой паузы, но в его тоне она услышала нечто среднее между раздражением и мукой. Она еще подумала, не отразится ли это ее любопытство на дальнейших делах постельных. Будучи когда-то семнадцатилетней и готовой посмеяться практически над чем угодно, она затем оказалась побежденной, скажем так, нежностью, которой больше не позволила себя обуять, дабы не засосало безвозвратно. От дальнейших расспросов она воздержалась. Это был удобный предлог, как и прочие объяснения их неспособности найти общий язык.
Видимо, интуитивно почувствовав, что внутри конверта ничего нового не обнаружится, Эдипа обратила более пристальное внимание на его внешний вид. Поначалу ничего не заметила. Обычный конверт, позаимствованный Мучо на радиостанции, штемпель, обычная марка, слева объявление почтового ведомства: «Обо всех непристойных посланиях сообщайте вашему путчмейстеру». Прочитав это, она принялась лениво просматривать письмо Мучо, отыскивая в нем ругательства.
– Мецгер, – вдруг дошло до нее, – кто такой путчмейстер?
– Горячий парень в фуражке, – авторитетно ответил Мецгер из ванной. – Как что не по нему, выводит танки к парламенту.
Эдипа швырнула в него лифчиком.
– Мне предлагают, – сказала она, – сообщать обо всех непристойных посланиях моему путчмейстеру.
– Да ладно тебе, опечатались и опечатались, – отозвался Мецгер. – С федералами это бывает, ну и подумаешь. Лишь бы сапог на пульт не кинули.
Наверное, это было в тот же вечер, когда они заглянули в «Граф» – бар на дороге в Лос-Анджелес, неподалеку от завода «Йойодина». Дело в том, что в мотеле «Эхо» культурно уединиться вечерком зачастую просто не представлялось возможным – то ли из-за тишины у бассейна и прозрачности окон, которые на него выходили, то ли из-за обилия юных вуайеров, вооруженных ключами-вездеходами, как у Майлза, позволявшими им беспрепятственно подглядывать за любым экзотическим сексуальным действом. Дошло до того, что у Эдипы и Мецгера выработалась привычка затаскивать матрац в стенной шкаф, где Мецгер сначала подпирал дверь комодом, вынимал из комода нижний ящик и водружал сверху, а в освободившееся пространство просовывал ноги – только так он мог вытянуться в шкафу во весь рост, но к этому моменту, как правило, утрачивал интерес к главному делу.
«Граф» оказался излюбленной забегаловкой йойодиновских электромонтажников. Зеленая неоновая вывеска весьма остроумно изображала экран осциллографа, на котором беспрерывно плясали фигуры Лиссажу[41]. Вероятно, в тот день была получка, поскольку в баре все были уже пьяны. Провожаемые недобрыми взглядами, Эдипа и Мецгер нашли столик в углу. Материализовался морщинистый бармен в темных очках, и Мецгер заказал бурбон. Эдипа, оглядывая бар, нервничала все больше. Что-то было не так в этой пьяной толпе: все были в очках и все молча глазели на нее. За исключением двух-трех человек у двери; у тех проходил матч по сморканию – состязались, кто дальше стрельнет соплей через комнату.
Из некоего подобия музыкального автомата в дальнем углу комнаты вырвался хор визгов и гиканий. Все разговоры смолкли. На цыпочках вернулся бармен, неся выпивку.
– Что случилось? – прошептала Эдипа.
– Это Штокхаузен[42], – объяснил ей унылый седобородый битник. – Ранние пташки все больше хавают «Радио Кёльна». Позже оттопыримся по-настоящему. Мы единственный бар в округе, который жестко проводит политику электронной музыки, сечете? Приходите в субботу, в полночь начнется Синусоидальный сейшн, все вживую, народ на джем съезжается со всего штата – из Санта-Барбары, Сан-Хосе, Сан-Диего…
– Вживую? – удивился Мецгер. – Электронная музыка – вживую?
– Они пишут ее прямо здесь, старик, живьем. У нас целый чулан генераторов, дальнобойных колонок, контактных микрофонов – все есть, старик. Так что если у тебя нет своей бумкалки, но ты рубишь в этих вещах и хочешь лабать с прочими чуваками – там есть все, что нужно.
– Спасибо, не надо, – сказал Мецгер с победительной ухмылкой Малыша Игоря.
Хрупкий юноша в костюме из водоотталкивающей ткани скользнул на соседнее место, представился Майком Фаллопяном и принялся агитировать за какое-то Общество Пингвиса Пекера.
– Так ты с этими ультраправыми параноиками? – спросил дипломатичный Мецгер.
Фаллопян моргнул:
– Они обвиняют нас в том, что мы параноики.
– Они? – спросил Мецгер, моргая в ответ.
– Нас? – не поняла Эдипа.
Общество было названо в честь офицера, командовавшего «Рассерженным» – военным кораблем конфедератов; в начале 1863 года Пингвис Пекер вышел в море, лелея дерзкий план обогнуть мыс Горн, высадить десант в Сан-Франциско и таким образом открыть второй фронт в Войне за независимость Юга. Штормы и цинга разметали и расхолодили все суда эскадры, кроме маленького и задорного «Рассерженного», который объявился у берегов Калифорнии примерно год спустя. Однако коммодор Пингвис Пекер не знал, что русский царь Николай II отправил Дальневосточный флот – четыре корвета и два клипера под командованием контр-адмирала Попова – в залив Сан-Франциско, рассчитывая (помимо прочего) помешать Британии и Франции выступить на стороне конфедератов. Худшего времени для штурма Сан-Франциско Пингвис Пекер выбрать не мог. Той зимой ходили слухи, что конфедератские крейсеры «Алабама» и «Самтер»[43] действительно готовятся атаковать город, и русский адмирал под свою ответственность привел Тихоокеанскую эскадру в полную боевую готовность на случай, если таковая попытка будет предпринята. Но крейсеры, похоже, предпочитали лишь крейсировать. Попов тем не менее периодически выходил на разведку. До сих пор неясно, что же произошло 9 марта 1864 года, в день, ставший священным для всех членов Общества Пингвиса Пекера. Попов выслал то ли корвет «Богатырь», то ли клипер «Гайдамак» посмотреть, что там видно на море. То ли возле города, известного нынче как Кармел-у-моря, то ли на берегу, где сейчас Пизмо-Бич[44], ближе к вечеру, а может, в сумерки корабли заметили друг друга. Возможно, один из них выстрелил, в этом случае другой ответил; но дистанция была слишком велика, и ни на том ни на другом впоследствии не обнаружилось ни царапины. Наступила ночь. Утром русский корабль исчез. Точнее, исчезновение было взаимным. Если верить выдержкам из вахтенного журнала «Богатыря» или «Гайдамака», отправленного в апреле генерал-адъютанту в Петербург и хранящегося ныне где-то в Красном архиве, в ту ночь пропал как раз «Рассерженный».
– Это нас не колышет, – пожал плечами Фаллопян. – Священного Писания мы из этого не делаем. Из-за чего теряем очки в Библейском поясе[45], где могли бы добиться большего успеха. В старой доброй Конфедерации. Ведь это было самое первое военное противостояние России и Америки. Удар, ответ, оба снаряда пролетают мимо, а Тихий океан тихо катит свои волны. Но круги от двух всплесков расходились все шире – и сегодня волна захлестывает нас. Пингвис Пекер – вот кто был нашей первой настоящей потерей. А не тот фанатик, которого наши друзья слева из Общества Джона Берча выбрали в мученики[46].
– Значит, коммодор погиб? – спросила Эдипа.
Много хуже, по мнению Фаллопяна. После этой конфронтации, ужаснувшись возможности военного союза между аболиционистской Россией (в 1861 году Николай отменил крепостное право) и Северо-Американскими Штатами, которые на словах поддерживали аболиционистов, сковывая в то же время своих индустриальных рабочих цепями рабства финансового, Пингвис Пекер неделями сидел в своей каюте и размышлял.
– Выглядит так, – запротестовал Мецгер, – будто он был против индустриального капитализма. А это сразу и напрочь выводит его из рядов антикоммунистов, верно?
– Вы рассуждаете как берчевец, – сказал Фаллопян. – Хорошие дяди и плохие дяди. Истинная правда вам недоступна. Конечно, он был против индустриального капитализма. Как и мы. А капитализм неизбежно ведет к марксизму, правильно? В основе кошмар тот же, разные только ипостаси.
– Как и что бы то ни было индустриальное, – рискнул предположить Мецгер.
– Вот именно, – кивнул Фаллопян.
– Что случилось с Пингвисом Пекером? – настаивала Эдипа.
– В конце концов он вышел в отставку. Вопреки своему воспитанию и кодексу чести. Линкольн и царь принудили его. Вот что я имел в виду, говоря о потерях. И он, и большая часть команды осели вблизи Лос-Анджелеса; практически весь остаток жизни он провел, приумножая свое состояние.
– Как грустно, – сказала Эдипа. – И чем занимался?
– Спекулировал недвижимостью в Калифорнии, – ответил Фаллопян.
Эдипа поперхнулась выпивкой, брызнула сверкающими бисерными капельками на добрых десять футов и зашлась хохотом.
– Ха! – сказал Фаллопян. – В том году была такая засуха, что участки в центре Лос-Анджелеса можно было купить по шестьдесят три цента за штуку.
У двери раздался мощный рев, и к возникшему на пороге пухлому юноше с почтовой сумкой через плечо хлынула масса тел. «Почта!» – ревела толпа. Это было прямо как в армии. Пухлый паренек со смущенным видом вскарабкался на стойку бара и, выкрикивая имена, принялся бросать в толпу конверты. Фаллопян извинился и присоединился к остальным.
Мецгер выудил очки и, прищурившись, рассмотрел парня на стойке.
– У него значок «Йойодина», – сообщил он. – Что ты на это скажешь?
– Какая-нибудь корпоративная рассылка, – предположила Эдипа.
– В такое время?
– Наверно, вечерняя смена.
Но Мецгер лишь нахмурился. Эдипа пожала плечами.
– Я скоро, – сказала она и направилась в туалет.
На стене уборной среди губнопомадной похабщины она заметила карандашное послание, написанное аккуратным чертежным шрифтом:
Интересуют утонченные забавы? Ты, муженек, девочки. Чем больше, тем веселее. Спроси Кирби; связь только через ПОТЕРИ, отделение 7391, Л. А.
ПОТЕРИ? Эдипа заинтересовалась. Под надписью был едва заметно начертан символ, какого она прежде никогда не видела, круг, треугольник и трапеция, вот такой:
Скорее всего, что-то сексуальное, но уверенности у Эдипы не было. Она достала из сумочки ручку, переписала адрес в записную книжку и срисовала символ, подумав при этом: мать честная, иероглифы. Когда она вышла, Фаллопян уже вернулся и сидел со странным выражением лица.
– Вообще-то, вы не должны были это увидеть, – сказал он.
В руках у него был конверт. На месте для почтовой марки Эдипа увидела отпечатанные на машинке литеры «ЧПС»[47].
– Понятно, – сказал Мецгер. – Доставка почты – монополия государства. А вы против этого.
Фаллопян криво ухмыльнулся.
– Не такой уж это большой мятеж, как кажется. Мы используем внутриведомственную почту «Йойодина». Тишком. Но почтальонов найти трудно, и подолгу никто не задерживается. У ребят плотное расписание, они нервничают. Служба безопасности фабрики чует, что крутятся какие-то дела. Держит ухо востро. Де Витт, – он указал на пухлого паренька, которого теребили, стаскивали со стойки и предлагали выпивку, не слушая отказов, – самый нервный из всех в этом году.
– И насколько широк охват? – поинтересовался Мецгер.
– Только в пределах нашего отделения в Сан-Нарцисо. Похожую вещь пробуют сейчас в Вашингтонском отделении и, кажется, в Далласе. Но в Калифорнии мы пока одни на весь штат. Некоторые из наших более состоятельных корреспондентов оборачивают своими письмами кирпичи, пакуют все это в оберточную бумагу и посылают экспрессом по железной дороге, но я думаю…
– Что они вроде как отмазываются, – посочувствовал Мецгер.
– Это дело принципа, – сказал Фаллопян, словно оправдываясь. – Чтобы обеспечить разумный объем почтовых отправлений, каждый должен посылать по крайней мере одно письмо в неделю через «Йойодин», иначе взимается штраф.
Он развернул письмо и показал Эдипе с Мецгером.
«Дорогой Майк, – гласило послание, – как ты? Решил вот письмецо тебе черкнуть. Как продвигается книга? Пожалуй, на сегодня все. Увидимся в „Графе“».
– По большей части, – горько признался Фаллопян, – вот такая ерундистика.
– А что там насчет книги? – спросила Эдипа.
Выяснилось, что Фаллопян пишет историю частных почтовых компаний Соединенных Штатов, пытаясь увязать Гражданскую войну с реформой почты, которая началась где-то в 1845 году. Он считал маловероятным совпадением, что именно в 1861 году федеральное правительство так обрушилось на независимые почтовые компании, которые уцелели после всех постановлений 45-го, 47-го, 51-го и 55-го годов, призванных довести любых конкурентов в этой области до разорения. Фаллопян видел в этом путь всякой власти: становление, развитие и систематическое злоупотребление, – но в тот вечер не стал углубляться в детали. Собственно, в первую встречу Эдипе запомнились только его хрупкое сложение, аккуратный армянский нос и некоторое сходство его зеленых глаз с неоновой рекламой.
Вот так и начала проявляться перед Эдипой система Тристеро, подобно зловещему, медленно раскрывающемуся цветку. Точнее, так Эдипа попала на уникальный спектакль, где разыгрывался дополнительный акт для тех, кто решил остаться, если пьеса затянется до утра. Словно обнажались формы истории, скрытые выходными платьями, набедренными повязками, сетчатыми бюстгальтерами и украшенными драгоценными камнями подвязками, облегавшими ее фигуру так же плотно, как ворох одежды облегал Эдипу во время сближения с Мецгером, когда они смотрели фильм про Малыша Игоря; словно и впрямь требовалось погружение в долгие мутные, непроглядные предрассветные часы, чтобы система Тристеро смогла предстать во всей своей ужасающей наготе. Может, она улыбнется, потом застесняется, перейдет к безобидному закулисному флирту, затем пожелает спокойной ночи, галантно поклонится и оставит Эдипу в покое? Или, напротив, после окончания танца спустится в зал, горящий взгляд остановится на Эдипе, улыбка, ставшая злобной и безжалостной, пригвоздит ее к месту, одну среди рядов пустых кресел, – и польются слова, которых Эдипа никак не желала слышать.
Начало представления Эдипа помнила вполне отчетливо. Это было, когда они с Мецгером дожидались оформления документов на официальное представительство в Аризоне, Техасе, Нью-Йорке и Флориде, где Инверарити торговал недвижимостью, а также в Делавэре, где его корпорация была зарегистрирована[48]. Эдипа и Мецгер решили провести выходной в Лагунах Фангосо, на одном из последних крупных строительных проектов Инверарити; за ними увязались «Параноиды» Майлз, Дин, Серж и Леонард с подружками, которые набились кучей в машину с открытым верхом. Поездка прошла без приключений, если не считать двух или трех эксцессов, связанных с Сержем, который вел машину, занавесив себе обзор длинной челкой. Наконец его уговорили передать руль одной из девушек. Где-то за сплошной чередой деревянных чистеньких трехспаленных домиков, тысячами проплывавших мимо, пока они неслись через темно-бежевые холмы, скрытое едким смогом, отсутствовавшим в дремотном и удаленном от побережья Сан-Нарцисо, пряталось море; тот самый невообразимый Тихий океан, которому не было дела до всяких серфингистов, пляжных домиков, канализационных систем, нашествий туристов, загорающих гомосексуалистов и чартерной рыбной ловли, – огромная яма и памятник уходу оторвавшейся Луны; не слышалось шума, не чуялось запаха, но океан был там; отдельные участки мозга, минуя глаза и барабанные перепонки, вдруг начинали регистрировать какой-то приливно-отливный процесс, которого не мог уловить даже самый тонкий микроэлектрод. Еще задолго до выезда из Киннерета Эдипа уверовала в некий принцип, согласно которому океан нес искупление грехов Южной Калифорнии (разумеется, не той части, где жила она сама, поскольку там, похоже, все было в порядке); в ней билась подспудная мысль о том, что, как бы мы ни резвились у его берегов, истинный океан остался неоскверненным, целостным и способным даже у берега обратить любое безобразие в более общую истину. Но возможно, это было лишь впечатление, бесплодная надежда, возникшая в тот день, когда они предприняли свой бросок к морю, который застопорится в изрядном отдалении от берега.
Миновав землеройные машины, они въехали в абсолютно безлесную местность – обычный священный рельеф – и, петляя по лихой песчаной спирали, наконец спустились к скульптурным очертаниям водного пространства, именуемого озером Инверарити. Посреди него, на круглом искусственном острове, омываемом легкими голубыми волнами, чужеродно торчало здание Зала собраний – коренастая сводчатая и бледно-зеленая реконструкция европейского казино в стиле ар-нуво[49]. Эдипа тут же в нее влюбилась. «Параноиды» выгрузились из машины, волоча за собой инструменты и дико озираясь, словно надеясь найти в белой песчаной колее розетки, куда их включить. Эдипа вынула из багажника «импалы» корзинку холодных сэндвичей с баклажанами пармиджано из итальянской забегаловки, а Мецгер выволок чудовищных размеров термос с коктейлем текила-сауэр. Беспорядочной толпой двинулись они по берегу к маленькой бухточке, где стояли суденышки тех владельцев, которым не досталось места у моря.
– Чуваки, – завопил Дин, а может, Серж, – давайте сопрем катер!
– Давайте, давайте! – завизжали девчонки.
Мецгер закрыл глаза и споткнулся о старый якорь.
– Чего бродишь с закрытыми глазами, Мецгер? – спросила Эдипа.
– Воровство, – ответил Мецгер. – Возможно, им понадобится адвокат.
Среди прогулочных катеров, привязанных вдоль пирса, как выводок поросят, раздалось хрюканье мотора и появился дымок, указывающий, что «Параноиды» действительно завели чью-то лодку.
– Валите сюда! – звали они.
Внезапно – десятком катеров дальше – поднялось нечто, закутанное в голубой полиэтилен.
– Малыш Игорь, – произнесло оно, – помоги мне.
– Знакомый голос, – сказал Мецгер.
– Скорей, – поторопил полиэтилен, – пусти меня с вами прокатиться.
– Быстро, быстро! – кричали «Параноиды».
– Мэнни Ди Прессо, – кисло представил фигуру Мецгер.
– Твой приятель, актер-юрист, – вспомнила Эдипа.
– Не так громко, – попросил Ди Прессо, крадучись пробираясь к ним со всей ловкостью, на какую способен полиэтиленовый конус. – Они следят. С биноклями.











