Читать онлайн Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут
- Автор: Анатоль Франс
- Жанр: Литература 20 века, Зарубежная классика
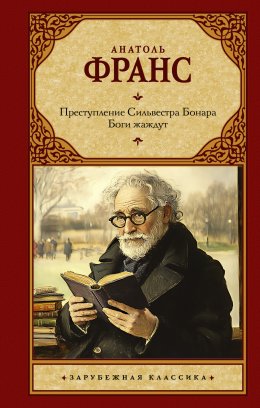
Перевод с французского
Е. Корша («Преступление Сильвестра Бонара»),
Б. Лившица («Боги жаждут»)
© Перевод. Е. Корш, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Преступление Сильвестра Бонара
Первая часть
Полено
24 декабря 1861 года
Я переоделся в халат и надел туфли; отер слезу, навеянную мне на набережной холодным, резким ветром. Яркий огонь пылал в камине, озаряя мой кабинет. Ледяные узоры листьями папоротника распустились на оконных стеклах, скрыв от меня Сену, ее мосты и Лувр Валуа.
Придвинув кресло и столик ближе к топке, я занял у огня место, милостиво оставленное мне Гамилькаром. Перед решеткою камина, на перинке, клубком свернулся Гамилькар, уткнувшись носом в лапы. Густой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав: «Ничего, то друг».
– Гамилькар, – обратился я к нему, вытягивая ноги, – Гамилькар, дремлющий принц обители книг и ночной страж, ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря скромным сбережениям и неослабному усердию. Среди безмолвия библиотеки, хранимой твоими воинскими доблестями, Гамилькар, спи в неге, подобно султанше: ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с дебелой прелестью восточной женщины. Героический и сластолюбивый Гамилькар, спи до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед Acta Sanctorum[1] ученых боландистов.
Начало этой речи понравилось Гамилькару, вторившему горловым звуком, похожим на клокотанье чайника. Но как только я возвысил голос, Гамилькар, приложив уши и морща полосатый лоб, предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна.
Он мыслил:
«Этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза произносит слова, всегда исполненные смысла, полные реальности, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь. Этот же старик соединяет звуки, не значащие ничего».
Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэра Томаса Ралея, господином Томпсоном, грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию и дипломатику: он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Поэтому, быть может, его чтение рождает во мне чувство, какое в натуре, одаренной большим воображеньем, следовало назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданью своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает г-н Кокоз.
Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста – жалкий, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы. Но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, вид имел больной. При взгляде на него я мысленно представил себе-раненую белку. Под мышкой он принес зеленый сверток и водрузил его на стул, затем, развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек.
– Сударь, – сказал он, – я не имею чести быть вам знакомым. Я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и, в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок.
Боги милостивые! Боги праведные! Что за новинки предложил мне гомункул Кокоз! Первый том, врученный мне, оказался «Историей Нельской башни» с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана.
– Это книга историческая, – сказал он улыбаясь, – история правдивая.
– В таком случае она скучна, – ответил я, – ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу книги правдивые, но если б, на свое несчастье, вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, желающей купить такую книгу.
– Разумеется, сударь, – ответил мне человечек чисто из любезности и, продолжая улыбаться, показал мне «Любовь Элоизы и Абеляра»; но я дал ему понять, что в моем возрасте не до любовных приключений.
Все еще с улыбкой, он предложил мне «Правила игр в обществе»: пикет, безик, экарте, вист, шашки, шахматы и кости.
– Увы, – сказал я, – если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер до той поры, когда пять академий торжественно свезли его в могилу, или низведите до вздорности игр человеческих серьезный ум Гамилькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного участника моих досужих вечеров.
Улыбка человечка стала бледной и тревожной.
– Вот, – сказал он, – новый сборник развлечений в обществе: шутки, каламбуры и способ превращать красную розу в белую.
Я ответил, что розы уже давно со мною не в ладах, а шутки – с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в моих научных изысканиях, помимо своей воли.
Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней улыбкой:
– Вот «Сонник», разъясняющий всевозможные сны: о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни. Это самый полный.
Я взял каминные щипцы и, оживленно помахивая ими, ответил моему коммерческому гостю:
– Да, мой друг, но эти сны, как тысяча других, веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному – сну жизни; а даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?
– Да, сударь, – ответил гомункул. – Книга самая полная и недорогая: франк двадцать пять сантимов.
Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что я сказал те именно слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике. Но если разговор был не совсем таким, то таков был его смысл.
Я кликнул домоправительницу, так как звонка в моей квартире нет.
– Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза; а впрочем, у него есть книга, быть может интересная для вас. Это «Сонник». Буду счастлив принести его вам в дар.
Тереза ответила:
– Коли нет времени грезить наяву, так уж во сне-то и подавно, слава Богу! У меня – довлеет дневи злоба его, а злобе – день, и каждый вечер могу сказать: «Господи, благослови меня, отходящую на покой». Не вижу снов ни стоя, ни лежа и не принимаю свой пуховик за черта, как то случилось с моей родственницей. А ежели разрешите мне иметь свое мнение, скажу, что книг здесь и так достаточно: у барина их не одна тысяча, и от этих-то голова у него идет кругом, а с меня хватит и моих двух – молитвенника да поваренной книги.
Высказав это, Тереза помогла человечку запаковать в зеленую саржу его товар.
Гомункул Кокоз больше не улыбался. В поникших чертах его лица явилось выражение такого страдания, что я раскаялся в своих насмешках над столь несчастным человеком. Я вернул его, сказав, что краем глаза подметил у него экземпляр «Истории Этели и Неморена», что очень люблю пастухов и пастушек и охотно бы купил за сходную цену историю этих двух идеальных любовников.
– Я отдам вам эту книгу за франк двадцать пять, – ответил мне Кокоз с сияющим от радости лицом. – Это историческая книга, вы будете довольны. Теперь я знаю, что вам подходит. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам «Папские преступления». Это хорошее произведение. Доставлю любительский экземпляр, с рисунками в красках.
Я попросил его не беспокоиться, но все же он ушел довольный. Когда зеленый узел вместе с книгоношей исчез во мраке коридора, я спросил домоправительницу, откуда к нам свалился этот жалкий человечек.
– Подлинно, что свалился, – ответила она. – К нам он свалился из-под крыши, где живет с женой.
– Вы говорите, Тереза, – у него жена? Чудно! Женщины престранные создания. Наверно, это плохонькая женщина.
– Хорошо не знаю, какова она, – ответила Тереза, – но вижу каждый божий день, как она треплет по лестнице свои шелковые платья в сальных пятнах. Глаза у нее так и светятся, а, по чести говоря, разве такие глаза и шелковые платья подобают женщине, которую приютили тут из милосердия? И на чердак-то их пустили только на время, пока чинится крыша, пожалев, что муж больной, а жена в интересном положении. Привратница еще сегодня говорила про нее, что она с утра почувствовала боли и сейчас уложили ее в постель. Очень им нужен этот ребенок!
– Тереза, он, несомненно, им не нужен, но природа захотела, чтобы они произвели ребенка; она поймала их в свою ловушку. Нужно примерное благоразумие, чтобы избегнуть хитростей природы. Так пожалеем их и не станем поносить. А что до шелковых платьев, то нет женщины, которая бы не любила их. Дщери Евы любят наряды. Вы сами, Тереза, такая степенная, разумная, – а какой крик вы поднимаете, если не окажется у вас белого фартука, когда вам надо подавать к столу. Скажите-ка, а есть ли у них на чердаке самое необходимое?
– Ну откуда у них быть? Муж, что вы видели, был агентом по ювелирной части, как сказывала мне привратница, и неизвестно, почему он бросил продавать часы. Теперь торгует альманахами. Разве это честное занятие? И никогда я не поверю, что Бог дарует свое благословение торговцу альманахами. А, между нами, жена его, судя по всему, – дрянь: где день, где ночь. Сдается мне, она годна воспитывать ребенка, как я – играть на гитаре. Невесть откуда взялось все это, но только я уверена, что прибыли они по Нищей дорожке из Беззаботной стороны.
– Откуда бы ни прибыли они, но это бедняки, Тереза, а на чердаке холод.
– Еще бы! Крыша прохудилась в нескольких местах, и дождевая вода по швам проходит на чердак. У них нет ни белья, ни мебели. Ни столяр, ни ткач не работают, думается мне, на христиан из этой братии.
– Это очень печально, Тереза. И вот вам – христианка, а обеспечена необходимым хуже, чем этот язычник Гамилькар. Что говорит она сама?
– С такими людьми я никогда не разговариваю. Не знаю ни что она говорит, ни что она поет. А поет она целый день. Я слышу ее с лестницы, и когда ухожу и когда возвращаюсь к себе домой.
– Ну что ж! Наследник Кокоза мог бы сказать, как яйцо в деревенской загадке: «Мать родила меня с песней». Подобный же случай был и с Генрихом Четвертым. Жанна д’Альбре, почувствовав родовые боли, запела старинное беарнское песнопение:
- Божья Матерь с конца моста,
- Помоги мне в этот час.
- Проси у Бога родов счастливых
- И даровать мальчишку мне.
Конечно, производить на свет несчастных неразумно. Но, милая моя Тереза, это происходит ежедневно, и всем философам мира не удастся изменить этот глупый обычай. Госпожа Кокоз ему последовала и поет. Скажите-ка, Тереза, вы готовили сегодня суп?
– Да, сударь, я поставила его, и сейчас самое время пойти снять пену.
– Очень хорошо! Но не преминьте, Тереза, отлить из котелка добрую мисочку бульона и отнести ее нашей сверхсоседке, госпоже Кокоз.
Моя домоправительница было ушла, но я добавил весьма кстати:
– Тереза, прежде всего будьте добры позвать вашего приятеля дворника: накажите ему взять в нашем дровяном сарае хорошую вязанку дров и отнести ее к Кокозам на чердак. И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено – настоящее рождественское полено. Что же касается гомункула, прошу вас, если он придет опять, не пускать дальше моей двери – ни самого, ни желтых его книжек.
Сделав эти мелкие распоряжения с утонченным эгоизмом старого холостяка, я снова принялся за чтение каталога.
С каким волнением, с каким смятением, с какой тревогою нашел я там заметку, которую я даже не могу переписать без трепета в руке:
Златая легенда Якова Генуэзца (Якова Ворагинского), французский перевод, маленькое in quarto.
Эта рукопись XIV века, кроме довольно полного перевода известного Якова Ворагинского, содержит: 1) жития святых – Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея; 2) поэму «О чудесном погребении святого Жермена Осэрского». Перевод житий и поэма принадлежат перу клирика Жана Тумуйе.
Рукопись на тонком пергаменте заключает большое количество титульных букв и две миниатюры тонкого письма, но плохой сохранности: одна изображает «Сретенье Господне», другая – «Венчанье Прозерпины».
Какое открытие! Пот выступил у меня на лбу, и затуманились глаза. Я вздрогнул, покраснел и, не в силах говорить, испытывал потребность громко крикнуть.
Какое сокровище! Сорок лет я изучаю христианскую Галлию и специально – славное аббатство Сен-Жермен-де-Пре, откуда вышли короли-монахи, основатели нашей национальной династии. И, несмотря на преступную неполноту такого описанья, мне было ясно, что рукопись исходит из этого великого аббатства. Об этом говорило все: жития, добавленные переводчиком, относились все к благочестивому основанию аббатства королем Хильдебером. Особо знаменательно житие святого Дроктовея, первого аббата моего дорогого аббатства. Французская поэма в стихах, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики, этой колыбели всей христианской Галлии.
Златая легенда сама по себе является крупным и вместе с тем изящным произведением. Яков из Вораджо, дефинитор ордена Святого Доминика и архиепископ генуэзский, собрал в XIII веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули: «Вот – Златая легенда!» Златая легенда отличается особой полнотою итальянской агиографии. Галлам, аллеманам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку густого, холодного тумана. Поэтому германские, аквитанские и саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу присоединить к его рассказу жизнеописания своих национальных святых.
Я прочел и сличил много рукописей Златой легенды. Мне знакомы и те, что описал ученый коллега мой Полей Парис в отличном каталоге рукописей королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна – XIV века, содержащая перевод Жана Беле; другая, моложе веком, заключает в себе «извод» Жака Винье. Обе из собрания Кольбера и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза, чье имя я могу произнести, лишь снявши свою шапочку, ибо Балюз поражает нас своим величием даже в тот век гигантов эрудиции. Мне известен очень любопытный свод из собрания Биго; я знаком с семьюдесятью четырьмя печатными изданиями, начиная с достопочтенного их предка, страсбургского готического издания, начатого в 1471-м и законченного в 1475 году. Но ни одна рукопись, ни одно издание не содержит житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея, ни в одном нет имени Жана Тумуйе, – словом, ни одна не исходит из аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанною господином Томпсоном, – солома рядом с золотом. Я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимое свидетельство существования этого памятника. Но что же сталось с самим памятником? Сэр Томас Ралей окончил дни на берегах озера Комо, взяв туда с собою часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуйе?
– Зачем, – сказал себе я, – зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть! Я бы пошел за ней в жгучее сердце Африки или во льды полярных стран, когда б узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ль под тройным запором в железном шкафу ревнивого библиомана или плесневеет на чердаке невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы накрывают банки с огурцами у какой-нибудь хозяйки.
30 августа 1862 года
Истомленный гнетущею жарой, я тихо шел по северной стороне набережных, почти у самых стен, где в теплой их тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Разыскивая книги и гуляя, я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды, смотрел изящный маскарад Ватто, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, морион. Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, синьор! Облачение гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук, а слабость их была внутри. В противоположность им – наша сила внутри, а душа наша во всеоружии знания живет в тщедушном теле.
Вот пастельный портрет старинной дамы: лицо сгладилось, словно тень, чему-то улыбается; видна рука в ажурной митенке, держащая на атласных коленях болонку в лентах. Чарующей грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей не носит полустершейся пастели!
Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческий улей, где есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горьковатый мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек – и я у своей двери. Но не столько вижу, сколько угадываю по шуршанью шелка, что мне навстречу спускается кто-то в женском платье. Останавливаюсь и прижимаюсь к перилам. Идущая навстречу дама – без шляпы, молода, поет; в сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Наверное, это соседка, и одна из самых дружелюбных. На руках у нее хорошенький ребенок – мальчик, совершенно голый, точно сын богини; на шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами, широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукаво и загадочно, останавливается, вероятно – краснеет и протягивает мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье, и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки.
Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит:
– Сударь, не правда ли, хорош мой мальчик?
Она берет его ручку, прикладывает ему ко рту и отводит розовые пальчики по направлению ко мне.
– Бебе, пошли господину поцелуй. Он добрый: он не хочет, чтобы зябли маленькие дети. Пошли же ему свой поцелуй.
И, прижав к себе ребенка, она с проворством кошки исчезает во мраке коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню.
Вхожу к себе.
– Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать с хорошеньким мальчишкой на руках, и она без шляпы, – кто это может быть?
Тереза отвечает, что это г-жа Кокоз.
Смотрю на потолок, как бы ища там поясненья. Тереза напоминает мне о жалком книгоноше, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена.
– А сам Кокоз? – спросил я.
Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения г-жи Кокоз. Мне сообщили, что вдова утешилась; я последовал ее примеру.
– Однако, Тереза, быть может, у себя на чердаке госпожа Кокоз терпит в чем-нибудь нужду?
– Вы, сударь, крепко попали бы впросак, – ответила Тереза, – если бы стали заботиться об этой твари. Ей отказали от чердака, когда там починили крышу. Но она живет на нем, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала. С чердака она уедет, когда ей вздумается, да и уедет-то в карете. Помяните мое слово!
С минуту Тереза думала, затем произнесла такую сентенцию:
– Хорошенькое личико – небесное проклятье.
Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурна лицом и неблагообразна, я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей:
– Э! Э! Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико.
Не подобает искушать ни единое созданье в мире, даже самое святое.
Тереза потупила глаза и отвечала:
– Хоть я и не была, что называется, хорошенькой, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась. И кабы захотела, могла бы поступить как прочие.
– Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу. А я для отдыха прочту несколько страниц из Морери. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед тонко пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина.
Сказав, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии.
7 мая 1863 года
Зиму провел я в духе мудрецов – in angello cum libello[2]; ласточки с набережной Малакэ по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется, а тратить дни свои на старые тексты – это еще не жизнь.
Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какою веет сама жизнь. Равновесие моего ума (не смею в том признаться и самому себе) нарушено со знаменательного часа, когда открылось мне, что существует рукопись Жана Тумуйе. Странно, из-за нескольких листков старого пергамента утрачен мой покой; но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ: он обладает самим собою. Богач, желающий все большего, – жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия – беседа с человеком тонкого и сдержанного ума или обеды с другом – не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с того момента, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни в радости, ни в горе; не хватает ни в труде, ни в отдохновении.
Невольно вспоминаю свое детство: как мне теперь понятны всемогущие желанья первых моих лет!
С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной лавчонке на улице Сены, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, – не знаю. Я горд был тем, что я был мальчик; я презирал девчонок и с нетерпеньем ждал поры (увы! наставшей), когда колючая бородка защетинит мой подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на своем окне. То были мужские игры, думается мне.
Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости у Геркулесов! Но кукла, что полюбилась мне, была ли все-таки красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой: на щеках по красному пятну, короткие, дряблые, с ужасными деревянными кистями руки и длинные раздвинутые ноги. Цветастая юбка приколота к талии двумя булавками; вижу еще теперь их черные головки. То была кукла дурного тона, отдававшая предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле не было изящества и вида, что она груба, топорна. Но, несмотря на это, я любил ее, – любил как раз за это. Любил только ее. Мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не пихал своей лошадке в рот стебельков гелиотропа и вероники. Эта кукла была всем для меня. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виржини пройти со мною мимо лавки на улице Сены, и там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку: «Господин Сильвестр, уж поздно, и маменька вас забранит». В то время г-ну Сильвестру и брань и порка были нипочем. Но нянька поднимала его как перышко, и г-н Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего.
Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне открыться матери в предмете моей любви. Отсюда все мои страданья. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятья, и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым – более желанной, дорогой.
Наконец, в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался моим дядей капитаном оттого, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд, и оттого, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красивым. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками с брандебурами, а особенно своим уменьем ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек – было видно и слышно одного его. Мой удивительный отец не разделял, мне кажется, моего восхищения дядей Виктором, который отравлял его своею трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя, при всей сестринской снисходительности к капитану, иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой. Но я был чужд всем этим недовольствам и упрекам: мне дядя Виктор внушал живой восторг. И с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей.
Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих жертвою он стал, и выражал особенное недовольство Бурбонами, но упустил сказать мне, кто были Бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что Бурбоны – это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но ненавистных от всей души. За сладким мне послышалось, что капитан высказывался о моем отце как о человеке, которого водили за нос; но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах моих шумело, и мне мерещилось, что столик танцевал.
Дядя надел сюртук с брандебурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно изменившуюся на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на улице Сены, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайную восторженность. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки; кукла была все там же за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами и в той же цветастой юбке.
– Дядя, – промолвил я с усилием, – не купите ли вы мне эту куклу?
И в ожидании остановился.
– Купить мальчишке куклу, черт возьми! – громовым голосом воскликнул дядя. – Ты хочешь осрамить себя! И это страстное желание вызвала в тебе такая баба! Поздравляю тебя, дружище! Если эти вкусы сохранятся у тебя и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю – мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих ты прослывешь изрядным простофилей. Проси у меня саблю, ружье – я их куплю тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу, тысяча громов! Покрыть тебя позором! Никогда в жизни! Если б я увидал, что ты играешь расфуфыренной таким манером девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником.
От его слов так сжалось мое сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость не позволяла мне заплакать.
Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о Бурбонах, но я так и остался придавленный его негодованьем, чувствуя невыразимый стыд. Мое решенье созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести: я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. Я в этот день познал суровую отраду жертвы.
Капитан, если и правда, что при жизни вы ругались, как язычник, курили, как швейцарец, и пили, как звонарь, да будет все-таки почтенна ваша память, – не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, но под брандебурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно даримый вами продавщицам в магазинах, этот цветок, с его открытым благородным сердцем и облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя учиться, капитан, ни тонким чувствам, ни здравому рассудку, но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чести, чего я не забуду никогда.
Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромною плитою с эпитафией:
ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН АРИСТИД-ВИКТОР МАЛЬДЕН,
ПЕХОТНЫЙ КАПИТАН И КАВАЛЕР
Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, посетившей столько полей сраженья и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить на могильном камне:
ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
ЛУАРСКИЙ РАЗБОЙНИК
– Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника.
Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских Полей? Там, у конца аллеи, рисуется на фоне неба гигантский пролет Триумфальной арки, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные и зябкие листочки. Сбоку от меня катятся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимоном. Мальчик-нищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотья теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желанье он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза уставились на большого пряничного человечка. Это – генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке, но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременной опытностью – не верить в счастье; он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: «С вашей стороны жестоко смеяться надо мной».
– Ну, глупыш, – сказал я своим обычным ворчливым тоном, – бери, бери и ешь; ты счастливее, чем я был в твои годы; ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестья.
А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть мою новую куклу. Мы – вечные дети и вечно тянемся за новою игрушкой.
В тот же день
В моем уме семейство Кокоз причудливейшим образом сочеталось с «лириком Жаном Тумуйе.
– Вот что, Тереза, – начал я, бросаясь в свое кресло, – расскажите мне, здоров ли маленький Кокоз, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мои туфли.
– Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. В первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из-под помады. Ну мыслимое ли это дело! За последнее время у ней бывали посетители; и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница привратницы сказывала, что повстречалась с Кокозшей где-то на Бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо.
– Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни. Остерегайтесь чрезмерной болтовни с привратницей. Госпожу Кокоз я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть.
– Правда – по этой части малыш был не обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек, с самого утра поет ему песенки, а он смеется.
– Тереза, один поэт сказал: «Ребенок, не видевший улыбки матери, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь».
8 июля 1863 года
Узнав о ремонте каменного настила в часовне Богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, в надежде разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими. И не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел вполголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце:
Здесь покоится инок обители сей Жан Тумуйе,
сотворивый оклад серебрян на браду
святого Винцента и святого Аманта
и на нози младенцев, невинно убиенных.
Живу сущу бысть муж честен и храбр.
Творите молитву по душе его.
Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие; мне хотелось его поцеловать.
– Он, он, Жан Тумуйе! – воскликнул я. И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову.
Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой.
А все же это мой Жан Тумуйе! Нет более сомненья: переводчик Златой легенды, автор житий святых Жермена, Винцента, Фереоля, Феруция и Дроктовея был, как я и думал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре. И каким еще хорошим монахом – щедрым и благочестивым! Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его твореньем, или суждено и этому открытию только умножить мои скорби?
20 августа 1869 года
«Я нравлюсь немногим, а испытываю всех, я – радость добрых и ужас злых, я, порождающий и разрушающий заблуждения, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину».
Кто это говорит?.. Старик, мне чересчур знакомый, – Время.
Шекспир, закончив третий акт «Зимней сказки», останавливается, чтобы дать время Пэрдите «взрасти и в мудрости и в красоте», и, открывая снова сцену, заставляет древнего Косоносца дать зрителям отчет о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта.
Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвенью длинный промежуток времени и, следуя примеру поэта, вызываю Время для объяснения пробела за шесть лет. В самом деле, вот уже шесть лет, как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь, и теперь, когда я снова взялся за перо, увы, мне не приходится описывать Пэрдиту, «в прелести возросшую». Молодость и красота – верные подруги поэта. Эти чарующие видения нас, грешных, посещают лишь на время. Мы не умеем удержать их. Когда бы тень какой-нибудь Пэрдиты силою непонятного каприза задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов. Счастливцы поэты! Их седина не устрашает колеблющиеся тени – Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей. А достаточно одного носа Сильвестра Бонара, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство.
Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой, – я все же испытал когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные создания непостижимая природа; живая глина вызывала во мне трепет, который создает поэтов и любовников. Но ни любить, ни воспевать я не умел. В душе моей, загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясное личико с глазами цвета барвинка… Друг мой, Бонар, вы старый сумасброд. Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца. Это каталог рукописей, и он сулит вам описанье нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и к вашей внешности подходит.
Читаю и вскрикиваю. Гамилькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос: есть ли в этом мире покой, ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как и он сам?
Радость моего открытия нуждается в наперснике, и со своими излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамилькару.
– Нет, Гамилькар, нет, покой не от мира сего; и то спокойствие, какого вы хотите, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажете, время ль отдыхать.
«Златая легенда Якова Ворагинского, французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном Тумуйе.
Превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами, замечательно исполненными и отличной сохранности, изображающими: одна – «Сретенье Господне», другая – «Венчанье Прозерпины».
Вслед за Златой легендой идут жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Дроктовея, XXVIII страниц, и чудесное погребение святого Жермена Озерского, XII страниц.
Эта драгоценная рукопись, входившая в собрание сэра Томаса Ралея, теперь хранится в кабинете рукописей синьора Микель-Анджело Полицци, в Джирдженти».
Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуйе находится в Сицилии, у Микель-Анджело Полицци. О, если б этот человек любил ученых! Напишу ему.
Я это тотчас же и сделал. В письме я просил синьора Полицци предоставить мне рукопись клирика Тумуйе, сообщая, в качестве кого решаюсь считать себя достойным подобной благосклонности. Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий.
– Барин! Барин! Куда вы так бежите? – кричала испуганная Тереза, стремглав спускаясь по лестнице с моею шляпою в руке.
– Несу письмо на почту, Тереза.
– Господи Боже! Ну можно ли так убегать – без шляпы, словно помешанный!
– Да, Тереза, я помешан. Но кто же не помешан? Давайте же скорее шляпу.
– А перчатки? А ваш зонтик?
Я был уже внизу, но все еще слышал ее оханье и крики.
10 октября 1869 года
Я ждал ответа от синьора Микель-Анджело Полицци, плохо скрывая нетерпенье. Мне не сиделось на месте; я делал резкие движенья, шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том Морери. Гамилькар, в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу, и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моею кровлей? Не существовало ли меж нами безмолвного условия – жить в тишине? А я нарушил этот договор.
– Мой бедный друг, – ответил я ему, – я жертва своевольной страсти, обуревающей меня и мною руководящей. Страсти – враги покоя, я согласен; но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусства, ни наук. Всяк дремал бы голый на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг на шелковой подушке.
Я не мог далее развить перед Гамилькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо. На нем был штемпель Неаполя, и оно гласило:
«Высокославный синьор!
Действительно, я владею несравненным манускриптом Златой легенды, не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания. Важнейшие причины повелительно и тиранически противятся тому, чтобы я расстался с ним хоть на единый день, хоть на единую минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить ее вам в моем джирджентском скромном доме, украшенном и озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик, покорным и преданным слугой.
Микель-Анджело Полицци, виноторговец и археолог в Джирдженти (Сицилия)».
Ну что ж! Поеду в Сицилию:
- Extremum hunc, Aretusa, mihi concede laborem[3].
25 октября 1869 года
Я принял решение и приготовился к отъезду, оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, попреков, слез и увещаний. Я говорил себе: «Эта добрая старушка ко мне привязана, она захочет удержать меня; а Богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны – привратница, матрацница, семь сыновей фруктовщика и полотер. Все станут на колени в круг у ног моих, начнется плач; и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть».
Вот те ужасные образы, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх, страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю как на духу: я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость, и это лишает меня мужества при столкновеньях с нею. А столкновенья эти очень часты, и в них я уступаю неизменно.
Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь – «вздуть огонек», как говорит она, ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела на корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, обратился к Терезе.
– Да-а! Кстати, – произнес я небрежно, с особою лихостью, присущей трусам, – да, кстати, Тереза… я уезжаю в Сицилию…
Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине; я наблюдал за ней: ничто в ее особе не выдало малейшего волненья. Она совала щепки под дрова, только и всего.
Наконец я снова увидал ее лицо: оно было спокойно, – так спокойно, что в душе я даже возмутился. «Истинно, нет сердца у этой старой девы, – подумал я. – Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув «ах!». Неужели для нее отъезд хозяина такая малость?»
– Ступайте, – сказала наконец она, – но возвращайтесь к шести часам. У нас к обеду кушанье, которое не может ждать.
Неаполь, 10 ноября 1869 года
– Со tra calle vive, magne e lave a faccia.
Понимаю, мой друг: «За три сантима напьешься, наешься и умоешься», и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволят мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие. Да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне стоит немалого труда держаться на ногах. Какая шумная, сияющая ночь в Санта-Лючии! Горы фруктов вздымаются в лавчонках, освещенных многоцветными фонариками. Прямо на открытом воздухе топятся плиты, в котлах кипит вода, на сковородках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри и вызывает чиханье. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить; вот молодая кумушка, – как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, она толчком упругого и мощного плеча отбрасывает меня на три шага назад, но невредимым, и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой.
Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать вам не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но этой ночью дело обстоит гораздо хуже! Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Strada di porto[4], где нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушенья, по воле этих живых волн, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, а укачивают; и эти люди, качая меня и так и сяк, достигнут, думается мне, того, что я засну в стоячем положении.
Попирая плиты из лавы на Strada di porto, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют и с поразительной быстротой бранятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желанья с быстротечностью всей нашей жизни. Я подошел к бойко торгующему кабачку и над его дверью прочел четверостишие на неаполитанском наречии:
- Amice, alliegro magnammo е bevimmo
- Nfin che n'ce stace noglio a la lucerna:
- Chi sa s'a l'autro munno n'ce vedimmo?
- Chi sa s'a l'autro munno n'ce taverna?
- Выпьем, мой друг, веселей, как на пире,
- Пока теплится маслом светильник вечерний.
- Кто его знает, как будет в том мире:
- Встретимся ль там и найдем ли таверны?
Подобные советы давал своим друзьям Гораций. Ты их воспринял, Постум; и ты вняла им, Левконоя, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым и нам известно. Воистину, ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советуя тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина: «Sapias, vina liques»[5].
Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям. Но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетворенностью: то наиболее благородные. Ты, Левконоя, была из их числа; и я, на склоне дней своих прибыв в тот город, где сияла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и Златая легенда полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его внуков я вижу в этом кабатчике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской.
А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия его – одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня, – он прислонился к решетке, затянутой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я еду искать с такими трудностями. Воистину, человек скорее создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в старых текстах.
Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные, – обнявшись за талию, они надкусывали и ели красивые плоды. Очевидно, человек не добр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что моя стыдливость старого писаки приходила в трепет. К тому же я был в отчаянье, не понимая слов, звучавших в воздухе. Для филолога это унизительное испытание. Итак, я находился в большом унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, заставили меня прислушаться.
– Димитрий, этот старик, наверное, француз. Меня огорчает его растерянность. Не заговорите ли вы с ним? У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?
Какой-то женский голос произнес все это по-французски. Прежде всего мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в шестьдесят два года бывают стариками? Не так давно на мосту Искусств коллега мой Перро д'Авриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложавости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем этот юный жаворонок, поющий о моей спине, если только жаворонки поют и по ночам. У меня сутулая спина, она сказала! Да! Да! Кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там пичужки. Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива. Почему? Да потому, что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились, может иметь такое обилие приятных модуляций и серебристое звучанье, где слышится и смех. Из уст дурнушки польется речь, быть может, мелодичнее и слаще, но не такая звучная, конечно, и без этого журчанья.
Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и тотчас, убегая от этих незнакомых двух людей, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый vicoletto[6], освещенный лишь лампадкой перед Мадонной в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама (она, наверное, была красива) высказала обо мне благожелательное мненье, и оно заслуживало моей признательности.
«Димитрий, этот старик, наверное, француз. Меня огорчает его растерянность. Не заговорите ли вы с ним? У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?»
От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так: «Сударыня, помимо своей воли я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику. Она уже оказана: само звучание французской речи мне доставляет наслажденье, за что и приношу вам благодарность». Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно, она француженка, потому что самый звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире. Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский сказал о Жанне Девственнице: «Речь ее нежна, как речь ее землячек». Спутника ее зовут Димитрием; он, несомненно, русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Приходится жалеть богатых: блага жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко, – внутри себя богатые бедны и наги. Нищета богатых плачевна.
К концу этих размышлений я очутился в переулке, или, выражаясь по-неаполитански, в sotto portico, шедшем под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, мне надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся ее увидеть. С отчаянья свернул я наудачу в улицу, или, вернее говоря, в какой-то ужасающий вертеп. Такой она была на вид, такой и оказалась, ибо, войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, и по их ругани между собой я понял, что это были соперники в любви. Пока эти милые люди занимались своим делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно завернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум и, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что так нелепо, по темным закоулкам бежал от Димитрия и от его звонкоречивой спутницы.
– Здравствуйте, синьор! Вы из Сан-Карло? Слышали диву? Так поют только в Неаполе.
Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы, под собственным окном.
Монте-Аллегро, 30 ноября 1869 года
Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Шьякки на Джирдженти в трактире бедной деревеньки Монте-Аллегро, где жители, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это все еще эллины, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумей я передать его, заставил бы их позабыть все беды жизни. Вид у них смышленый, а женщины, увядшие и загорелые, изящно носят длинный черный плащ.
Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле, с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В двадцати шагах от меня по рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне сообщил, что это был ручей.
Уж две недели, как я в Сицилии. Приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между двумя голыми могучими массивами – Пеллегрино и Катальфано, а дальше выгнулась вдоль «Золотой раковины», поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был этим восхищен, что решил побывать на острове, столь благородном по своим преданиям и столь красивом очертаньями своих холмов. Я, старый, поседелый на варварском Западе пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Трайани, из Трайани в Селинунт, из Селинунта в Шьякку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джирдженти, где должен найти рукопись Жана Тумуйе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что полагаю старанье описать их трудом напрасным. К чему мне портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья.
Отдаваясь грусти настоящего и поэзии былого, под обаяньем прекрасных образов в душе и гармоничных, чистых линий перед глазами, я пил в трактире Монте-Аллегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел, что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпе и в платье небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я очень хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленной кактусами и берберскими смоковницами.
Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта:
- О свет божественный,
- Златого дня сияющее око.
Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством, и я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они и не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности; на самом деле тут нет таинственности, а нам об этом говорит какой-то признак, ускользающий от нас, – настолько он неуловим. Вполне возможно, что отраженье красивых глаз дамы я видел на оконных стеклах.
Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились.
Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате.
– Ты хочешь хлеба, колдунья, – сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола.
Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии.
– Простите, сударыня, – сказал я тотчас же. – Хотя вы и не знаете меня, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя.
– Вы узнаете меня, – ответила она. – Я вас узнала тоже.
– По моей спине?
– А! Вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас.
– Наоборот, сударыня, вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере в своей основе, мне кажется и справедливым и глубоким. Выражение бывает не только в чертах лица. Есть руки умные и руки, лишенные воображенья. Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи наглые и спины добрые.
– Верно, – сказала она. – Но я узнала вас и по лицу. Мы уже встречались, не знаю только где – в Италии или в других местах. Мы с князем много путешествуем.
– Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник. Всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно, кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему.
– Вы парижанин?
– Да, сударыня. Вот уже сорок лет, как я живу почти безвыездно в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте, самом знаменитом и самом красивом в мире. Из моего окна мне видны Тюильри и Лувр, башни собора Богоматери и Новый мост, башенки Дворца правосудия и стрелка Сент-Шапель. Все эти камни говорят: они рассказывают мне чудесную историю Франции.
Это сообщение, видимо, приятно удивило молодую женщину.
– Ваша квартира на набережной? – оживленно спросила она.
– На набережной Малакэ, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Бонар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену Академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают.
Она взглянула на меня с особым выраженьем изумления, симпатии, умиленности и грусти, но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые движения души.
Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел колосс, печальный, кроткий, молчаливый.
– Мой муж, князь Трепов, – сказала она мне. И, указав ему на меня, представила: – Господин Сильвестр Бонар, член Французской академии.
Князь поклонился плечами. Плечи у него высокие, широкие и мрачные.
– Мой друг, – сказал он, – я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Сильвестром Бонаром, но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло.
Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею, князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежны ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой:
– Мы едем в Мелло; это отвратительная деревушка в шести милях от Джирдженти, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Димитрий собирает спичечные коробки. Он перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки – картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали пять тысяч двести четырнадцать различных образцов. Найти некоторые нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретом Гарибальди и Мадзини, что эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадила в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такой коробок у одного крестьянина, который продал нам его за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры осмотрели наш багаж. Коробка они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, летом мы едем в Швецию.
Я почувствовал (следует ли говорить об этом?) какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента и поэтическим преданиям Эрикса. Но, в конце концов, они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя?
– Теперь вы знаете, – добавила она, – зачем мы путешествуем по этой ужасной стране.
От этого эпитета моя симпатия угасла, я даже почувствовал какое-то негодованье.
– Эта страна не ужасна. Эта земля – земля славы. Красота так благородна, так величественна, что векам варварства не удается истребить ее совсем – чтоб не осталось от нее следов, достойных преклоненья. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами, и греческая муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аретузу, еще поет мне здесь – на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней луне, покатится в пространстве бледным трупом, земля, несущая развалины Селинунта, сохранит остатки красоты среди всеобщей смерти, и тогда, по крайности тогда, не будет вздорных уст, хулящих это одинокое величие.
Едва успев произнести эти слова, я сразу почувствовал их глупость. «Бонар, – сказал себе я, – ты старый человек, изживший жизнь над книгами, ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все это рассуждение было понятно княгине Треповой не более, чем греческий язык.
Она мне ласково ответила:
– Димитрию скучно, и я скучаю. У нас есть спичечные коробки! Но надоедают и они. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала; горести – это большое отвлеченье.
Умиленный духовной нищетой этой красивой женщины, я сказал:
– Мне жаль, что у вас нет ребенка. Если бы вы его имели, у вас была бы в жизни цель, ваши мысли стали бы серьезней и в то же время утешительней.
– У меня есть сын, – ответила она. – Мой Жорж большой, почти мужчина: ему уж восемь лет! Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все не то.
Из своего букета она дала мне розу, улыбнулась и сказала, садясь в повозку:
– Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что повидала вас. Надеюсь встретить вас в Джирдженти.
Джирдженти, в тот же день
Я устроился, как мог, в моей lettica. Lettica – повозка без колес, или, если угодно, носилки, стул, который несут два мула, впереди один, сзади другой. Способ старинный. В рукописях XIV века мне попадалось изображение этих носилок. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь такие же носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джирдженти. Нельзя ручаться ни за что.
В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых алоэвых изгородей по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды африканского характера, я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуйе и жаждал ее с искренней горячностью, умилявшей меня самого, – так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании.
Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я размышлял. Княгиня Трепова – женщина красивая, совсем простая и очень близкая к природе. У нее понятия кошки. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности из числа тех, что так волнуют мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: «Когда есть горести, то не скучаешь». Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлеченьем являются для нас тревога и страданье. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие ж испытания дошла княгиня Трепова до этой истины?
Джирдженти, 1 декабря 1869 года
Наутро я проснулся в Джирдженти, у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился своею щедростью, как и своею роскошью, и наделил свой город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер тысяча триста лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне благодаря усталости проспать всю ночь.
Современный Джирдженти построил над Акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые дома, а среди них высится мрачный испанский собор. Из моего окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушившихся храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное – пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис агригенца Эмпедокла, так необходима живому существу, что вдали от реки и родников нет жизни. Но порт Джирдженти – от города в трех километрах – ведет большую торговлю. «Итак, – сказал себе я, – в этом угрюмом городе, на этой крутой скале, находится рукопись клирика Жана Тумуйе». Я попросил указать мне дом синьора Микель-Анджело Полицци и направился туда.
Синьора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза создавали необычайно выразительный облик у этого маленького человечка.
Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня на стул. Зала, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам.
– Искусство! Искусство! – воскликнул синьор Полицци, снова воздевая руки к небу. – Искусство! Какое величие! Какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!
И показал мне святого Франциска, незаконченного, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть старинные картины в лучшем стиле, но реставрированные, как мне казалось, без всякого стесненья.
– Я восстанавливаю старинные картины, – сказал он мне. – О! Старые мастера! Какая душа! Какой гений!
– Значит, это верно: вы одновременно и антиквар, и живописец, и торговец винами? – спросил я.
– И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое zucco[7], что каждая его капля – пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость.
– Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, синьор Полицци, не ради бутылок.
Он:
– Значит, ради картин. Вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе; да, ваше превосходительство, его шедевр: «Поклонение пастухов!» жемчужина сицилийской школы!
Я:
– С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда.
Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне, и я, не без щемящей тоски в сердце, заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревал.
Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в этом роде:
– Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью Златой легенды, принадлежащей, как вы писали, вам.
При этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл глаза и рот, выказывая признаки сильнейшего волнения:
– О! Рукопись Златой легенды! Жемчужина, ваше превосходительство, рубин, алмаз! Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами целый рай. Какая нежность! А краски, похищенные с венчика цветов, ведь это мед для глаз! Сам Джулио Кловио не создавал лучшего!
– Покажите мне ее, – сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду.
– Показать вам! – воскликнул Полицци. – Ваше превосходительство, возможно ли мне это? Ее нет у меня больше. Ее нет!
Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы ему не помешал, но он остановился сам, не причинив себе особого вреда.
– Как? – сказал я в гневе. – Как? Вы заставили меня приехать в Джирдженти из Парижа, чтобы показать мне рукопись, а когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно! Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении.
Кто б увидал меня тогда, имел бы довольно точное представленье о взбесившемся баране.
– Это возмутительно! Возмутительно! – повторял я, протягивая вперед дрожащие руки.
Микель-Анджело Полицци упал на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, упали беспорядочно на лоб.
– Я отец, ваше превосходительство, отец! – воскликнул он, сжимая руки.
И сквозь рыдания добавил:
– Рафаэлло – мой сын и сын моей жены, смерть которой я оплакиваю пятнадцать лет. Рафаэлло, ваше превосходительство, хотел устроиться в Париже; он снял там лавку на улице Лафит, чтобы торговать старинными вещами. Я отдал ему все ценное, что было у меня, – я отдал мои прекрасные майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров – и какие картины, синьор! Я ими ослеплен еще теперь, когда их вижу в моем воображении! Все подписные! Напоследок я дал ему рукопись Златой легенды. Я отдал бы ему и плоть и кровь свою. Единственный сын! Сын моей святой жены!
– Итак, когда я ехал в глубь Сицилии за рукописью Жана Тумуйе, полагаясь на ваше слово, эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит, в полутора километрах от меня!
– Она была там, святая истина! – ответил мне Полицци, вдруг просветлев. – И там находится еще теперь, ваше превосходительство, по крайней мере я так думаю.
Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал:
– Вот адрес сына. Ознакомьте с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянс, эмали, картины, ткани – полный выбор художественно-бытовых вещей, вся roba, и, клянусь честью, все – старинное. Зайдите к нему: он вам покажет рукопись Златой легенды. Две миниатюры чудесной свежести!
По малодушию я взял протянутую карточку.
Этот человек злоупотребил моею слабостью вторично, предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэлло Полицци.
Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный.
– Ах, ваше превосходительство! – сказал он. – Наш город – что это за город! Он породил Эмпедокла. Эмпедокл! Какой великий человек, какой великий гражданин! Какая смелость мысли, какая доблесть! Какая душа! Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз, как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал, чтобы открыть в Париже антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта нашего города и у подножия статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословенье. «Помни Эмпедокла!» – сказал я. Ах, синьор, как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый Эмпедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе? Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юноны Лукинийской, античный колодец, могилу Феронта и Золотые ворота. Все гиды путешественников – ослы. Я хороший гид; не желаете ли вместе со мной делать раскопки? И мы откроем сокровища. У меня есть уменье, настоящий дар раскапывать! Я открываю шедевры в отвалах рудников – там, где ученые не находили ничего.
Мне удалось освободиться от него. Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и на ухо сказал:
– Ваше превосходительство, послушайте: я сведу вас в город, я покажу вам наших джирджентинок! Сицилианки, синьор, – это античная красота! Хотите, я предоставлю вам крестьяночек?
– Черт бы вас побрал! – крикнул я, возмущенный, и убежал на улицу. Он же остался у порога и развел руками.
Когда я был уже вне поля его зрения, я сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять.
«Для того ли, – думал я, – для того ли приезжал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения?»
Полицци, разумеется, мошенник, сын его – такой же. Но что они замыслили? Я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным.
Легкий шаг и шелест платья заставили меня поднять глаза, и я увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:
– Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила! Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!
Когда она произносила это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнули улыбка и слеза. Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.
– Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.
И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, украшенный сине-красной головой, – судя по надписи, головою Эмпедокла.
– Вижу, вижу. Но мерзостный Полицци, – не советую вам посылать к нему господина Трепова, – навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.
– Это некрасиво, – промолвила она, – но это редко. Таких коробков нельзя найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.
– Конечно, вижу, – ответил я с досадой, – зато я свое время потерял и не нашел того, за чем приехал в такую даль.
Видимо, она заинтересовалась моею неудачей.
– У вас какая-нибудь неприятность? – спросила она с участием. – Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?
Я стал рассказывать. Мое повествованье было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелочных вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.
Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, что поручил мне мерзкий Микель-Анджело Полицци.
Иной раз бывает трудно остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.
– Почему вы смеетесь? – спросил я.
– Потому что я злая женщина.
И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.
Париж, 8 декабря 1869 года
Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет, – а одного его достаточно, чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с тревогой, жалостью и благоволеньем. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни. Мне пришел на память стих старого поэта:
- Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил.
«Ну что ж, – мне думалось, – я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но, так же как Улисс, я совершил прекрасный путь».
Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась нового отъезда. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.
Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень, – одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил усмотреть лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старых картин, хотя подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины: кувшины, кубки, кинжалы, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.
На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра, открытый на листе с изображением Астрологии; старик Витрувий раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить мое недоверие, но сама фамилия – Полицци – внушала мне такое недоверие, какое не могло уже расти, став безграничным.
Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, кем-то вроде англичанина. Он даже в малой доле не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.
Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне хотелось.
Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.
Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, это рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Якова Ворагинского в ней было заметно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея, – я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи являлось неоспоримо подлинным. Два изображения – «Сретенья Господня» и «Венчанья Прозерпины» – отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор приобрели вновь свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе – вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что были способны уловить мои глаза.
Приняв равнодушный вид, я спросил у Рафаэлло о цене рукописи и, в ожидании ответа, молил судьбу, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой вещью он располагать не может, так как она больше не его и назначена к продаже на аукционе в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами.
То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто в этом роде:
– Вы удивляете меня. Я видел вашего отца не так давно в Джирдженти, и он меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.
– Действительно, я был им, – ответил совершенно просто Рафаэлло, – но я уже больше не владелец. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне говорить его фамилию, а теперь, по причинам, тоже требующим моего молчания, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть 24 декабря сего года. Если вы пожелаете дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание Златой легенды вы найдете под номером сорок вторым.
Я дал свой адрес и ушел.
Приличная степенность сына не нравилась мне совершенно так же, как непристойное кривляние его отца. В глубине души я проклинал ухищренья этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы избегнуть нареканий, если нарочно взвинтят цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, но не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через мостовую, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло узнал княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.
«Пусть, – сказал себе я, – она найдет то, что ищет, или, вернее, что ей годится. Вот мое желанье в отплату за тот жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы».
И, грустный, я добрался до мостов.
Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, довела нас и до 24 декабря. Я отправился в Отель-Бюйон и занял место в зале № 4, у самого стола, где предстояло сидеть эксперту Полицци и присяжному оценщику Булузу. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым книготорговцам с набережных, но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня замалчивать причину моего необычного присутствия в Отель-Бюйон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полицци, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не моем.
Заинтересованные и любопытные мало-помалу наполнили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь для составления отчета, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители при зале выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.
Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание «Preces piae»[8] с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.
Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед барахольщики, ждавшие, когда для них откроют соседний зал, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста.
Великолепный сборник «Иудейской войны» вновь оживил внимание. Сборник оспаривали долго. «Пять тысяч франков, пять тысяч», – объявил аукционист среди молчания изумленных барахольщиков. Семь или восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.
Наконец эксперт Полицци выложил на стол и номер сорок два: Златая легенда, французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка – три тысячи франков.
– Три тысячи! Три тысячи! – взвизгнул аукционист.
– Три тысячи, – сухо повторил присяжный оценщик. В висках моих гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывалось к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.
– Три тысячи пятьдесят! – произнес я.
Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.
– Три тысячи пятьдесят справа! – крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.
– Три тысячи сто! – перебил Полицци.
Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.
– Три тысячи пятьсот!
– Шестьсот!
– Семьсот!
– Четыре тысячи!
– Четыре тысячи пятьсот!
Затем чудовищным скачком Полицци сразу прыгнул на шесть тысяч.
Шесть тысяч франков – это было все, чем я располагал. Все, что я мог. Я рискнул на невозможное.
– Шесть тысяч сто! – крикнул я.
Увы, и невозможное оказывалось недостаточным.
– Шесть тысяч пятьсот, – спокойно откликнулся Полицци.
Я потупил голову и открыл рот, не решаясь сказать ни да, ни нет аукционисту, кричавшему мне:
– Шесть тысяч пятьсот за мной; не за вами справа, а за мной! Без недоразумений! Шесть тысяч пятьсот!
– Ясно! – подхватил присяжный оценщик. – Шесть тысяч пятьсот. Точно и ясно. Кто больше?.. Нет покупателя выше шести тысяч пятисот?
Торжественная тишина царила в зале. Вдруг я почувствовал, как трескается у меня череп: то стукнул молоток присяжного аукциониста, одним сухим ударом по эстраде оставив безвозвратно за Полицци номер сорок два. И тотчас перо секретаря забегало по гербовой бумаге, протоколируя одной строкой это великое событие.
Я был убит, мне нужен был воздух и покой. Однако с места я не тронулся. Мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать. Надежда упорна. И она явилась. Я подумал, что новым обладателем Златой легенды мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Вот почему, когда окончились торги, я подошел к эксперту, сходившему с эстрады.
– Господин эксперт, – сказал я, – вы купили номер сорок второй по порученью или для себя?
– По поручению. Мне было приказано не упускать его ни за какую цену.
– Не можете ли вы мне сказать имя покупателя?
– Крайне огорчен, что не могу исполнить вашей просьбы. Но это строго мне воспрещено.
Я отошел в отчаянии.
30 декабря 1869 года
– Тереза, неужели вы не слышите, что уже четверть часа, как к нам звонят?
Тереза не отвечает. Она судачит в каморке у привратницы. Ну конечно! Так-то вы собираетесь поздравить старого хозяина с днем ангела? Канун святого Сильвестра, а вы бросили меня? Увы! Если в этот день я и услышу голоса сердечных пожеланий, то прозвучат они из-под земли, ибо все, кто некогда меня любил, давно покоятся в могиле. Не знаю точно, что делаю я в этом мире. Опять звонят! Я неохотно расстаюсь с камином и, сутулясь, иду открыть входную дверь. Что же я вижу на площадке? То не заплаканный Амур, а я не старик Анакреон, – то мальчуган восьми или девяти лет. Он один и поднимает голову, чтобы меня увидеть. Щеки его краснеют, но вздернутый носик кажется вам плутовским. На шляпе перья, на курточке широкий воротник из кружев. Хорошенький мальчишка! Обеими руками он держит сверток не меньше, чем он сам, и спрашивает, я ли г-н Сильвестр Бонар. Отвечаю: «Да». Он мне вручает сверток, говорит, что это посылает мама, и убегает вниз по лестнице.
Схожу на несколько ступенек, перегибаюсь через перила и вижу, как вьется в спирали лестницы маленькая шляпа, словно перышко по ветру. Прощай, мой мальчуган! Я бы охотно с ним поговорил. О чем бы только я его спросил? Неделикатно расспрашивать детей. К тому же сверток разъяснит все лучше, чем посланец.
Сверток весьма большой, но не особенно тяжелый. У себя в библиотеке снимаю ленты и бумагу, в которую он запакован, и нахожу… Что это?.. Полено, отличное полено, настоящее рождественское полено, но легкое и, думается мне, пустое. В самом деле, замечаю, что оно из двух кусков, соединенных крючками и открывающихся на шарнирах. Откидываю крючки… и меня засыпали фиалки. Они спадают на мой стол, мне на колени, на ковер. Проскальзывают за жилет и в рукава. Я весь ими надушен.
– Тереза! Тереза! Подайте вазы, и с водой! Вот фиалки, присланные, не знаю, из какой страны и чьей рукой, но, несомненно, из страны благоуханной и рукой прелестной. Старая ворона, вы слышите меня?
Я разложил фиалки на письменном столе, и они покрыли его весь душистым цветником. Но что-то есть еще в полене… книга, рукопись. Это… не смею верить, и нет сомненья… это Златая легенда, рукопись клирика Жана Тумуйе. Вот «Сретенье Господне», а вот «Венчанье Прозерпины», вот житие святого Дроктовея. Я созерцаю эту старину, пропахшую фиалками. Переворачиваю страницы, между которыми проникли бледные цветочки, и нахожу в том месте, где житие святой Цецилии, карточку, гласящую: Княгиня Трепова.
Княгиня Трепова! Ведь это вы так мило и прослезились и смеялись под ясным небом Агригента, ведь это вас угрюмый старец принял за маленькую сумасбродку! Я убежден сегодня в вашем прекрасном редком сумасбродстве! И старичок, обрадованный вами превыше меры, пойдет и поцелует ваши руки, возвращая такую драгоценность, а наука и он сам будут обязаны вам точным и роскошным изданием ее.
В эту минуту вошла ко мне Тереза; она была возбуждена.
– Угадайте, сударь, кого я видела в карете с гербами сию минуту у нашего подъезда?
– Госпожу Трепову, черт возьми! – воскликнул я.
– Я госпожи Треповой не знаю. Та женщина, что я сейчас видала, одета словно герцогиня, а с ней мальчишка, весь в кружевах. И эта дамочка – Кокоз! Вы еще послали ей полено, когда она рожала, тому уж восемь лет. Я хорошо ее признала.
– Так это, – спросил я, оживившись, – так это госпожа Кокоз, вы говорите? Вдова торговца альманахами?
– Она самая! Дверца кареты была открыта, когда мальчишка выбежал от нас и влезал в карету. Она почти не изменилась. Да этаким-то женщинам с чего и стариться? Заботы у них нет. Кокозша стала только подороднее против прежнего. Ее пустили-то сюда из милости… И такой женщине приезжать сюда в карете, разрисованной гербами, величаться бархатом да брильянтами! Это ли не срам?
– Тереза! – крикнул я страшным голосом. – Говорите об этой даме не иначе, как с уваженьем, или мы будем в ссоре. Несите севрские вазы для фиалок, дарующих обители книг прелесть, какой здесь не бывало никогда.
Пока Тереза, вздыхая, искала севрские вазы, я созерцал рассыпанные по столу фиалки, разлившие вокруг меня как будто аромат пленительной души, и спрашивал себя, как мог я не узнать вдову Кокоз в княгине Треповой. Но было слишком коротко мое свиданье с молодой вдовой, когда она на лестнице мне показала голенького малыша. И с еще большим основаньем я должен был винить себя за то, что прошел мимо души пленительно-красивой, ее не разгадав.
«Бонар, – сказал я про себя, – ты можешь разбираться в старых текстах, но читать книгу жизни не умеешь. В княгине Треповой ты видел только птичью душу, а эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе гораздо больше рвенья и ума, чем это делал ты ради услуги другому человеку. Она по-царски оплатила твое полено, посланное на роди́ны… Тереза, были вы сорокой, теперь вы стали черепахой! Дайте же воды для этих пармских фиалок!»
Вторая часть
Жанна Александр
Люзанс, 8 августа 1874 года
Когда я сошел с поезда на станции Мелен, ночь разливалась тишиной над молчаливыми полями. От земли, нагретой за день палящим солнцем – «тучным солнцем», как говорят жнецы в долине Вира, – шел крепкий теплый запах. Над самой почвой медлительно струились ароматы трав. Я отряхнул с себя вагонную пыль и отрадно вздохнул всей грудью. Саквояж, набитый благодаря стараньям экономки бельем и туалетной мелочью – mundiciis, – так мало тяготил мне руку, что я помахивал им, как машет школьник сумкой с книжками, выходя из школы.
О, если бы я был еще приготовишкой! Но лет шестьдесят без малого прошло с тех пор, как моя мать, покойница, собственноручно намазав виноградным вареньем ломоть хлеба, положила его в корзиночку, надела ее мне на руку и, снарядив меня, отвела в пансион Дулуара, стоявший между садом и двором в углу Коммерческого проезда, хорошо знакомом воробьям. Огромный Дулуар улыбнулся нам с наигранной приветливостью, погладил меня по щеке – несомненно, для лучшего выраженья нежности, которую я пробудил в нем помимо своей воли. Но как только матушка, разгоняя воробьев, пересекла двор, Дулуар больше не улыбался, не выказывал мне нежности, наоборот: казалось, он рассматривал меня как маленькое существо, крайне неудобное. После мне довелось узнать, что чувства такого рода он питал ко всем своим ученикам. Он наделял нас ударами ферулы с проворством, совершенно неожиданным при его грузной корпуленции. Однако нежность первого свиданья возвращалась к нему всякий раз, когда он разговаривал с матерями в присутствии детей и, выхваляя наши способности, окидывал нас всех любовным взглядом. Все же хорошим было время, проведенное на партах г-на Дулуара с маленькими товарищами, которые, подобно мне, и плакали и веселились от всей души с утра до вечера.
Через полвека с лишком эти воспоминанья всплывают на поверхность моей души совершенно ясными и свежими, – здесь, под этим звездным, с тех пор не знавшим перемены небом, чьи неизменные и тихие светила увидят непреложно, как множество других таких же школьников, каким был я, становятся такими же седыми и склонными к катарам учеными, каким я стал.
Вы, звезды, сиявшие над легкомысленными или тяжелодумными головами моих забытых предков, при вашем сеете я чувствую, как просыпается во мне мучительное сожаленье. Мне бы хотелось иметь потомство, чтобы оно вас видело тогда, когда меня не станет. Я стал бы и отцом и дедом, если бы того желали вы, Клементина, когда ваши щечки дышали такой свежестью под розовою шляпкой… Вы вышли замуж за Ахилла Алье, богатого помещика из Ниверне, отчасти дворянина, ибо отец его, простой крестьянин, скупая национальное имущество, вместе с землей и замками своих помещиков купил их родовой архив. Я вас не видел с вашего замужества, но представляю, как ваша жизнь в деревенской усадьбе протекла благополучно, тихо и безвестно. Однажды я узнал случайно от друга вашего, что вы ушли из этой жизни, оставив дочь, похожую на вас. С этой вестью, против которой двадцать лет тому назад восстали бы все силы моей души, в меня вошло как бы великое молчание; чувство, охватившее меня всего, было не острой скорбью, а спокойной, глубокой грустью души, послушной великим наставлениям природы. Я постиг, что мной любимое – лишь призрак. Но память о вас всегда пребудет очарованьем моей жизни. Ваш милый образ, медленно увянув, сокрылся под густой травой. Юность вашей дочери прошла. Краса ее исчезла, несомненно… А вы всегда передо мною – вы, Клементина, с белокурыми кудрями под розовою шляпкой.
Красавица ночь! С великодушной томностью царит она над миром животных и людей, освобождая их от повседневного ярма; и благотворное ее влиянье я ощущаю на себе, хотя, в силу шестидесятилетней привычки, воспринимаю вещи лишь по знакам, их представляющим. В этом мире для меня живут одни слова – настолько я филолог. Каждый по-своему свершает грезу жизни. Я творю ее в моей библиотеке, и когда пробьет мой час, пусть Бог возьмет меня к Себе с моей стремянки, приютившейся у полок, забитых книгами.
– Э! Ей-богу, это он! Здравствуйте, господин Бонар! Куда это вы шествовали, пустившись наудачу, когда я ждал вас у станции с кабриолетом? Сойдя с поезда, вы как-то ускользнули от меня, и я ни с чем ехал домой в Люзанс. Давайте же ваш саквояж, влезайте и садитесь со мною рядом. Знаете ли вы, что отсюда до усадьбы добрых семь километров?
Кто это во всю мочь кричит мне из кабриолета?
Г-н Поль де Габри, племянник и наследник пэра Франции с 1842 года – г-на Оноре де Габри, недавно скончавшегося в Монако. В самом деле, это г-н Поль де Габри; к нему-то я и ехал с чемоданом, упакованным моею домоправительницей. Этот превосходный человек вместе со своими двумя зятьями недавно получил в наследство именье дяди, происходившего из старого служилого рода и собравшего в Люзанском замке библиотеку, богатую рукописями, из коих некоторые восходили к тринадцатому веку. Как раз для составленья их инвентаря и каталога ехал я в Люзанс по просьбе Поля де Габри, отец которого, любезный человек и выдающийся библиофил, при жизни поддерживал со мной отменно вежливые отношения. Сын, правду говоря, не унаследовал высоких склонностей отца. Г-н Поль отдался спорту: он знает толк в лошадях, собаках, и думаю, что из всех знаний, способных утолить или обмануть неиссякаемую любознательность людей, знание псарни и конюшни – единственное, каким владеет он вполне.
Нельзя сказать, чтобы встреча с ним явилась неожиданностью для меня, поскольку наше свиданье было обусловлено заранее, но, признаюсь, я так увлекся естественным теченьем своих мыслей, что у меня вылетели из головы и Люзанский замок и его хозяева, а когда этот помещик окликнул меня в самом начале моего пути, который дальше стлался «длинной лентой», то в первое мгновенье голос г-на Поля резнул мне уши, как чуждый звук.
Опасаюсь, что моя физиономия выдала эту несуразную рассеянность тем выраженьем бестолковости, какое часто у меня бывает в общении с людьми. Саквояж мой водворился в кабриолете, и я последовал туда же. Хозяин мне понравился своею откровенностью и простотой.
– Я ничего не смыслю в ваших старых пергаментах, – сказал он мне, – но у нас найдется с кем вам поговорить. Помимо здешнего священника, который пишет книги, и доктора, весьма любезного, хотя и либерала, вы встретите кое-кого, кто с вами и поспорит: это моя жена. Ее нельзя назвать ученой, но, думается, нет той вещи, какой бы она не понимала. К тому же рассчитываю, с Божьей помощью, удержать вас у себя подольше, чтобы вы встретились с мадемуазель Жанной, обладательницей волшебных пальцев и ангельской души.
– Эта девушка, столь счастливо одаренная, ваша родственница? – спросил я.
– Нет, – ответил г-н Поль, устремив свой взгляд на уши лошади, стучавшей копытами по голубоватой от луны дороге. – Это юная подруга моей жены, круглая сирота. Ее отец вовлек нас в рискованное денежное предприятие, мы выпутались из него, но это стоило гораздо большего, чем только страх.
Затем он покачал головой и, меняя разговор, рассказал мне о той запущенности, в какой найду я парк и замок, совершенно необитаемый в течение тридцати двух лет.
От г-на Поля я узнал, что, живя здесь, его дядя, Оноре де Габри, был безжалостен к местным браконьерам, и дядины сторожа по ним стреляли, как по кроликам. Один из браконьеров, мстительный крестьянин, получивший заряд дроби в лицо от самого помещика, подстерег его однажды вечером из-за деревьев на проспекте и промахнулся на пустяк, задев ему пулей только кончик уха.
– Мой дядя, – добавил г-н Поль, – пытался рассмотреть, откуда был направлен выстрел, но не увидел ничего и своим обычным шагом вернулся в замок. Наутро он вызвал управляющего и приказал запереть парк и дом, чтобы ни одна живая душа не могла туда войти.
Он строго запретил чего-либо касаться, что-либо поддерживать или чинить в имении и постройках до своего возвращенья, а в заключение пробормотал сквозь зубы, что он вернется к Пасхе или к Троице, как то поется в песне; но так же, как и в песне, Троица прошла, а о нем ни слуху ни духу. В прошлом году он умер в Каннах, и мы, я и мой зять, первыми вошли в замок, заброшенный уже тридцать два года. Среди гостиной мы увидали выросший каштан. А чтобы гулять по парку – в нем еще надо провести аллеи.
Спутник мой замолк, и среди шуршанья насекомых, копошившихся в траве, был слышен только мерный топот лошадиной рыси. В этом неясном лунном освещении копны пшеницы, расставленные на полях по обе стороны дороги, походили на высоких белых женщин, стоящих на коленях, и я отдался великолепию наивных обольщений ночи. Проехав в густой тени проспекта, мы повернули под прямым углом и покатили по господскому проезду, в конце которого внезапно появился черной массой замок с башенками наверху. Мы ехали мощеной дорогой, подходившей к «красному» двору и перекинутой через ров с проточной водой взамен давно разрушенного подъемного моста. Потеря моста, думается мне, явилась тем первым унижением, какое претерпела эта воинственная усадьба, прежде чем приняла миролюбивый вид и так же мирно встретила меня. Отраженье звезд в темной воде сверкало дивной чистотой. Г-н Поль, как вежливый хозяин, провел меня на самый верх до моей комнаты, в конце длинного коридора, и, извинившись за то, что не может меня представить своей супруге в такой поздний час, пожелал мне доброй ночи.
Комната моя, побеленная и обитая персидской тканью, носит отпечаток галантной прелести XVIII века. Еще теплая зола, свидетельствуя, с каким стараньем изгоняли сырость, наполняла камин, доска которого служила опорой фарфоровому бюсту королевы Марии Антуанетты. На белой раме тусклого и в пятнах зеркала два медных крючка, куда старинные дамы вешали свои цепочки, предлагали теперь на выбор свои услуги моим часам, которые я тщательно завел, ибо вопреки положеньям термитов считаю, что человек тогда хозяин времени, являющегося самой жизнью, когда разбил он время на часы, минуты и секунды – то есть на частицы, пропорциональные кратковременности самой жизни человека.
И я подумал: жизнь нам кажется короткой только потому, что мы бездумно прилагаем к ней мерило наших легкомысленных надежд. Всем нам, как старику в басне, становится необходимым добавлять к нашей постройке еще одно крыло. Прежде чем умереть, хочу закончить историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Время, дарованное Богом каждому из нас, подобно драгоценной ткани, по которой мы вышиваем, кто как может. Я расцветил свою основу всяким филологическим узором. Так протекали мои мысли. И в тот момент, когда повязывал я голову фуляром, идея времени вернула меня к прошлому, и я вторично, за время оборота минутной стрелки, вспомнил вас, Клементина, дабы благословить вас в потомстве вашем, прежде чем загашу свечу и стану засыпать под кваканье лягушек.
Люзанс, 9 августа
За завтраком не раз имел я случай оценить беседу г-жи де Габри, сообщившей, что замок посещают привидения, в особенности дама «с тройною складкой на спине», при жизни отравительница, а после смерти – неприкаянная душа. Нет, мне не передать, как много остроумия и жизни сумела вложить г-жа де Габри в это старинное повествование кормилиц. Мы пили кофе на террасе, где могучий плющ обвил и вырвал из каменных перил балясины, повисшие теперь среди сплетений сладострастного растения, как фессалийки в объятиях кентавров, их похитителей.
Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, утратил свой истинный характер в результате последовательных изменений. То было обширное, почтенное сооружение, и больше ничего. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело явного ущерба. Но когда г-жа де Габри привела меня в большой салон нижнего этажа, я там увидел вспучившиеся доски, гнилые плинтусы, щелистую обшивку стен, почернелые росписи простенков, на три четверти отставшие от их подрамников. Каштан, подняв паркетные дощечки, здесь вырос и обращал к лишенным стекол окнам широкие султаны своих листьев.
Не без тревоги я смотрел на это зрелище, соображая, что богатая библиотека Оноре де Габри, находившаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влияниям. И все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреоборимой силе, побуждающей каждый зародыш претвориться в жизнь. Зато я опечалился при мысли, что те усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие, – это усилия и многотрудные и тщетные. Все то, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилище из мрамора пальмирских храмов, – более философ, чем все хранители музеев Парижа, Мюнхена и Лондона.
Люзанс, 11 августа
Слава Богу! Библиотека, расположенная на восход, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного «Обычного права» in folio, насквозь проеденного сонями, книги в зарешеченных шкафах остались невредимы. Весь день провел, классифицируя рукописи. Солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слушал, как грузно бились в окна отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен и мухи, пьяные от света и жары, жужжали крыльями, кружась у меня над головой. К трем часам гуденье их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена XIII века, и начал наблюдать за концентрическим полетом этих, по выраженью Лафонтена, «животинок». Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозги архивиста-палеографа, ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, так как мне предстояло наспех совершить свой туалет, чтобы явиться в приличном виде пред г-жою де Габри.
Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня есть талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино великой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя с г-жой де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старым текстам, я описал ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но верованиями, чувствами и мыслями и примет всех нас в материнское лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.
– Господин Бонар, – обратилась ко мне моя приятная дама, – вы видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно из всего этого родились персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, где Красная Шапочка шла в лес собирать орехи. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху-пряху, веретеном которой укололась Спящая красавица.
Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав прохладу вечера, стала дрожать под шалью и, простившись, ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и там продолжить разбор рукописей. Несмотря на возраженья г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову старинным языком – книгохранилище, и взялся за работу при свете лампы.
Прочтя пятнадцать страниц, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман моего сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движенье на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда пахучую щепотку порошка, но она вся разлетелась по манишке, оставив в дураках мой нос. Я уверен, что мой нос выразил негодованье, так как он очень выразителен и не один раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Бриу, выискал картуларий Нотр-Дам-дез-Анж.
Какая это была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Бриу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, забрал его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал, чтобы сыграть со мною штуку. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и мне доставило большое удовольствие отметить в нем ряд крупных недостатков.
Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается о будочке для кроликов, запроданной священнику Жану д'Эстурвиль в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза всё обращались к одному концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте находился лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем Нюрнбергской Хроники. Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.
Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья – вроде меня, – поразился бы им непременно и живейшим образом.
Я вдруг увидел, не заметив момента появления ее, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну ногу, другую свесив, – почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкою шлейф платья. И все же ее лицо и формы могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет даже у старого ученого вроде меня. Добавлю, без боязни ошибиться, что она была прекрасна и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на корешке Хроники, дышало благородством с примесью своенравия. Вид у нее был королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью, и очень фантастично. Рот повелительный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то опасным выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, – а эта дама была блондинка. В общем она производила впечатление величия. Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, если бы не мое благоговенье перед ней; поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала отчетливое представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на Нюрнбергской Хронике, была такая горделивая стройность, такая величавая гармония, было столько свободы и благородства в позе, что мне она представилась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, я повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.
Костюм, под стать ее наружности, был исключительно великолепен. Он состоял из платья золото-серебряной парчи и мантии из красновато-оранжевого бархата на беличьем меху. Головной убор в виде двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку, привлекшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологией научили меня распознавать с известной достоверностью те знаки, какие отличают именитых особ сказаний и истории. В данном случае такое знание мне пригодилось. Разглядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. «Так, это палочка феи, – сказал себе я, – а следовательно, дама, держащая ее, конечно – фея». Радуясь тому, что наконец узнал, с кем приходилось иметь дело, я попытался сосредоточить свои мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюсь, мне было бы приятно научно рассказать этой особе о роли ей подобных среди племен саксонских и германских и на латинском Западе. Такая речь мне мыслилась удачным способом выразить даме благодарность за появленье перед старым эрудитом, противно непреложному обычаю подобных ей созданий показываться лишь наивным детям и непросвещенным мужикам.
«Но, становясь феей, не перестаешь быть женщиной», – сказал себе я. И поскольку госпожа Рекамье, о чем я слышал от Ж.-Ж. Ампера, считалась с впечатлением, какое красота ее производила на мальчишек-трубочистов, постольку и сверхъестественная дама, сидевшая на Нюрнбергской Хронике, конечно, будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее, подобно образку, медали, фибуле или печати. Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось неосуществимым, когда я увидал, что дама Хроники проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки, такие маленькие, каких не видывал я в жизни, стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевала с серьезностью ребенка, сосущего грудь матери.
В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство науки, – я промолчал. Но поскольку скорлупа вызывала неприятную щекотку, я заслонил рукою нос и констатировал с великим изумлением, что мои очки сидели на самом кончике его и даму видел я не сквозь, а через стекла, – вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыни от графина, поставленных рядом под самым моим носом.
Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраскою и формой, вполне законно привлек внимание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. В компании иной раз мне случалось подвергаться проделкам юных барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали свечку так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной в таких причудливых капризах и не щекотала мне ноздрей моим же собственным пером. По счастью, я вспомнил наставленье дедушки, покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено и все идущее от них есть милость и благоволенье. Поэтому скорлупки и перо я воспринял как милость и благоволенье и попытался улыбнуться. Больше того – заговорил!
– Сударыня, – произнес я с достоинством и вежливо, – вы посещением своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойла и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос, – короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень мило пугали в рощах загулявшиеся пары. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, видеть вас теперь, во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилица, вашей истории уже не знает, а мой сосед-малыш, хотя еще утирает ему нос нянька, стоит на том, что вы не существуете совсем.
– Что скажете на это вы? – серебристым голоском воскликнула она, молодцевато выпрямляясь своею королевскою фигуркой и нахлестывая корешок Хроники, словно гиппогрифа.
– Не знаю, – ответил я, протирая глаза.
Этот ответ, запечатленный глубоко научным скептицизмом, произвел на собеседницу эффект самый плачевный.
– Господин Сильвестр Бонар, – сказала мне она, – вы тупица. Я и всегда подозревала это. Самый малый ребятенок, что бегает по улицам с торчащей из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки ваших институтов и ваших академий. Знание – ничто, воображенье – все. Существует только то, что вообразимо. Меня воображают. Для меня это значит – существовать. Обо мне мечтают, и я являюсь. Все лишь мечта. А поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, – то это вы не существуете. Я зачаровываю мир, и я везде: в луче луны, в журчанье скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, в белых парах, что утром поднимаются с низин лугов, в розовом вереске – повсюду!.. Кто меня видит – меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих по опавшим листьям. Я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилиц, даже самых толстых; склонясь над колыбелью, я шалю, я утешаю, я навеваю сон. А вы – вы сомневаетесь в моем существовании! Сильвестр Бонар, под вашей фуфайкой – шкура осла!
Она умолкла; ее тонкие ноздри раздувались от негодованья, и покамест я, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, концом вперед.
Я отер лицо, почувствовав, что все оно забрызгано чернилом. Она исчезла. Погасла лампа. Лунный луч пронизывал окно и упадал на Хронику. Свежий ветер, поднявшись незаметно, развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущенье!
Люзанс, 12 августа
Согласно обещанию, я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосходная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламенты щадили королей. «В вашем возрасте – и быть таким неразумным», – сказала бы она. По простодушию, она уверена, что с возрастом разумность развивается. Я в этом смысле ей представляюсь исключением.
Не имея тех же оснований утаивать это приключенье от г-жи де Габри, я рассказал ей свой сон с начала до конца. Рассказал таким, каким я его видел и записал в этом дневнике. Искусство вымысла мне незнакомо. Тем не менее возможно, что в рассказе, а также в записи я вставил там и сям некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала, – конечно, не ради извращения истины, а скорее по тайному желанью уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а может быть, и уступая тому влеченью к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков.
Г-жа де Габри слушала меня не без удовольствия.
– Ваше видение очаровательно! И чтобы иметь подобные видения, необходим очень живой ум.
– Значит, я умен, когда сплю.
– Когда мечтаете, – поправила она, – а вы мечтаете всегда.
Я знаю хорошо, что, выразившись так, г-жа де Габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само намерение уже заслуживает всей моей признательности, и я лишь в смысле благодарности и нежного воспоминанья отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня, никто читать ее не станет.
Последующие дни употребил я на окончание инвентаря рукописей в Люзанской библиотеке. Несколько слов, вырвавшихся у г-на де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня и повлияли на мое решение – вести работу иначе, нежели я начал. От него узнал я, что состояние Оноре де Габри, управляемое плохо с давних пор, лишилось большей своей части при разорении одного – не названного мне – банкира и перешло наследникам бывшего пэра Франции лишь в форме заложенной недвижимости и безнадежных векселей.
Господин Поль, по соглашению с наследниками, решил продать библиотеку, мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек, всецело чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь книгопродавца из моих друзей. Я написал ему, чтоб он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв палочку и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом.
С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день обследовал я кладбища и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, ужинал в трактирах вместе с офенями и прасолами, засыпал на простынях, надушенных лавандой; и так провел я целую неделю, не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал и тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажные открытия, а следовательно, они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне милым священником.
Обогащенный такими знаниями, вернулся я в Люзанс и шествовал по «красному» двору с самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев; и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства.
Я прошел до большой гостиной, не встретив никого, и молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне показался другом. Но то, что я затем увидел на консоле, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал, желая убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу. В одну секунду у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самой основательной из них была та мысль, что я сошел с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не видеть в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоле под мутным и пятнистым зеркалом.
В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал законченный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь на самом деле изумительная.
Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать себя в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются расстройства в действии желудка, а мой желудок, слава Богу, работает отлично. К тому же обманам зрения сопутствуют обстоятельства особого и анормального порядка, действуя на самих галлюцинирующих и внушая им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, какой я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.
В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною была фея – фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой царицы, гибкая и гордая фигура, на голове сверкала та же диадема, в руках была ореховая палочка; парчовый шлейф по-прежнему змеился вокруг ее малюток-ножек. То же лицо и тот же рост. Это действительно она; и, во избежание сомнений, она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с Нюрнбергской Хроникой. Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.
Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.
– Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? – сказала мне хозяйка. – Ну как? Похожа?
Разговор – короткий, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея – статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как получила дама Хроники материальное бытие и благодаря кому? Вот это не терпелось мне узнать.
Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что с нею кто-то есть. Юная девица в черном стояла рядом. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она вся напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени этот ребенок понравился мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на подбородке и щеках смеялись, и при всей наивной угловатости ее манер в ней было что-то хорошее и честное.
Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.
– Так что же? – вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что ей надо повторять свои вопросы. – Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незакрытым? Она была весьма нахальна, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаете ли вы ее?
– Да, это она, – ответил я. – И на этом консоле я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.
– Если это так, – ответила г-жа де Габри, – то в этом сходстве повинны прежде всего вы – человек, по вашим же словам, без всякого воображенья, но способный описывать сны живыми красками; потом я – тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон; наконец, и в особенности, Жанна – тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку!
Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но девушка высвободилась и побежала в парк.
Госпожа де Габри окликнула ее:
– Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите, я вас пожурю!
Но все напрасно – беглянка скрылась за листвою. Г-жа де Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.
– Я была бы очень удивлена, – сказала мне она, – если бы мой муж уже не говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательный ребенок. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?
Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут тем, что юные персты сумели вышить по канве рассказа такого простака и так блестяще изобразили сновиденье старого говоруна.
– Я спрашиваю вашего мнения об этом, – сказала г-жа де Габри, – потому, что Жанна – бедная сирота. Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег тем, что будет делать такие статуэтки?
– Нет! – ответил я. – Да тут и не о чем особенно жалеть. Эта девушка, вы говорите, любящая и нежная, – я верю вам и верю ее лицу. В жизни артиста бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание замешено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.
– Но у нее нет приданого, – возразила г-жа де Габри.
Затем, слегка понизив голос, сказала мне:
– Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этого ребенка был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывал себя. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего, – вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла она сама, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно хорошего, ей ничего не удалось спасти. Г-жа Ноэль Александр, в девицах Алье, – дочь Ахилла Алье из Невера.
– Дочь Клементины! – воскликнул я. – Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так незначительно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь – короче памяти людской!
И мысленно я сотворил молитву:
«Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Проходит все, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна, – вот эту жизнь в ее все время обновляющихся образах и надлежит любить.
Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я – дедушка.
Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой кроме меня заботился о ней и наделил ее приданым».
Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.
Париж, 16 апреля
Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, смогу ли написать историю их раньше, чем приобщусь к ним. Я стар давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на Мосту Искусств, как скучно стариться. «Но пока известно только это средство долго жить», – отвечал ему Сен-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все кругом тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей – эти божественные сокровища – природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если в жизнь мужчины когда-либо проскальзывало тенью живое существо, то это, конечно, юная девица – такая, какую я любил, когда и я был юношей (теперь это кажется невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.
В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятье, и страшный его смысл я понял лишь со временем. Там говорится: «Если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких». Как археолог, я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшенья, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет никогда меня проклятье, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников! Но каким образом оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких, пока здесь на земле есть люди, – ибо всегда найдутся среди них достойные любви.
Узы! Способность любить слабеет и теряется с годами, как и все другие силы человеческого духа. Так учит опыт – вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес такой великой утраты? Разумеется, я б и понес ее, когда б не эта счастливая встреча, омолодившая меня. Поэты воспевают источник юности: он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу; а люди проходят мимо, но не вкушают из него!
Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл.
Сегодня я «набираюсь солнца», как говорят в Провансе, – набираюсь на террасе Люксембургского дворца, у статуи Маргариты Наваррской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю, – думается, что это позволительно такому старичку, который издал тридцать томов старинных текстов и двадцать шесть лет сотрудничал в «Вестнике ученых». Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои труды оказались не совсем напрасны, и в скромной доле я содействовал тому возрожденью исторических работ, какое пребудет славой этого неугомонного века. Я, несомненно, попаду в число десяти или двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куэнси заложило основу здравой методологии и стало датой. Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и Бог, Который видит мою душу, знает, причастны ли хоть в малой доле гордость и тщеславие той справедливой оценке, какую я даю себе.
Но я устал, глаза мои мутятся, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех стариках Гомера, которые по слабости держались вдалеке от боя, сидя на валах, и стрекотали, подобно кузнечикам в траве.
Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна в басне Лафонтена, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал, – не потому, чтобы они собою представляли нечто выходящее из ряда вон, но в них я увидал то честное и жизнерадостное выраженье, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика. Ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку, общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на некоторые вызывающие и диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего ученья. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос, ниспадавших на бархатные куртки; не разгуливали, как мы, с изображеньем черепа; не восклицали, как мы: «Проклятие и ад!» Прилично одетые, они не делали заимствований в Средних веках ни для костюма, ни для речи. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место. Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее шалости.
Один из них отпустил какую-то вольную шутку.
– Что это значит? – воскликнул с легким гасконским выговором самый низенький и самый черный из троих. – Это нам, физиологам, пристало заниматься живой материей. А вы, Жели, как все ваши собратья, архивисты-палеографы, живете только в прошлом, ну и занимайтесь вашими современницами – вот этими каменными женщинами!
И он указал пальцем на статуи женщин старой Франции, во всей своей белизне стоявшие полукругом под деревьями террасы. Эта шутка, сама по себе пустячная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Жели, был студентом Архивной школы. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмье. Жели и будущий врач (желаю ему быть им) разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям; иными словами – глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изволили высказывать лишь самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю я молодых людей, чрезмерно рассудительных.
Студент-медик, посмотрев заглавие книги, бывшей в руках у Бульмье, сказал:
– Вот как! Ты читаешь Мишле?
– Да, я люблю романы, – серьезно ответил Бульмье.
Жели, выделявшийся своей красивой стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал:
– Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествований. Есть гнев, обмороки, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать. Детские выкрики, капризы беременной женщины! Воздыхания и ни одной обычной фразы! Поразительно! – И он вернул книгу товарищу.
«Это дурачество занятно, – сказал себе я, – и не так уж лишено смысла, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторая взволнованность, я даже бы сказал – потрясенность».
Но студент-провансалец начал утверждать, что история – упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, единственной и настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фистуле Людовика XIV, но тут же опять поехал старой колеей.
Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо друзей. Оба архивиста, редкие гости в этом саду, чересчур отдаленном от улицы Паради-о-Маре, остались с глазу на глаз и повели беседу о своих занятиях. Жели, кончивший третий курс, готовил диссертацию и тут же с юношеским восторгом изложил тему. По правде говоря, предмет его показался мне хорош, тем более что я и сам подумывал разработать в ближайшее же время его существенную часть. Дело шло о Monasticon gallicanum[9]. Юный ученый (именую его так в качестве предсказания) хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое Дом Жермен отпечатал бы и сам, когда бы не помеха, неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, Дом Жермен все же успел оставить свою рукопись законченной, в полном порядке. Доведется ли мне сделать то же со своей? Но не в этом дело. Как я понял, г-н Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными граверами для Дом Жермена.
Друг этого Жели спросил, все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны? Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточною методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ.
– Читал ли ты заметку Куражо? – спросил Бульмье.
«Хорошо», – сказал себе я.
– Да, – отвечал Жели, – работа добросовестная.
– А ты читал в «Историческом обозрении» статью Тамизе де Лярока? – спросил Бульмье.
«Хорошо», – сказал я себе вторично.
– Да, – отвечал Жели, – и я нашел там ряд полезных указаний.
– А ты прочел «Обзор бенедиктинских аббатств в тысяча шестисотом году» Сильвестра Бонара?
«Хорошо», – сказал себе я в третий раз.
– Ей-богу, нет! – ответил Жели. – Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар – дурень.
Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепым оставаться и получить ревматизм, слушая безрассудства двух самонадеянных юнцов.
«Ну, ну! – сказал себе я, поднимаясь. – Пусть этот болтливый птенчик напишет диссертацию и защитит ее. Он попадет к коллеге моему Кишра или другому профессору, которые ему покажут, что он еще не оперился. Считаю его просто сквернословом. И на самом деле все сказанное им о Мишле, как думаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом даровитом учителе! Это гадко!»
17 апреля
– Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником!
Но Тереза глуха, как куль с углем, и медлительна, как правосудие. Тому причиной ее годы. Хуже всего то, что она воображает, будто хорошо слышит и легка на ногу, и, гордясь шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом.
Что я вам говорил?.. Вот и теперь она не хочет дать мне палку с серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял. Это правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость, где серебряный чеканный набалдашник изображает Дон Кихота в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, воздевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка – все, что получил я из наследства дяди, капитана Виктора, который при своей жизни больше походил на Дон Кихота, чем на Санчо Панса, и любил драки так же естественно, как другие их боятся.
Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дому, и две фигурки – господина и оруженосца – вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их, и Дон Кихот мне говорит:
– Крепко мысли о вещах великих и знай, что единственная реальность в мире – это мысль. Возвышай природу до себя, и да будет тебе вселенная лишь отблеском твоей героической души. Бейся за честь – только это достойно мужчины; а если тебе случится получать раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся.
А Санчо Панса говорит мне от себя:
– Оставайся, приятель, тем, чем создало тебя небо. Предпочитай сухую корку хлеба в твоей суме жареным овсянкам на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк: искать опасности – значит, искушать Бога.
Но если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают, как образ, на моей палке, – они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон Кихот и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним; но если даже нас убеждает Санчо Панса, то любоваться должно только Дон Кихотом. Однако довольно болтовни… идемте к г-же де Габри по делу, выходящему из круга обычной жизни.
Тот же день
Я застал г-жу де Габри уже одетой в черное и надевающей перчатки.
– Я готова, – сказала она.
«Готова», – такой я находил ее всегда для добрых дел.
Мы сошли с лестницы и сели в карету.
Не знаю, какое тайное наитье боялся я рассеять, прервав молчание, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, только глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей.
Фиакр остановился у последних пределов земли живых – перед воротами, где начертаны слова надежды.
Мы шли по кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил.
– Здесь, – сказала г-жа де Габри.
На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись:
СЕМЬЯ АЛЬЕ И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДР
Решетка замыкала вход к памятнику. В глубине, над алтарем, покрытым розами, высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее.
То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, выразимое лишь звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал игру небесно-нежных инструментов. С величавой гармонией похоронного гимна мешались приглушенные ноты песнопения любви, ибо душа моя сливала в одно чувство и мрачную серьезность этого момента и милые сердцу прелести былого.
Покидая могилу, благоухающую розами, принесенными г-жой де Габри, мы прошли по кладбищу, ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, язык мой развязался.
– Пока мы с вами шли по этим немым аллеям, – сказал я г-же де Габри, – я думал о тех легендарных ангелах, с которыми встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покоящейся там, среди своих родных; и вот ее могила вновь вызвала переживанья, единственные в моей жизни, а в этой тусклой жизни они – как одинокий свет среди дороги ночью: свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спуска, и все же, обернувшись, каждый раз я вижу этот свет таким же ярким… Воспоминания теснятся в душе моей. Я – словно старый, мшистый и корявый дуб, что будит стайки певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня.
– Эта песня меня пленит, – сказала мне она. – Поделитесь же со мной вашими воспоминаниями и рассказывайте мне как старой женщине: причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три белых волоса.
– Смотрите на появленье их без грусти, – ответил я, – время ласково лишь к тем, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные бандо подернутся налетом серебра, вы облечетесь новою красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первая, и вы увидите, что муж ваш станет так же любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей, точно святыню. Эти бульвары широки и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала расскажу лишь о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование.
Господин де Лесе жил на проспекте Обсерватории, в третьем этаже старинного дома, оштукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад были первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах; и когда пробьет неизбежный час, то, несомненно, они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, – ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие, часы святые, когда душа со всей своею свежестью обнаруживает мир, ради нее облекшийся ласкающим сияньем и таинственным очарованьем. Ведь и на самом деле вселенная – лишь отблеск нашей души.
Матушка моя была созданием весьма счастливо одаренным. Как птицы, пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своею домовитостью, родительским инстинктом, всегдашнею потребностью петь и какой-то необъяснимой прелестью, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйскою и радостною хлопотливостью. Если моя мать отличалась большой живостью, то отец мой страдал большой вялостью. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость. Сидя в большом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него передалась мне любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Реналя и Мабли с пометками его рукой от первой страницы до последней. Было совершенно безнадежным, чтобы он занялся чем-нибудь серьезно. Когда же матушка моя пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головою с непреклонной кротостью, составляющей силу у бесхарактерных людей. Он приводил в отчаянье бедную жену, неспособную проникнуться такою созерцательною мудростью и в жизни понимавшую лишь повседневные заботы и радость повсечасного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая.
В 1801 году отец мой, поступив в Морское управление при Декре, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент проявлял большую деятельность, и мой отец с 1805 года стал начальником второго административного отдела. В этом году император, осведомленный министром об отце, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая, неведомо для министерского редактора, глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в 1807 году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнева при Трафальгаре. Наполеон со времени этого злосчастного дня и слышать не хотел о кораблях; он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув: «Фразы! Фразы! Фразы!» Отцу передавали, будто император в тот момент был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, это было его привычкой: в раздражении мешать ногами жар, пока не опалит себе подошвы.
Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости, а бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламаций к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо отец мой, скорее опечаленный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери, Виктор Мальден, пехотный капитан, переведенный на половинную пенсию в 1814 году, а в 1815-м получивший чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кафе и на общественных балах, что Бурбоны продали Францию казакам, первому встречному показывал трехцветную кокарду, спрятанную в шляпе за подкладкой, хвастливо ходил с палкой, точеный набалдашник которой отбрасывал тень в виде силуэта императора.
Если вы не видели некоторых литографий Шарле, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым брандебурами, с фиалками и воинским крестом на груди, прогуливался нелюдимым франтом по саду Тюильри.
Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением «Котидьен» или «Драпо блан», и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил, себе на горе и бесчестье, шестнадцатилетнего мальчика. Словом, мой дядя Виктор – полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец страдал жестоко от выходок своего гостя, но, как человек добрый, не закрывал своих дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем.
То, что я рассказываю вам, мне стало ясным много позже. Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем возможно больше. Одним прекрасным утром я, для начала сходства, подбоченился и стал ругаться, точно басурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что, прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный. Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы.
Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром мой отец, по своему обычаю взяв меня на руки, улыбнулся мне с особым ироническим оттенком, придававшим какую-то пленительность вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в это утро он мне рассказывал о короле в Ивето, как о нем поется в песне. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен; его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло, стало белым, глаза – огромны. Он попытался говорить, но зубы стучали друг о друга. Наконец он смог пробормотать: «Они его расстреляли!» Я не знал, о чем шла речь, и чувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нее, который пал седьмого декабря тысяча восемьсот пятнадцатого года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом.
Около того же времени я часто встречал на лестнице старика (возможно, что он был не очень стар); его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице. Мне он казался неживым, или по крайней мере живущим иначе, нежели другие. У господина Денона, куда водил меня отец, я видел мумию, привезенную из Египта; и я искренно воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудреный парик и становилась господином де Лесе. Даже и теперь, отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин де Лесе сильно походил на мумию Денона, – этим и объяснялся тот фантастический ужас, какой он мне внушал.
На самом деле господин де Лесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже само по себе являлось большим предубеждением. Я говорю о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть понятным вам, и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от вас далеко! Но по возможности я буду краток. Впрочем, ничего интересного для вас я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонара вы и не могли.
Госпожа де Габри побудила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях:
– Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку у моей матери, не приученной нравами республики и времен империи к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика Шестнадцатого. Господин де Лесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля – все до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, по сообщениям путешественников, составлял карты в количестве необычайном. Вскормленный чистейшим разумом «Энциклопедии», он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, минутах и секундах широты и долготы. Он занялся – увы! – их счастьем. Следует заметить, что люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин де Лесе был роялист-вольтерьянец, порода довольно распространенная в те времена среди «бывших». Он был геометром больше д'Аламбера, философом больше Жан-Жака и роялистом больше Людовика Восемнадцатого. Но любовь его к королю была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в заговоре Жоржа, угрожавшего жизни первого консула; следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе виновных. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону, звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка, – настолько жалким считал его воякой.
В 1813 году господин де Лесе, давно вдовевший, женился, лет пятидесяти пяти, на очень молодой женщине, которую привлек он к рисованию географических карт, но она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее болезни за ней ходила моя мать; она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенку дали имя Клементина.
Это рождение и эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином де Лесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я помрачнел и отупел: исчез пленительный дар чувствовать и видеть, события и вещи больше не увлекали своей манящей новизной, – а в этом и состоит очарованье детских лет. Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины; знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом.
Я впал в какое-то оцепененье. Отец отправил меня в лицей, и только там с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка. В конце концов я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели, иными словами – немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить Мильтиада и восхищаться Фемистоклом. Был близок с Квинтом Фабием, – разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна близость с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее отца, к тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они.
Однако же они вернулись, сударыня, они вернулись! Небесные влияния, силы природы, таинственные власти, ниспосылающие людям дар любви, вы знаете, как я увидел снова Клементину! Они вошли в наше печальное жилище. Господин де Лесе ходил уже без парика. Лысый, с седоватыми косицами на багровых висках, он предвещал здоровую старость. Но кто с ним под руку? Это божественное, лучистое создание, озарившее своим присутствием нашу старую, поблеклую гостиную, – ведь это же не призрак, это Клементина! Говорю поистине: синие глаза ее, глаза как барвинок, мне показались чем-то сверхъестественным; и до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тленью смерти.
Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. У нее был розоватый цвет лица; чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, – вероятно потому, что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала радость жизни и счастье красоты. Лицо под розовою шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике; на ней был кашмировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре… Не улыбайтесь, сударыня, – это моды того времени; и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести.
Господин де Лесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель де Лесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной, а улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад; улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена над циферблатом наших часов в гостиной; улыбалась старым креслам, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. С этого дня как я любил ее!
Но вот мы добрались до улицы Севр, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы, сверх чаяния, мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души, – их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с их колокольнями, и пока дойдем мы с вами до той вон – маленькой, рассказ мой будет уже кончен.
Господин де Лесе, узнав, что я кончаю Архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де Лесе являлась складом всех научных заблуждений восемнадцатого века о древних временах. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Подход старика к пониманию, или, вернее, к непониманию, варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов-поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля, ставили меня в ужасное положение и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно, весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные; господин де Лесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные – и сладостные. Я любил. Я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям к тому историческому и политическому облику, какой наша Земля, носившая и Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона.
По мере того как мы чертили карты, мадемуазель де Лесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть; тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза чарующею светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы, самые обычные, погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином де Лесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, а Орфей поступал неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда вступал я в эту сделку с упрямым стариком.
Мадемуазель де Лесе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться; я страдал от этого, но сам того не сознавая. У меня была надежда: мы дошли только до первого Ассирийского царства.
Каждый вечер господин де Лесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры, до такой степени противоположные. Отец мой мало чему дивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эти привычки осторожного ума выводили из себя старого дворянина, сухого, резкого; причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его ругали, особенно к выгоде Бурбонов, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол, религиозных, политических и социальных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевшей сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла X прибавило дерзости старику-бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал без прежнего усердия. Но изредка, в часы обеда, он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей; садясь за стол, он, по обыкновению, ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. Закончив обед, он складывал салфетку епископскою митрой, выпивал полуграфинчик водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лесе, то все пропало. Этот день настал!
На сей раз капитана не было видно под цветами; он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первой особой, осчастливленной его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое.
После обеда он отодвинул поданный ему графинчик, сказав, что «прикончит» водку вместе с кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему дурного качества, ибо он как-то особенно глянул на меня и затем сказал:
– Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери! Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры.
Было ясно: капитан угадал, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. Малейшие обстоятельства этого вечера запечатлелись в моей памяти. Дядя был весел. Одна мысль, что он в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, даю слово, превосходным солдатским стилем он рассказал известную историю о монашке, трубаче и пяти бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление трепела для полировки меди. О политике ни слова. Он берег себя. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина де Лесе. Несколько минут спустя де Лесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался как и обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лесе, заговорив об одной комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познания в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным: «А впрочем, что я знаю?» Я со своей стороны привел мнение нашего соседа из обсерватории – великого Араго. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждение чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно излагая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллионах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило неудачно.
– Племянник! – воскликнул капитан Виктор. – Твоя комета ничто в сравнении с кометой, сверкавшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица явилась в Страсбург раздавать армии кресты.
– Эта Жозефиночка весьма любила украшения, – сказал господин де Лесе между двумя глотками кофе. – Я не корю ее за это: невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров и оказала Буонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Невеста из Ташеров – это не бог весть что, но жених Буонапарте – совсем ничто.
– Что вы хотите этим сказать, господин маркиз? – спросил капитан Виктор.
– Я не маркиз, – сухо ответил де Лесе. – А хочу сказать, что Буонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем «Путешествии», – голых, татуированных, с кольцом в ноздрях, с веселием пожирающих гнилое человеческое мясо.
«Я это предвидел», – подумал я, и в этой мучительной тревоге (о жалкое человеческое сердце!) первой мыслью было отметить верность моего предвидения. Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, пренебрежительно окинул взглядом господина де Лесе и произнес:
– Кроме Жозефины и Марии-Луизы, господин видам, у Наполеона была еще жена. Эту подругу вы не знаете, а я видал ее вблизи, – на ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров, а на груди сверкает почетный крест; ей имя – Слава.
Де Лесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес:
– Ваш Буонапарте – потаскун.
Отец мой лениво встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лесе:
– Кем бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой шурин трижды ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать.
Что оказалось невозможным для выспренней и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца, повергнув господина де Лесе в неистовую ярость.
– Я забыл, моя вина! – крикнул он, бледный, стиснув зубы и с пеною у рта. – Селедочный бочонок пахнет всегда селедкой, и когда послужишь проходимцам…
При этих словах капитан схватил его за горло. Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня.
Отец мой, скрестивши руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов мне удалось разнять их. Господин де Лесе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед.
– Мадемуазель, – сказал я, не помня себя и сжимая ее руку, – я люблю вас! Я люблю вас!
На секунду она задержала мою руку в своей; рот ее чуть приоткрылся. Что собиралась она сказать? Но вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой.
После этого мы с нею не видались. Ее отец переехал к Пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к своим родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина, Ахилла Алье.
– Я же, сударыня, прожил свою жизнь тихо, один с самим собой. Мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу я у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом и дочь ее ушла в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: «Господи, ныне призови к себе раба Твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, мои оставшиеся силы.
Последние слова я произнес в передней у де Габри и собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:
– Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы того хотела. Жанна – сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.
– Ах! – воскликнул я. – Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.
Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением: такой наивности у старика она не ожидала. Госпожа де Габри мне пояснила:
– Опекун Жанны Александр – господин Муш, нотариус в Леваллуа-Пере. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, – он человек серьезный.
– Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?
Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:
– С теми, кто похож на вас. А господин Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет спросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей нехорошо живется.
Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.
Со 2 по 5 мая
Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой, цвет лица пыльный, как его бумаги. Это – животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.
Мэтр Муш счастлив, – так он сказал мне, – он восхищен моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. В целях справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения, – так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.
Я расстался с пыльным нотариусом и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша – узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.
В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виржини Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною энергией, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, – и мне удалось, переставляя ноги по этим ковровым островкам, добраться до угла камина, где я и сел, совсем запыхавшись.
На камине, в золоченой большой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой готикой: Почетная доска, но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, по мненью мадемуазель Префер – отличных, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите мне на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок этого заведения. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».
Довольно долго я дивился той энергии, с какою подчеркнула мадемуазель Мутон чащу бровей и гневные очи древнего воителя, но какой-то слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, меня заставил обернуться. Правда, это был не опавший лист, а… мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы Златой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы представления о девах, любезных душе мистика. Своим лицом она напоминала мне ранет, хранившийся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.
Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.
– Вы виделись с господином Мушем, – сказала мне она. – Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой…
Она не кончила и устремила взоры к потолку. Мой взор направился им вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображеньям, предназначенную завлекать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам почетной доски и зеркала.











