Читать онлайн Проспер из Фламинго
- Автор: Морис Декобра
- Жанр: Классика приключенческой литературы, Зарубежные приключения, Книги о приключениях
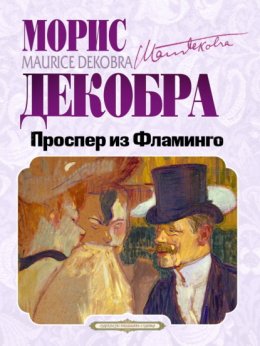
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
W W W. S O Y U Z. RU
Предисловие,
написанное на краю стола
В тот вечер на Монмартре шел дождь. Огни маленьких кафе на улицах Жермен-Пилон обрисовывали в темноте ночи молочно-бледные квадраты, заштрихованные жидкими полосами ливня.
Я сидел за мраморным столиком и мои промокшие ноги отдыхали на коврике из прессованных древесных опилок. В этом скромном кафе были только девушка с ничего не выражающим лицом в брезентовом плаще, с потертыми рукавами и контролер подземной железной дороги, меланхолично потягивавший через соломинку мазагран. Лакей, облокотившись на конторку кассирши, о чем-то перешептывался с ней. Можно было сказать: Ромео, в белом фартуке и Джульетта, угрюмая и страдающая водянкой.
Рюмка кальвадоса [Яблочная водка – Здесь и далее прим. ред.] слабо утешала меня в моем одиночестве. Делать мне было нечего, перечитывать вечерние новости надоело, и я уже, было, собрался встать, как в кафе вошел какой-то человек.
– Адольф! – крикнул я.
Вошедший протянул мне руку и сел около меня. Он полу раскрыл свое пальто и обнаружил под ним довольно хорошо сшитый фрак. Поверхностный, как выражаются фельетонисты, наблюдатель принял бы его за человека из высшего общества. Но он был только метрдотель.
Я люблю беседы с метрдотелями ночных ресторанов. У них можно почерпнуть любопытные свидетельства подлости мужчин и услышать оригинальные наблюдения насчет двуличия женщин.
Я познакомился с Адольфом в 1903 году, когда бары еще имели для меня прелесть запретного плода. Я велел подать для него рюмочку коньяку, и мы разговорились. Он сказал мне, что в настоящее время работает в «Королевском Фазане».
– Кстати, – продолжал он, смеясь, – я должен рассказать вам о последнем происшествии, свидетелем которого я был у нас в кабаре… Оно совсем свежо, так как случилось только вчера вечером, и достаточно поучительно… Представьте себе, что с некоторых пор мы заметили у нас и в соседних барах, какого-то странного посетителя. Это был высокий, лысый мужчина, с длинным подбородком, одетый в длинный сюртук и сидевший всегда в одиночестве за своим бокалом. К молодым женщинам, подходившим к нему, он обращался с библейскими текстами и призывал на них милосердия провидения. Управляющий бара «Нарцисс», наиболее осведомленный человек на пространстве между площадями Бланш и Пигаль, обратился к Габи, статистке из «Сигаль»:
– Этот тип, мой малыш, шотландский священник. Его зовут Мак Джинджер. Он пресвитерианский пастор и борется с безнравственностью больших городов… Мой товарищ Эдуард, бывший экономом в «Карлтон», в Лондоне, видел его прошлой зимой. Он распространял там голубые крестики и брошюры на тему о добродетели.
– Так сказать, святая швабра, – определила Габи.
– Вот именно так.
Вчера вечером «Королевский Фазан» был полон. Женщины, сидя на бархатных табуретах цвета резеды, мурлыкали мелодии, которые играл испанский гитарист. Вдруг около двери послышался шепот.
– Вот он! – сказала большая Люлю, толкая в локоть свою подругу Леа. – Вот будет забавно!
– Вот этот? Пастор? Что он, аршин проглотил, что ли?
Уверяю вас, что это непочтительное замечание Леа было совершенно основательно. У достопочтенного Мак Джинджера была поистине смешная физиономия. Бритый, лысый, с глазами, подернутыми меланхолией, с выдвинутым вперед подбородком, он изрядно напоминал пуританских квакеров, погрузившихся на Мейфлауер [Название судна, на котором прибыли в Америку первые английские эмигранты], чтобы колонизовать Новый Свет. Он держал в руке, обтянутой шелковой перчаткой, книгу в кожаном зеленом переплете. Это была библия. Он занял место у стола по соседству с Люлю.
– Гарсон! – позвал он. – Джину!
Люлю и Леа, поджидавшие двух молодых людей, сильно увлеченных их пикантной красотой, подумали, что было бы занятно поболтать с апостолом.
– Добрый вечер, мсье, – сказала Люлю, с пленительной улыбкой.
– Добрый вечер, мое дитя, – ответил Мак Джинджер с большим достоинством. – Мы уже встречались в этом месте? Не правда – ли?
– Да…
Разговор завязался. Так как я находился около них, то не упускал ни слова. Люлю и Леа щипали друг друга под столом и старались не смеяться.
– Не кажется ли вам, что вы нехорошо делаете, проводя ночи в этих гибельных местах? – сказал вдруг достопочтенный. Говорю вам, что вы идете по плохой дороге, привлекая своими взглядами мужчин, забавляющихся, здесь… Вы должны бросить это отвратительное занятие и работать своими руками, дарованными вам творцом.
Люлю прошептала на ухо своей подруге:
– Так… Он уже оседлал своего конька. Сейчас он поскачет…
Потом повернувшись к шотландцу, она наивно спросила:
– Но какую работу посоветуете вы мне, мсье?
– Мое дитя, нужно возделывать плодородную почву ваших предков, нужно разводить растения на чистом воздухе природы.
– Заставить произрастать горошек! – иронически пояснила Леа.
– Горошек, хлеб, все съедобные растения… Разводить также домашний скот: быков, коров, телят…
– Ты говоришь о скотах, – завизжала Люлю.
Мак Джинджер хотел продолжать свое апостольство. К несчастью, приход двух поклонников этих дам прервал его проповедь. Люлю и Леа больше не обращали на него внимания, и он продолжал проповедывать «в пустыне». В это время к соседнему столу подсела очень элегантная женщина. Это была Регина Аликс, модная куртизанка, охотно покидающая свой великолепный отель на улице Хош, чтобы повеселиться в Монмартре украдкой от своего официального покровителя. Казалось, она хорошо знала достопочтенного патера, так как грациозно поклонилась ему. Мак Джинджер повернулся к ней и с достоинством ответил на ее поклон.
Регина села, расстегнула свое манто из американской куницы и заказала шампанского, лаская кончиками своих красивых пальцев великолепное жемчужное колье. Через пять минут она разговаривала уже со своим соседом. Она не смеялась над ним, о нет! Она не была похожа на Люлю и Леа, которые смеются над самыми священными вещами. В ней было сильно чувство порядочности, и она одобряла благородные мысли этого пастора.
– Ах! Как вы правы, мсье, – говорила она. Уже давно следовало бы оградить плотиной волну греха, угрожающую нам… Следовало бы перевоспитать эти несчастные создания, которые не верят ни в бога ни в черта…
– Вот поистине примерные слова. С этого вечера я буду молиться за вас, мадам, я живу в настоящее время в Париже, в семейном пансионе на улице Ваграм, 16.
– Но мы почти соседи, мсье. Я – Регина Аликс и живу на улице Хош 22-bis.
– Я польщен, мадам…
– Вы позволите, мсье пастор, предложить вам чашку чая? Я доставлю себе удовольствие вручить вам свою скромную лепту для вашего прекрасного дела.
– Мадам…
И достопочтенный с благодарностью поклонился.
Между тем в зал вошел какой-то молодой человек. Это был удивительно красивый юноша с профилем флорентийской камеи, гибкий, как газель и грациозный, как гимнаст. При виде его во взгляде Регины зажегся внезапно странный огонек. Она наклонилась к проповеднику.
– Господин пастор, – прошептала она, – вот молодой человек, для которого я… к которому я питаю большую симпатию… О, мне следовало бы краснеть, признаваясь вам в этом, но вы так добры, так снисходительны. Вы простите бедную грешницу, не правда – ли?
Она подыскивала слова и продолжала в большом замешательстве:
– Послушайте, господин пастор, я вам сейчас все открою, это будет лучше… Этот молодой человек и я, мы сейчас пройдем в отдельный кабинет, наверху… Но… О… как сказать вам это… Я не совсем знаю его. Я немножко боюсь остаться с ним наедине, потому что у меня на шее вот это колье… Вы понимаете?
Достопочтенный слушал, но, казалось, не понимал, к чему ведет его соседка.
– Господин пастор, – сказала она, – не согласились бы вы поберечь мой жемчуг, пока мы выпьем немного шампанского там, наверху?
Умоляющий взгляд кающейся грешницы победил сомнения священника, и он ответил:
– Мадам, я вам признаюсь, что я не очень охотно беру на себя ответственность за ваши драгоценности… Это слишком большая ответственность… Но, в виде исключения, чтобы сделать вам приятное…
– О, спасибо! спасибо!..
И Регина тотчас сняла свое колье и протянула его под столом пастору.
– Вы будете все время на этом месте, не правда ли? Вам не надоест? – прошептала она. Спасибо, еще раз… Я скоро вернусь…
Регина встала, сделала незаметный знак Антиною в смокинге и исчезла.
Спустя несколько минут Мак Джинджер позвал лакея.
– Счет!.. – сказал он просто.
Он расплатился, оставил щедро на чай и солидно вышел, сжимая в своей руке книгу в зеленом кожаном переплете. Я не заметил этого, увы, так как был занят другими гостями.
Не прошло и десяти минут, как два человека в сюртуках вызвали нашего управляющего в вестибюль «Королевского Фазана». Они предъявили свои карточки инспекторов полиции.
– Мы должны осмотреть ваши залы, – сказал один из них. Здесь, по-видимому, находится один опасный английский мошенник, изображающий из себя пастора в ночных ресторанах. Мы получили предписание из Лондона задержать его.
Мой собеседник замолчал. Я заказал еще два стакана кальвадоса, и мы просидели до часу утра. Когда мы вышли из кафе дождя уже не было. Я прощался с Адольфом. В то время, как его силуэт обрисовывался в неясном еще утреннем свете на улице Мартир, я вспомнил его рассказ и подумал, что в нашу эпоху, когда Тристан переступил бы через символический меч, чтобы заполучить Изольду [Герои средневековой легенды, послужившей сюжетом для оперы «Тристан и Изольда»], когда Дон Кихот был бы отведен полицейскими в ближайший приемный покой, когда Шарлотта [Герои сентиментального романа Ж. Оне «Горнозаводчик»] выбрала бы Вертера в крестники по объявлениям газеты «Парижская Жизнь» и когда горнозаводчик Даролей сломил бы сопротивление Клер Болье[Романтические герои из романа Гёте «Вертер»], при помощи внушительной пачки билетов лотереи «Национальной Защиты», я подумал о том, что в такую эпоху метрдотель ночного ресторана может быть вполне приемлемым героем романа.
I
– Знаешь ли ты новость, – сказал эконом младшему погребщику, проверяя на свет прозрачность бутылки Клоде Вужо. – Мсье Проспер собирается покинуть нас.
– Что? Мсье Проспер думает оставить «Розовый Фламинго?» Он поругался с управляющим?
– Нет. Он уходит, чтобы жить на свою ренту.
– А! Здорово!
Младший погребщик поставил корзину для бутылок на влажный песок погреба и посмотрел на эконома.
– Верно, мой малыш. Мосье Проспер – человек сумевший скопить кругленькую сумму в течение двадцати пяти лет, что он служит здесь в качестве первого метрдотеля.
– Сколько же ему лет?
– Шестьдесят. И он все такой же свеженький, как молодое Божоле [Марка французского вина]… Ну-ка лови эту бутылку и тащи ее на девятый номер.
Эконом с непочтительностью человека, пресыщенного гастрономическими наслаждениями, послал бутылку Клоде Вужо в пространство, где она описала параболу, прежде чем попасть в черный фартук погребщика. Две минуты спустя его подчиненный преподнес эту бутылку ужинающим за столиком № 9, покоящейся в ивовой колыбельке и стал манипулировать с ней с осторожностью анархиста, переносящего адскую машину.
Мало-помалу новость облетела весь зал. В половине первого уже весь персонал кабаре «Розовый Фламинго» знал о скором уходе мсье Проспера, и это известие вызвало оживленные комментарии.
– Тем лучше, если Проспер уйдет, – заметил главный повар. – Он достаточно нечистоплотный тип.
– О!.. вы преувеличиваете, – запротестовал специалист по соусам. – Мне никогда не приходилось жаловаться на старого Проспера.
– Я знаю, что говорю… Когда я предложил ему делиться тайком от управляющего экономией от рыбы и птицы, он ответил мне: «Шеф, я такими делами не занимаюсь. И если вы будете себе это позволять, я открою глаза господину Пармелану». Вот какие разговоры!
– А все-таки… возразил посыльный, который оставил вестибюль, чтобы доесть остатки какого-то блюда на краю стола, загроможденного овощами и шелухой от горошка мсье Проспер, это был туз… Ведь вы не слышите мнений публики… Многие завсегдатаи нашего ресторана говорили мне: «Мсье Проспер не простой метрдотель, он тонкий знаток своего дела…» И это верно! Я держу пари на сто су, что найдутся многие, которые бросят наше заведение, когда узнают, что мсье Проспер ушел.
Главный повар пожал плечами и плюнул в кастрюльку с белыми грибами по-провансальски.
– Вот вам! – пробормотал он. – Это их научит, как жалеть об этом старичишке…
Рядом с кухней, где два мальчика мыли посуду в баке с водой черной и грязной, как в главном коллекторе канализации, также толковали об этой новости.
– Старого Проспера будут жалеть все курочки нашего заведения, – сказал мускулистый, как гладиатор, высокий парнишка, который, вытерев тарелки, тер их о свои панталоны, чтобы лучше выразить свое презрение к посетителям «Розового Фламинго».
– Это верно, – добавил его товарищ с тряпкой в руке, – этот тип был привидением для всех девочек в нашем районе… Ему ничего не стоило подыскать для них клиента.
– С такими комбинациями он, вероятно, здорово наживался…
– Альфред, прежний посыльный, которого ты не знал, как-то говорил мне, что старый Проспер получал по луидору за всякий марьяж.
– Мне, пожалуй, подошло бы такое занятие… Только я не питаю иллюзий, я не мог бы быть метрдотелем. Мне всюду это говорят.
– Почему?
– У меня скверно пахнет изо рта, это портит аппетит клиентам.
Правда и неправда были в разговорах, которые вел в этот вечер персонал «Розового Фламинго». Проспер был действительно королем метрдотелей. Его слава перешагнула далеко за пределы площади Пигаль, и кто только в Париже мнил себя гастрономом – знал Проспера из «Розового Фламинго». Этот доктор кулинарных наук любил свое дело по-дилетантски. Это значит, что он не пользовался им сам, но ему доставляло удовольствие заставить оценить его своих клиентов, на которых он смотрел как на своих учеников. Ему доставляло также удовольствие составлять меню, подбирать соответствующие вина к рыбе, жаркому или дичи. Он работал таким образом для славы, потому что его личный режим запрещал ему все, кроме лапши и овощей, отваренных в воде; но он был доволен и его бескорыстие требовало только одной награды – блаженной улыбки удовлетворенного клиента, который, к концу трапезы, говорил:
– Проспер!.. я славно пообедал!
Он прятал тогда в карман чаевые, полученные им по заслугам, и, весь отдавшись своей страсти, шептал на ухо гастроному:
– В следующий раз, мсье, я вам приготовлю налимью печенку по-татарски и седло дикой козы, пропитанной кюрасо и хересом, вспрыснутым шприцем Праватца. Перед таким блюдом можно стать на колени. Вы увидите.
Посыльный был прав, утверждая, что отъезд Проспера будет потерей для кабаре. Но мальчик, мывший посуду, был неправ, когда обвинял Проспера в том, что он наживает деньги грязным сводничеством.
Мсье Проспер действительно был добрым гением маленьких одиноких женщин, но этот добрый гений не торговал своими услугами. Мсье Проспер был порядочный человек. Он брал на чай только от удовлетворенных обедающих. Он отверг бы деньги признательной куртизанки, потому что на этот предмет, который так же близок к любви, как профессия биржевого зайца к суду исправительной полиции, у мсье Проспера были свои совершенно определенные взгляды. Он понимал жизнь. В течение тридцати лет ему приходилось присутствовать при достаточном количестве скрытых драм, трагедий, разыгранных под сурдинку волнующимися актерами, чтобы не проникнуться большим либерализмом в этом вопросе. Но тоскливо сидящая на скамейке девушка, содержанка, брошенная своим другом, будила в нем слишком много сожаления, чтобы ему пришло в голову воспользоваться ее отчаянием. Благородный и скромный, он выслушивал признания несчастной, утешал ее, давал ей советы и подавал ей надежду. Потом, как только представлялся случай, он сближал ее с кем-нибудь ужинающим в одиночестве, обращал на нее внимание сентиментального кутилы и полагал, что хорошо поступил, когда лицо красавицы, счастливое и проясненное, освещалось улыбкой ее накрашенных губ и подведенных глаз.
– Мсье Проспер? – говорили про него хорошенькие постоянные посетительницы ресторана, – он может примирить тебя с мужчинами.
И это не было лестью со стороны этих продавщиц любви. Среди них не было ни одной, которая не была бы ему обязана чем-нибудь. Поклонницы искусственного рая получали благодаря ему адреса продавцов кокаина или опиума; извращенные доверяли ему свои желания, которые он старался, сохраняя скромность, удовлетворить, устраивая нужные знакомства. Великий камергер передней греха, он постоянно вращался между ядами и истерическими припадками, никогда не марая себя, не изменяя никогда искренней сердечности выдавшего виды человека, глядящего на кутил и ночных пташек, как на детей, которым нужен руководитель и советник.
Однажды вечером Ивета де Мерланж, ужинавшая часто возле джаз-банда, поджидая своего друга, спросила его:
– Правда ли, мсье Проспер, что вы скромны?.. Моя подруга Коллет, сказала мне однажды, что вы никогда не развлекаетесь…
Мсье Проспер улыбнулся, поправляя на скатерти прибор и ответил:
– Да, мадам… Я похож на кондитера, который никогда не ест своих пирожных.
– О! мсье, Проспер, – жеманясь пролепетала мадам де Мерланж, неужели мы вам так противны?
– Вовсе нет, я просто благоразумен, мадам… Если бы я сделал первый шаг, вся наша лавочка туда бы пошла…
– У него, вероятно, старая ревнивая любовница, которая держит его в ежовых рукавицах, – говорили дамы из «Розового Фламинго».
– Или тайная связь со светской женщиной…
– Ой у него… простого метрдотеля!?
И кисловатый голос заключил:
– Вот важность! Светские женщины!.. Да что в них особенного? Они еще большие коровы с мужчинами, чем мы, вот и все.
Проспер Мижо, на самом деле, не был ни в связи с ревнивой любовницей, ни в плену у охваченной страстью женщины аристократического происхождения. Уже пятнадцать лет он жил с одной маленькой брюнеткой, занимавшей скромную должность кассирши в одной из дешевых столовых Дюваля.
Ее звали Луизой Меригаль. Ей было пятьдесят три года, она красила волосы, вдобавок у нее были угреватые щеки и заячья губа. К счастью этот неприятный недостаток скрывался под усиками, довольно удобными для того, чтобы ее поцелуи не теряли своей прелести и привлекательности.
Вдова стрелочника на Северном вокзале, случайно встретилась с мсье Проспером, понравилась ему и очень быстро позволила соблазнить себя его престижем первого метрдотеля в самом известном ночном ресторане Бутта. И то, что в начале было только случайностью, стало постепенно серьезной связью. Настолько серьезной, что мсье Проспер считал Луизу своей женой перед богом и людьми и устроил ей место кассирши в столовой на улице Мартир. Скромная и спокойная, она добросовестно исполняла свои обязанности, думая о ночных подвигах своего друга под золоченными люстрами «Розового Фламинго». Она, работавшая в дешевой столовой, посещаемой людьми, обездоленными судьбой, восхищалась своим любовником, игравшим такую важную роль при пышных оргиях ночных гуляк. Проспер никогда не изменял ей.
– Ты поступил бы нехорошо, если бы изменял мне, – говорила ему часто Луиза, когда он ночью возвращался на улицу Абес. Это был бы скверный поступок и добрый бог наказал бы тебя, наслав на тебя какую-нибудь болезнь.
Проспер смеялся над этими предсказаниями. Он с трудом представлял себе, что бог станет настолько интересоваться его частной жизнью и будет стремиться наказать его, усеивая микробами тропинки зла и аллеи сладострастия. Но в то же время он думал о том, что «несчастье быстро проходит», что «игра не стоит свеч», и что было бы очень плохо с его стороны огорчать Луизу, которая была разумной и спокойной женой. Он не любил ее безумно, он не питал к ней той пожирающей страсти, которая нарушает человеческие уставы и порождает катастрофы. Ему, правда, уже немного приелась эта заячья губа, придавшая раньше ее поцелуям новое очарование и эти угри, делавшие круглые щеки его подруги похожими на английский окорок. Но он утешал себя мыслью, что ни одна женщина не совершенна. Даже самые красивые имели свои недостатки.
Он замечал в уборной «Розового Фламинго» маленькие детали, разбивающие иллюзии, подобно удару ножа мясника, перерезывающего подколенок теленка, который окровавленным падает на пол бойни. Он часто слышал, как очень хорошенькие посетительницы шутили в уборной относительно их внешних недостатков, густо покрывая кремами и румянами зеленоватую и пористую кожу лица. И он приходил к заключению, что поступает очень умно, держась на расстоянии от этих говорящих куколок.
В тот вечер в «Розовом Фламинго» происходил парадный ужин с котильоном. В сверкании хрусталя и драгоценностей, пары отдавались веселью, танцуя шимми и фокстрот. Четыре негра джаз – банда неслись, как четыре апокалиптических всадника. Они напускали на посетителей все бичи какофонии. Труба передавала в минорном тоне завывания грешника, погруженного в кипящую смолу; скрипач воспроизводил пронзительный визг хорька, пойманного в западню; пианист с руками, напоминающими больших черных пауков, распространял на клавишах лавину пиччикато, похожих на щекотание, и целые потоки арпеджио, звучавших как хлопанье бича; и, наконец, литаврист, страдавший, казалось, одновременно и верчением баранов, и пляской св. Витта, и горной болезнью, жонглировал палочками, барабаном, тарелками, литофоном, бубенчиками, автомобильной трубой и кастаньетами. И «цвет цивилизации», сидевший вокруг, слушал все это с видимым удовольствием. Никто из них не думал о том, чтобы положить конец этому оглушительному циклону. Ни одному из них не приходило в голову четырьмя револьверными выстрелами остановить этих четырех бесноватых, недавно прибывших с Пятой авеню [Улица миллионеров в Нью-Йорке], где в течение года они доставляли своим диким шумом удовлетворение ночным гулякам Нового Света. Эти джентльмены в смокингах и эти полуобнаженные женщины, которые с пренебрежительной улыбкой смотрели бы на тамтамы караибов или на суматоху веселящихся Матабелэ, визжали от радости, слушая это, вошедшее в моду развлечение и бомбардировали друг друга с диким остервенением целлулоидными шариками, бумажными цветами и серпантином.
Проспер, в промежутках между заказами, наблюдал за ними с пресыщенной и немного меланхолической улыбкой человека, который должен сказать «прости» этим нервирующим забавам. Он узнавал здесь своих верных завсегдатаев, маленьких мужчин, часто находящихся в разладе с судебными властями; набитых золотом иностранцев, восточных лодочников или миллионеров неопределенной национальности, которые вчера еще ели руками, а сегодня окатывают Париж грязью своей необузданной роскоши; южноамериканских легкомысленных сеньоров с легко доставшимися им пезетами и молчаливых янки с беспредельным количеством долларов. Он узнавал здесь добрые старые силуэты «Всего Парижа», участников грустного хоровода, несущегося с шумом, напоминающим бряцание костей скелета, из Монмартра в Довиль, из Биаррице в Монте Карло. Он видел под блестящими люстрами танго, отплясываемое злословием и алчностью, отвратительный кортеж лицемерия и лжи, тесно сплетающихся с диким разгулом. Ему казалось, что ужинающие, опьянённые крепким шампанским, склоняются над скелетами с обнаженными челюстями, и что жемчуг ожерелья украшает костлявые ключицы Смерти, нарядившейся в туалет с улицы Мира. Легкая дрожь охватила его, он пожал плечами и подумал, что эти глупые фантазии пришли ему в голову из романа, который он прочел накануне. Несмотря на то, что он получил только элементарное образование, он читал, он наблюдал, он обогащал свой опыт ежедневным общением с парижским веселящимся миром. И, раскладывая на десерт огромные ягоды клубники, завернутые в вату, как срезанные миндалины, он пробормотал:
– Я идиот… Все эти паяцы очень милы, и я желаю им продолжать их забавы до скончания веков.
И решив весело похоронить свою жизнь метрдотеля, он предался вдруг крайнему оптимизму. К чему вызывать скелеты? Зачем прибегать к ребяческому символизму, достойному завистливого рифмоплета, рычащего на богатство, как грязная уличная собачонка на гордую борзую? Все эти светские люди, все эти новоиспеченные богачи, все эти гуляки, все они очаровательные необходимые обществу, как разноцветные перья павлину. Наполнить их пустые головы слишком глубокими мыслями и слишком серьезными заботами? Для чего?.. Цирку нужны клоуны, чтобы забавлять детей, свету нужны снобы, чтобы развлекать бездельников.
И Проспер насыщал свои глаза и уши этим последним весельем. Он находил своеобразными и забавными увядших красавиц, вешавшихся на шею своим угрюмым кавалерам и трогательными старых кутил, нашептывавших мадригалы на ухо рассеянным куртизанкам. Они имели полное право веселиться. Во Франции, очевидно, смешное не убивает, раз дансинги и салоны не бывают усеяны каждое утро трупами и умирающими людьми.
– Господин барон, я имел много неприятностей из-за того, что хотел сохранить для вас этот столик… Вот там… Следуйте за мной господин барон…
Барон Гедвиг только что вошел со своей супругой. Это была пара, о которой складывались легенды в «Розовом Фламинго». Они являлись сущим провидением для местных Билитис [Греческая поэтесса, последовательница Сафо] в момент денежных затруднений. Эта пара скандинавов, спокойных и упитанных, проявляла вызывающие вкусы Оленьего парка [Загородный парк Людовика XIV, в котором устраивались самые разнузданные оргии]. Со спокойной дерзостью людей богатых и довольных возможностью грешить вдали от своей родины, они являлись ужинать в «Розовый Фламинго», выбирали двух женщин, подходящих для времяпрепровождения, которое легенда приписывает митиленским девам, уводили их в отдельный кабинет и предлагали им развлекать их в то время как, сидя в креслах один против другого, они символизировали собой супружеское счастье и доброе согласие, свойственное хорошо подобранным брачным союзам.
Проспер, выслушав их заказ, повторил свое признание, которое он делал каждому из постоянных посетителей в этот вечер:
– Господин барон, это последний вечер, в который я имею честь вам прислуживать.
– Как? Последний вечер?
– Да, я уезжаю в деревню.
– O!
Барон Гедвиг посмотрел на свою жену. Баронесса в свою очередь посмотрела на Проспера, и оба испустили новый вздох огорчения.
– Как жалко, – сказала баронесса. – Кто же будет теперь организовывать наши маленькие, фривольные ужины?
Она, казалось, была действительно огорчена уходом этого превосходного организатора тонких развлечений, этого опытного советчика, всегда оберегавшего их от любопытства полиции.
– Проспер, – сказал барон, незаметно просовывая сто франковый билет в полураскрытую ладонь метрдотеля, – мы теряем очень много с вашим отъездом. Мне нужен будет ваш адрес. Мы хотим вам прислать маленький подарок из Христиании… Пожалуйста, спросите Фернанду и Лили, не хотят ли они выпить с нами сегодня вечером шампанского?
Фернанда и Лили, восседая на высоких табуретах бара, обменивались фразами, обычными для не занятых куртизанок. Они толковали о дороговизне шелковых чулок, о низости мужчин и о курсе доллара.
– Фернанда!.. Лили… – бросил Проспер, проходя мимо. – Норвежцы вас просят… Программа обычная… Десять луидоров каждой… Подходит?..
– Идет! – проворчала Фернанда, – таких клиентов, как эти, не каждый день найдешь.
А Лили, взбивая свои волосы, прибавила:
– Идем, моя малютка… Пойдем вместе думать о смерти Людовика XVI.
В три часа утра, в то время, как два англичанина, мертвецки пьяные, свалились в углу, и какая-то последняя пара в беспамятстве кружилась по паркету, Проспер собрал в подвальное помещение персонал «Розового Фламинго» и взволнованный прощался со своими сотрудниками. – Мне очень тяжело вас покинуть, – сказал он, наливая остатки вина из бутылок в стаканы своих друзей. – Да, вот уже почти тридцать лет, как я составляю меню для клиентов и ставлю шампанское на лед. Я буду вспоминать о вас в Мот-ан-Бри, куда я удаляюсь жить отшельником, и буду думать с волнением о том, что мы вдыхали вместе аромат английских блюд, пахнувших испанской кожей, и запах гуляк, напоминавших холодное мясо.
– В вас много жизненной силы, – сказал посыльный, похожий на полковника конной гвардии, в своей красной форме с золотыми пуговицами.
– Я вам завидую, что вы отправляетесь сажать картошку и полоть салат. Это моя мечта…
– О вас будут жалеть здесь, мсье Проспер, – сказала со вздохом дама из уборной, тайно сгоравшая от любви к блестящему метрдотелю. – Я слышала сегодня вечером, как все дамы толковали о вашем отъезде. Крася губы перед зеркалом, они говорили мне: «Как жалко, что мсье Проспер уходит… Это был прекрасный человек, он часто спасал нас в трудную минуту и ничего не хотел брать в обмен… А это, мадам Кувиланж, очень красивый жест».
В то время как Проспер прощался в подвале, туда вошел бармен и обратился к нему немного таинственно:
– Мсье Проспер… Мадам Шарлотта просит вас наверх.
– Шарлотта, это крупная брюнетка?
– Да, та, что представила вас, помните, пьяному армянину… Она хочет с вами поговорить. Проспер поднялся наверх в бар, который был уже почти пуст. Только четыре самые верные посетительницы кабаре находились еще там.
– Мсье Проспер, – сказала Шарлотта с видом немного застенчивой девочки, которая должна сказать приветствие своему дедушке. – Как только мы узнали о вашем отъезде, мы решили, Люсьен, Ирма, Жоржетта и я, предложить вам маленькую безделушку на память о наших хороших отношениях и в благодарность за вашу доброту к нам. О! Она не имеет большой ценности… Это только портсигар с нашими подписями, выгравированными внутри… Благодаря этому, мсье Проспер, вы нас не забудете.
Проспер, очень тронутый, открыл серебряный портсигар и прочел выгравированную внутри надпись:
Господину Просперу на память от признательных Люсьен, Ирмы, Жоржетты, Шарлотты
– О, – воскликнул он, – вы чересчур любезны… Я смущен… Совсем не нужно было…
– Ах, нет! Ах. нет! – протестовала Жоржетта, маленькая блондинка с рыжими волосами и острыми глазами, – мы вам так обязаны… Когда я думаю, что только благодаря вам я увидела впервые море…
– Нет…
– Это так. Вы прошлым летом познакомили меня с одним английским лордом, который повез меня в Брайтон… Еще никогда в жизни мне не было так противно. Но все же я была очень довольна.
– Вы должны сохранить это в память о нас, мсье Проспер.
– Вы будете помнить, что нас было четверо, как три мушкетера, заключила Шарлотта, – и, если вы когда-нибудь в вашем уединении подумаете о нас, то сможете сказать, что в Париже есть три маленьких курочки и еще одна большая индейка, не забывающие вас своих молитвах к богородице голытьбы и св. Антонию мусорщиков.
Проспер был поистине тронут. Он положил портсигар в карман и сказал немного охрипшим голосом:
– Мне хотелось бы расцеловать всех вас, мои детки!…
И в то время, как бармен прятал свои стаканы и мешалки, Проспер целовал нежно щеки девушек. Это было патриархальное и очаровательное зрелище.
В четыре часа утра, пожав руку управляющему, мсье Пармелану, он очутился на площади Пигаль, пустынной и молчаливой. Первые отблески зари освещали небо, крыши домов выделялись своими изломанными краями на фоне розового сердолика. Он обвел взглядом это место, являющееся центром мира, где люди развлекаются, и медленно направился к улице Абес. Он думал, не делает ли он ошибки, покидая «Розовый Фламинго». Не сожалеет ли он о своем решении. Нет! Он устал вдыхать пыль этого кабаре, устал улыбаться всем этим идиотам и слушать их глупый смех. Ах, каким приятным и успокаивающим ему покажутся деревенская тишина Мот-ан-Бри и деревенские прелести, после тридцати лет парижской жизни. Он ускорил шаги и поднялся в свою квартиру на шестом этаже. Луиза отворила ему дверь. Она была в рубашке и на ее лбу были маленькие папильотки. Более, чем когда-либо, она напоминала ему окорок в папильотках. Но удовлетворенная душа Проспера не остановилась на этих сравнениях, оскорбительных для жены стрелочника. Он обнял свою подругу и сказал ей весело:
– Луизета, с четырех часов пяти минут я простой рантье. «Розовый Фламинго» больше меня не увидит.
– Тем лучше, – ответила Луиза. – Благополучно ли прошел последний вечер?
– Посмотри!
И широким взмахом руки Проспер бросил на стол семьсот пятьдесят франков: результат чаевых и подарков от старых клиентов.
– Ну что, моя старушка? Я получил семьсот пятьдесят франков с одиннадцати часов вечера до двух часов ночи, вот как меня ценят!..
– Еще бы!
– И это не все… Подожди немного… Закрой глаза. Смотри!.. Серебряный портсигар блеснул
в его руке.
– О! Подарок!
– Да, ты угадала. Память… Это женщины из бара сложились чтобы подарить его мне!..
Такое объяснение опечалило Луизу.
– Этот портсигар дали тебе женщины?
– Да!
– Покажи!
Луиза открыла портсигар и остановилась на выгравированной надписи. Она прочла ее вполголоса и повторила:
– Люсьен, Ирма, Жоржетта, Шарлотта… Красиво, нечего сказать!..
– То-есть как, красиво?
– Ты принимаешь подарки от проституток?
– Извини… Они поднесли мне официально, при всех, этот маленький подарок. Здесь нет ничего неприличного. В этом нет ничего общего с подарком, который кокотка сует под подушку своему возлюбленному.
– Послушай… Я нахожу очень странным, что эти добрые женщины раскошелились на такую драгоценность так просто. Здесь что-то нечисто…
– Луиза! Ты шутишь…
– Не за твои же прекрасные глаза преподнесли они тебе «признательную благодарность»
– Ты с ума сошла!
– Брось, мой милый, ведь я не вчера родилась.
– Это видно по твоей роже. Как бы то ни было, ты мне сделаешь одолжение и не будешь пользоваться этим портсигаром в моем присутствии.
Проспер пожал плечами.
– Ах, оставь меня с твоим паршивым портсигаром, – добавила Луиза. Они не разорились ради тебя, эти твои приятельницы.
– Паршивый, этот портсигар?.. С гравировкой по углам и с замком с рубинами?
– С рубинами из мостовой, мой дорогой.
– Ты мне надоела. Когда ты бросишь в конце месяца свою столовку, посмотрим, подарят ли тебе твои клиенты пианино.
И, облегчив душу этими резкими словами, Проспер спрятал свой портсигар в ящик ночного столика. Он лег около Луизы. И в то время, как его подруга похрапывала, лежа на спине, он грезил о цыплятах и кроликах, которых он сможет купить на семьсот пятьдесят франков с его прощального вечера.
II
Мот-ан-Бри – это деревня, не более живописная, не менее безобразная, чем большинство селений в Бри. Она пересекается одной большой улицей и изборождена переулочками, где фермерские дворы чередуются с огороженными садами. Группы зеленых деревьев окружают черепичные дома, как пучки петрушки лангусту, и колокольня высится над крышами, как шахматный король среди пешек.
Мот – ан-Бри имеет все прелести деревень старой Франции; заставу, полевого сторожа, привокзальное кафе и своего идиота. Идиот – это человек с зобом, которого муниципалитет терпит за то, что он выполняет обязанности чистильщика. Он поедает все кухонные отбросы и заменяет таким образом и человека и телегу.
Среди других достопримечательностей Мот-ан-Бри, следует отметить главных посетителей трактира, а именно: Ласонжа— сборщика податей, Тру – помощника мэра, Бигарса— нотариуса в отставке и Мандибеля— кузнеца. Эта четверка неразлучных друзей играет в Мотан-Бри роль норн [Норны – богини судьбы] из германской мифологии. Они не держат в своих руках судьбу обитателей Валгаллы [Валгалла – рай в мифологии северных народов], но они неусыпно следят за делами деревни и ее жителей. Они интересуются даже делами, которые их совсем не касаются, и нисколько не стесняются в крепких выражениях, обсуждая действия и поступки соседей.
Переезд Проспера Мижо и Луизы Меригаль в Мот-ан-Бри был целым событием. Проспер получил в 1904 году в наследство маленькое имущество, полу ферму, полу жилой дом, расположенный на углу дороги Куломье и главной улицы в северной части деревни. Все знали, что ферма перешла в руки какого-то парижанина, профессия которого не была точно известна. Одни утверждали, что Проспер был пианистом в кинематографе, другие, – что он управлял баром в мюзик-холле на бульваре, еще некоторые злословили, что он проводник по заведениям Монмартра. Но так как Проспера не видали никогда раньше в деревне, то его положение оставалось невыясненным. Когда узнали, что он распрощался со своим домом в Париже и собирается поселиться со своей женой на маленькой ферме, любопытство жителей Мот-ан-Бри возросло, и мсье Тру, помощнику мэра, было поручено разузнать обо всем подробно. Тогда только узнали удивительные подробности о человеке, желавшем закончить свои дни в Мот-ан-Бри.
Мсье Тру, родившийся в Тулоне и любивший преувеличивать, заявил своим соотечественникам, что Проспер был управляющим самого известного кабаре в Монмартре, что он посещал наиболее знатных людей столицы, и что он удаляется в Мот-ан-Бри после того, как скопил состояние.
Приезд Проспера еще больше поднял его престиж, раздутый сообщениями помощника мэра. Его вид внушал к нему уважение. Он сильно по ходил на президента американской республики своими солидными, широкими плечами, энергичным взглядом и седыми волосами. Он никогда не злоупотреблял плотскими удовольствиями, и потому все еще сохранял крепкое здоровье и непоколебимый оптимизм. Мсье Тру, исследовавший прошлое своего согражданина и будучи счастлив, что его коммуна обогатилась таким почтенным администратором, первый хорошо принял вновь прибывшего и засвидетельствовал ему общее уважение. Он решил лично ввести Проспера в кружок привокзального кафе. Не без горделивого чувства он объявил однажды вечером своим друзьям:
– Господа, я имею удовольствие сказать вам, что мсье Проспер с будущей недели примет участие в нашей игре. Как только он устроит свой дом, он будет нашим и вы увидите, говорю ли я правду, уверяя вас, что это прекрасный человек.
– Так! Так! – проворчал кузнец Мандибель. – Вы всегда приходите в экстаз при виде парижан! Достаточно того, что человек приехал из Парижа, чтобы вы уже потеряли голову… Я убежден, что этот ваш парижанин не сумел бы смастерить простого ключа.
Тру собрал свой табак в пакетик и возразил с превосходством образованного человека:
– О, вы, Мандибель, настроены враждебно к прогрессу, к большим городам, к науке, ко всему, что противно вашим старым привычкам и что выводит вас из вашей темноты!
– Так!.. Так!.. Ваши большие города, это гнезда притворщиков и бездельников, которые боятся марать свои жакеты… Все наши парни бросают нас, чтобы попасть в Париж, потому что там они находят кино и девок… Франция могла бы отлично существовать и без Парижа. Не правда ли!.. Между тем как Париж подох бы с голоду без мужиков, которые дают ему хлеб… Нет, вы не разубедите меня в этом!..
Бигарс и Ласонж толкнули друг друга локтями, подмигивая глазами. Они часто смеялись над антагонизмом, существовавшим между Тру и Мандибель, над вспыльчивым южанином и спокойным уроженцем Бри. Ах! Этот Мандибель настоящий тип старых деревенских жителей! Со своим длинным подбородком, носом, усеянным угрями, с пучком белых волос на морщинистом лбу, он был искренним поборником деревенской жизни, защитником презираемой земли, покидаемой своими неблагодарными сынами. Он хвастал, этот старый упрямец, что никогда не ступит ногой в Париж и умрет, не повидав Эйфелевой башни. Он вовсе не был глуп, далеко нет! Забивая гвозди в подковы лошадей, он рассуждал вполне логично и возражал всегда умно.
– Мсье Проспер будет нашим добрым гостем, – сказал нотариус, говоривший елейным тоном итальянского прелата и восхищавшийся в глубине души, что человек посвященный в тайны парижской жизни, оживит их разговоры.
– Кажется, у мсье Проспера были там очень хорошие связи? – добавил сборщик податей Ласонж, тасуя карты.
– Ах, мой дорогой, – вскричал помощник мэра с видом осведомленного человека, который мог бы долго говорить на эту тему, – вы и не представляете себе каким кабаре управлял мсье Проспер! Это неслыханно… Там платят за бутылку шампанского сто двадцать франков, за ножку цыпленка пятьдесят франков, за ломтик ветчины двадцать пять франков и за апельсин десять франков… Оно называется «Розовый Фламинго». Американские миллиардеры, самые шикарные типы Парижа, танцуют там под музыку негритянского оркестра.
– Негритянского?
– Да, мой друг… И всю ночь с голыми женщинами, обвитыми серпантином и пьющими шампанское прямо из горлышка.
– Слушать это, и то становится противно, – проворчал кузнец.
– Подумайте только, мсье Проспер испытал все… Он был на «ты» с князьями и маркизами… Впрочем, вы сможете попросить его самого рассказать вам некоторые воспоминания из его жизни.
Мандибель пожевал свою глиняную трубку, конец которой был обвязан скрученной веревочкой и сказал, покачивая головой:
– Так!.. Так!.. Я понимаю, что это значит. Нужно будет надевать белые перчатки, чтобы снять карты этому господину.











