Читать онлайн Ангел истории. Пролетая над руинами старого мира
- Автор: Вальтер Беньямин
- Жанр: Культурология
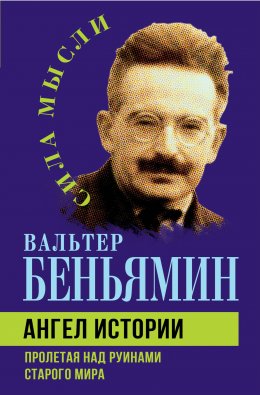
© Перевод Биленкина В., Ромашко С., Данилова Ю. и других, 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
Вместо предисловия
Только сам Мессия завершает все происходящее в истории в том смысле, что разрешает, создает отношение происходящего к мессианскому. Поэтому ничто историческое само по себе не может как-то относиться к мессианскому, и Царство Божие не есть цель движения истории; оно не может быть поставлено целью. С исторической точки зрения это не цель, а конец.
Отсюда система светской жизни не может быть построена на идеях Царства Божия, величайшей заслугой «Духа утопии» Блоха является категорическое отрицание политического значения теократии.
Система обычной светской жизни должна ориентироваться на понятие счастья. Отношение этой системы к мессианскому – это один из важнейших моментов истории философии. Им обусловлена мистическая историческая концепция, проблему которой легко показать в образе. Если одно направление указывает на цель, где действует сила обычного, другое – на мессианскую активность, хотя поиски счастья свободного человечества стремятся прочь от мессианского направления, но подобно тому, как сила способна на своем пути двигать другую по пути, противоположно направленному, так и обычная светская система может приблизить приход мессианского Царства.
Итак, светское хотя и не является категорией царства Божия, но есть категория, причем одна из самых очевидных, его тихого приближения. Потому что в счастье все земное устремляется к своему концу, но только в счастье оно и может найти свой конец. Правда, при этом непосредственная мессианская активность сердца отдельного человека проходит через несчастье, то есть страдание.
Вальтер Беньямин.
То, что мы называем прогрессом
Понятие истории
1
Вспомним о существовании автомата, который был сконструирован таким образом, что, отвечая на каждый ход шахматиста, он уверенно выигрывал партию. Кукла в турецком костюме, с кальяном во рту сидела за шахматной доской лежащей на большом столе. Система зеркал создавала иллюзию, что под столом ничего нет. В действительности, внутри сидел горбатый карлик, шахматный мастер, с помощью веревок управлявший рукою куклы. Можно представить себе некое подобие этому аппарату в философии. Кукла под названием «исторический материализм» должна всегда выигрывать. Она сможет это делать запросто со всяким, если возьмет в служанки теологию, которая сегодня подурнела, съежилась и, кроме того, должна прятаться.
2
«Одна из самых замечательных особенностей человеческой природы, – пишет Лотце, – это то, что наравне со столь распространенным эгоизмом в отдельном, существует всеобщая независтливость настоящего к своему будущему».
Эта мысль показывает, что наше представление о счастье всецело окрашено тем временем, к которому отнесено раз и навсегда наше личное существование. Счастье, способное пробудить в нас зависть, существует только в воздухе, которым мы дышали, среди людей, с которыми мы общались, и женщин, которые могли бы отдаться нам. Иными словами, с представлением о счастье неразрывно связано представление об освобождении. Так же обстоит дело и с представлением о прошлом, которым занимается история.
Прошлое несет с собой тайный знак, указывающий на свое освобождение. Разве не касается нас то же дуновение ветра, что и прежде живших? Разве в голосах, которым мы внимаем, не звучит эхо ныне умолкших? Разве у женщин, за которыми мы ухаживаем, нет сестер, которых они не знали? И если это так, то есть некий тайный уговор между прошлыми поколениями и нашим. Значит, нас ожидали на земле. Значит нам, как и каждому поколению до нас, дана слабая мессианская сила, на которую притязает прошлое. От этого притязания не так легко отделаться. Исторические материалисты знают об этом.
3
Летописец, который пересказывает события, не различая великих и малых, учитывает следующую истину: ничто из случившегося не должно быть потеряно для истории. Разумеется, только освобожденному человечеству достанется полнота его прошлого. Это значит, что только для освобожденного человечества станет возможным вызвать каждый его момент. Каждое мгновение, прожитое им, станет citation a l’ordre du jour (упоминанием в сводке фронтовых новостей дня). Этот день и есть Судный.
4
Помышляйте прежде всего о пище и одежде, тогда царство Божие само упадет вам в руки.
Гегель.
Классовая борьба, которая всегда стоит перед взором историка воспитанного на Марксе, эта борьба за грубые материальные вещи, без которых не существует изящных и духовных. Эти последние ценности, однако, присутствуют в классовой борьбе не в виде добычи, выпадающей на долю победителя, а как уверенность, мужество, юмор, хитрость и стойкость. В этой полной жизни борьбе они действуют с обратной силой вглубь времен и будут снова и снова ставить под вопрос каждую победу когда-либо одержанную правящими классами. Как цветы поворачивают свои головки к солнцу, так в силу какого-то тайного гелиотропизма все бывшее поворачивается к тому солнцу, которое восходит на небе истории. Исторический материалист должен знать толк в этой самой незаметной из всех перемен.
5
Правдивый образ прошлого проносится мимо. Прошлое может быть схвачено только как образ, лишь на мгновение вспыхивающий узнаваемостью, чтобы никогда не вернуться. «Истина не убежит от нас». В присущем историзму представлении об истории, эта фраза Готтфрида Келлера точно обозначает то место, где исторический материализм пробивает его. Ибо невозратимый образ прошлого грозит исчезнуть с каждым настоящим, которое не осознает своей связи с ним.
«Angelus Novus». Рисунок Пауля Клее. Вальтер Беньямин приобрел этот рисунок в 1921 году и хранил до самой смерти. Беньямин отождествлял идею «Angelus Novus» с «ангелом истории» – взглядом на исторический процесс как на непрекращающийся цикл отчаяния
6
Выразить прошлое исторически не означает узнать его «таким, каким оно было в действительности» (Ранке). Это означает удержать воспоминание таким, каким оно вспыхивает в момент опасности. Исторический материализм стремится сохранить образ прошлого, который неожиданно является историческому субъекту в момент опасности. Эта опасность влияет и на содержание традиции и на ее восприемников. Над обоими висит одна и та же угроза: стать орудием правящих классов. В каждую эпоху требуется новое усилие, чтобы спасти традицию от конформизма угрожающего покорить ее. Мессия приходит не только как спаситель, он приходит и как покоритель Антихриста. Только тот историк сможет вдохнуть искру надежды в прошлое, который твердо знает, что даже мертвых не оставит в покое враг, если он победит. И этот враг не перестал побеждать.
7
Фустель де Куланж советует историкам, желающим вжиться в какую-либо эпоху, выкинуть из головы все, что им известно о последующем ходе истории. Нельзя придумать лучшей характеристики того метода, с которым порвал исторический материализм. Это метод сочувствия. Его происхождение лежит в праздности сердца, acedia, которая не позволяет схватить и удержать вспыхивающий на мгновенье истинно исторический образ.
Среди средневековых теологов acedia считалась основной причиной печали. Знакомый с ней Флобер писал: «Немногие догадываются сколь печальным нужно быть, чтобы возродить Карфаген». Природа этой печали станет яснее, если спросить, кому в действительности сочувствуют сторонники историзма. Ответ: непременно победителю. Но все господствующие являются наследниками тех, кто побеждал до них. Таким образом, сочувствие к победителю всегда на пользу господствующим классам. Для исторических материалистов этим сказано все.
Все те, кто вплоть до наших дней выходил победителем, участвуют в триумфальной процессии, которую сегодняшние властители ведут по распростертым телам сегодняшних побежденных. Как положено по традиции, в процессии несут и добычу. Ее называют: культурные сокровища. Исторический материалист рассматривает их с осторожной отстраненностью.
Все без исключения культурные сокровища, которые он обозревает, имеют происхождение, о котором он не может размышлять без чувства ужаса. Ведь они существуют благодаря не только усилиям великих гениев создавших их, но и безымянному подневольному труду их современников. Не существует ни одного документа культуры, который не являлся бы и документом варварства. И как сам документ не свободен от варварства, таким же варварством отмечен и процесс его перехода от одного владельца к другому. Исторический материалист поэтому отстраняется от него насколько это возможно. Своей задачей он считает гладить историю против шерсти.
8
Традиция угнетенных учит нас, что «чрезвычайное положение», в котором мы живем, является правилом, а не исключением. Мы должны прийти и к соответствующему пониманию истории. Тогда нам станет ясно, что наша задача это осуществить истинное чрезвычайное положение, и это усилит наши позиции в борьбе с фашизмом.
Фашизм имеет шанс на успех в немалой степени потому, что во имя прогресса его противники относятся к нему как к исторически нормальному явлению. Нынешнее удивление, что то, что мы переживаем сейчас «еще» возможно в двадцатом веке, не является философским. Это удивление не может служить началом знания, кроме лишь того знания, что породивший это удивление взгляд на историю несостоятелен.
9
Герхард Шолем«Привет от ангела».
- Мое крыло, готовое к полету,
- Охотно поворачиваю вспять,
- Пробудь я здесь хоть до скончанья века,
- Мне все же счастья не видать.
У Клея есть картина под названием Angelus Novus. На ней изображен ангел, который выглядит, как будто он собирается удалиться от чего-то, во что он пристально вглядывается. Его глаза вытаращены, рот раскрыт, крылья распахнуты. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Где нам видится цепь событий, там он видит одну единственную катастрофу, которая беспрерывно громоздит обломки на обломки и бросает их ему под ноги.
Ангел может и хотел бы остаться, разбудить мертвых и восстановить разрушенное. Но из рая дует ураганный ветер, который поймал его крылья с такой силой, что ангел уже не может их сложить. Этот ураган неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним растет в небо. Этот ураган и есть то, что мы называем прогрессом.
10
Темы, которые монастырский устав предписывал братьям для медитации, должны были отвратить их от мирской суеты. Направление мыслей, которое мы развиваем здесь, родилось из похожих соображений. В момент, когда политики, с которыми связали свои надежды противники фашизма, лежат поверженными и скрепляют свое поражение предательством, оно призвано освободить политических активистов из сетей, которыми эти политики опутали их.
Наши соображения исходят из того, что упрямая вера этих политиков в прогресс, их уверенность в своей «массовой опоре» и, наконец, их лакейское вхождение в неподконтрольный аппарат – это три стороны одного и того же явления. Мы хотим дать представление о том, как трудно дастся нашему привычному мышлению концепция истории, избегающая всякого соучастия с тем образом мыслей, которого продолжают держаться эти политики.
11
Конформизм, изначально присущий социал-демократии, приставал не только к ее политической тактике, но и к ее экономическим взглядам. Впоследствии это явилось одной из причин ее крушения. Ничто так не развратило немецкий рабочий класс, как взгляд, что он плывет по течению. Технический прогресс представлялся ему чем-то вроде плавного речного течения, по которому он и предполагал плыть. От этого был лишь шаг до иллюзии, что фабричный труд, как бы предписанный ходом технического прогресса, является и политическим достижением.
Старая протестантская этика труда воскресла среди немецких рабочих в обмирщенной форме. Готская программа уже несет в себе следы этой путаницы, определяя труд как «источник всякого богатства и культуры». Почуяв подвох, Маркс отвечал на это, что «человек, не обладающий никакой другой собственностью, кроме своей рабочей силы… вынужден быть рабом других людей». Однако, путаница росла, и вскоре Иосиф Дицген заявил: «Труд – спаситель нашего времени. Улучшение труда ведет к богатству способному сегодня осуществить то, чего не мог ни один спаситель». Это вульгарно-марксистское представление о труде обходит молчанием вопрос: какой прок рабочим от результатов их труда, если они не могут ими распоряжаться?
Оно желает замечать только прогресс во власти над природой, но не регресс общества и уже обнаруживает технократические черты проявившиеся впоследствии в фашизме. К ним относится и концепция природы зловеще иного рода, чем в социалистических утопиях до революции 1848 года. Труд, как он теперь понимается, сводится к эксплуатации природы и с наивным самодовольством противопоставляется эксплуатации пролетариата. По сравнению с этой позитивистской концепцией труда, фантазии Фурье, ставшие предметом стольких насмешек, отличаются поразительным здравым смыслом.
По Фурье, в результате эффективного общественного труда четыре луны освещали бы земную ночь, морская вода потеряла бы соленость, и хищные животные служили бы людям. Все это иллюстрирует труд, который, вместо эксплуатации природы, освобождает творения, дремлющие в ее лоне. Природа же, которая «дана даром», как выражается Дицген, дополняет его искаженное понимание труда.
12
Нам нужна история, но иначе, чем она нужна избалованному бездельнику в саду познания.
Ницше «О пользе и вреде истории для жизни».
Ни человек и ни люди, а сам борющийся угнетенный класс является субъектом исторического знания. У Маркса он выступает как последний порабощенный класс, как мститель, который завершает задачу освобождения во имя поколений угнетенных. Это убеждение, на короткое время возрожденное Спартаковской группой, было всегда неприемлемо для социал-демократов. За три десятилетия им удалось практически предать забвению имя Бланки, хотя оно и было призывом к действию, гремящим сквозь все предыдущее столетие.
Социал-демократия посчитала уместным назначить рабочему классу роль освободителя БУДУЩИХ поколений, тем самым перерезав мышцы его величайшей силы. Такое воспитание заставило рабочий класс забыть свою ненависть и свой дух самопожертвования, потому что и то и другое питаются скорее образом порабощенных предков, чем идеалом освобождения внуков.
13
С каждым днем наши интересы становятся яснее, а наши люди умнее.
Вильгельм Дицген «Религия социал-демократии».
Теория социал-демократов и еще больше их практика руководствовались концепцией прогресса, которая соотносилась не с реальностью, а с догматическим требованием. Прогресс, каким он рисовался в головах социал-демократов, был прежде всего прогрессом самого человечества (а не только его навыков и знания). Во-вторых, он был чем-то безграничным (соответствующим бесконечности человеческого совершенствования). В-третьих, прогресс рассматривался как нечто неодолимое (нечто автоматически развивающееся по прямой линии или спирали).
Каждое из этих положений спорно и открыто для критики. Но когда дело доходит до драки, критика должна идти дальше этих отдельных положений и сосредоточится на том, что объединяет их. Понятие о прогрессе человечества в истории – неотрывно от представления о нем как о движении сквозь однородное пустое время. Критика этого представления должна стать основой критики самого прогресса.
14
Происхождение – вот цель.
Карл Краус «Речи в стихах».
История это предмет конструкции, расположенной не в пустом однородном времени, а во времени наполненном настоящим моментом. Так, Робеспьер видел древний Рим как насыщенное настоящим прошлое, которое он вырвал из континиума истории. Французская Революция понимала себя как возвращенный Рим. Она цитировала Рим, как мода цитирует одежду прошлого.
У моды есть чутье на актуальное везде, где оно шевелится в дебрях прошлого. Мода это тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, где командует правящий класс.
Тот же самый прыжок под открытым небом истории является диалектическим, как Маркс и понимал революцию.
15
Сознание, что они готовы взорвать континиум истории, присуще революционным классам в момент их действия. Великая Революция ввела новый календарь. Начальный день календаря действует как историческая камера замедленного действия. Ведь в сущности этот самый день всегда возвращается в образе праздников, дней воспоминания.
Итак, календари отсчитывают время иначе, чем часы. Они являются монументами исторического сознания, ни малейшего следа которого не наблюдалось в Европе за последние сто лет.
Лишь во время Июльской революции произошло событие показавшее, что это сознание было еще живо. В первый день боев получилось так, что из разных мест Парижа повстанцы одновременно и независимо друг от друга стали обстреливать башенные часы. Один свидетель, чья проницательность возможно обязана рифме, писал так:
- Qui le croirait! on dit qu’irrites contre l’heure
- De nouveaux Josues, au pied de chaque tour,
- Tieraient sur les cadrans pour arreter le jour.
[Кто бы мог поверить! Говорят, что как бы негодуя на само время, новые Иисусы у подножий всех башен выстрелили по часам, чтобы задержать день!]
16
Исторический материалист не может обойтись без концепции настоящего не как проходящего, а как остановившегося и замершего времени. Ведь эта концепция определяет настоящее именно как такое время, в котором он сам пишет историю. Историзм устанавливает «вечный» образ прошлого, исторический материалист обеспечивает его неповторимое переживание. Он предоставляет другим истощать себя в борделе историзма в объятиях шлюхи по кличке «жили-были». Он владеет собой, ему хватает мужества взорвать континиум истории.
17
Историзм закономерно стремится к всемирной истории. Материалистическая историография отличается от нее по методу более, чем от какой-либо другой. Всемирная история не имеет теоретической арматуры. Она работает способом прибавления, собирая массу фактов, чтобы заполнить ими однородное пустое время. Со своей стороны, материалистическая историография основана на конструктивном принципе. Мышление состоит не только в движении мыслей, но и в их остановке. Когда мышление внезапно останавливается на констелляции полной напряжения, оно дает ей шок, кристаллизующий эту констелляцию в монаду.
Исторический материализм вступает в отношение к историческому явлению исключительно, когда оно выступает в форме монады. В этой форме он узнает знак некой приостановки событий или, другими словами, революционный шанс в борьбе за угнетенное прошлое. Он использует этот шанс, чтобы вырвать определенную эпоху из однородного потока истории. Так он вырывает жизнь из эпохи, работу из труда всей жизни. В результате этого метода сохраняются и снимаются: труд всей жизни в работе, в труде всей жизни эпоха, в эпохе весь поток истории. Питательный плод исторически постигнутого содержит в своей сердцевине время как ценное, но безвкусное семя.
18
По отношению к истории органической жизни на земле, пишет один современный биолог, какие-то жалкие пять тысячелетий homo sapiens составляют что-то около двух секунд в конце суток. В таком масштабе история цивилизованного человечества составляла бы одну пятую последней секунды последнего часа.
Текущий момент, который как модель мессианского времени заключает в себе историю всего человечества в чудовищной аббревиатуре, точно совпадает с фигурой, которую представляет во вселенной история человечества.
Приложение
А
Историзм довольствуется установлением причинных отношений между разными моментами истории. Но не причинность составляет сущность факта как исторического явления. Он становится таковым посмертно, благодаря событиям, которые могут быть отделены от него тысячелетиями. Историк, понимающий это, перестает перебирать череду событий, как перебирают четки, Вместо этого он схватывает констелляцию, которую его собственная эпоха образует с определенной эпохой прошлого. Таким образом, он утверждает понятие настоящего времени как «времени сейчас», в которое вкраплен осколок мессианского.
Б
Прорицатели, вопрошавшие время о том, что оно таит в своем лоне, конечно не испытывали время как однородное и пустое. Тот, кто напоминает себе об этом, возможно поймет, что именно так переживались в воспоминании и прошедшие времена. Известно, что евреям запрещалось исследовать будущее. Вместо этого, Тора и молитвенник наставляют их в воспоминании. Это лишало будущее того очарования, под которое попадали те, кто обращался за знанием к прорицателям. Это не означает, конечно, что будущее представлялось евреям пустым и однородным временем. Ведь каждая секунда в нем была узкими вратами, в которые мог пройти мессия.
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости
«Становление искусств и практическая фиксация их видов происходили в эпоху, существенно отличавшуюся от нашей, и осуществлялись людьми, чья власть над вещами была незначительна в сравнении с той, которой обладаем мы. Однако удивительный рост наших технических возможностей, приобретенные ими гибкость и точность позволяют утверждать, что в скором будущем в древней индустрии прекрасного произойдут глубочайшие изменения. Во всех искусствах есть физическая часть, которую уже нельзя больше рассматривать и которой нельзя больше пользоваться так, как раньше; она больше не может находиться вне влияния современной теоретической и практической деятельности. Ни вещество, ни пространство, ни время в последние двадцать лет не остались тем, чем они были всегда. Нужно быть готовым к тому, что столь значительные новшества преобразят всю технику искусств, оказывая тем самым влияние на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само понятие искусства».
Paul Valery. Pieces sur Part.
Предисловие
Когда Маркс принялся за анализ капиталистического способа производства, этот способ производства переживал свою начальную стадию. Маркс организовал свою работу так, что она приобрела прогностическое значение. Он обратился к основным условиям капиталистического производства и представил их таким образом, что по ним можно было увидеть, на что будет способен капитализм в дальнейшем. Оказалось, что он не только породит все более жесткую эксплуатацию пролетариев, но и в конце концов создаст условия, благодаря которым окажется возможной ликвидация его самого.
Преобразование надстройки происходит гораздо медленнее, чем преобразование базиса, поэтому потребовалось более полувека, чтобы изменения в структуре производства нашли отражение во всех областях культуры. О том, каким образом это происходило, можно судить только сейчас. Этот анализ должен отвечать определенным прогностическим требованиям. Но этим требованиям соответствуют не столько тезисы о том, каким будет пролетарское искусство после того, как пролетариат придет к власти, не говоря уже о бесклассовом обществе, сколько положения, касающиеся тенденций развития искусства в условиях существующих производственных отношений. Их диалектика проявляется в надстройке не менее ясно, чем в экономике. Поэтому было бы ошибкой недооценивать значение этих тезисов для политической борьбы. Они отбрасывают ряд устаревших понятий – таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, – неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском духе.
Вводимые далее в теорию искусства новые понятия отличаются от более привычных тем, что использовать их для фашистских целей совершенно невозможно. Однако они пригодны для формулирования революционных требований в культурной политике.
I
Произведение искусства в принципе всегда поддавалось воспроизведению. То, что было создано людьми, всегда могло быть повторено другими. Подобным копированием занимались ученики для совершенствования мастерства, мастера – для более широкого распространения своих произведений, наконец, третьи лица с целью наживы. По сравнению с этой деятельностью техническое репродуцирование произведения искусства представляет собой новое явление, которое, пусть и не непрерывно, а разделенными большими временными интервалами-рывками, приобретает все большее историческое значение. Греки знали лишь два способа технического воспроизведения произведений искусства: литье и штамповка. Бронзовые статуи, терракотовые фигурки и монеты были единственными произведениями искусства, которые они могли тиражировать. Все прочие были уникальны и не поддавались техническому репродуцированию.
С появлением гравюры на дереве впервые стала технически репродуцируема графика; прошло еще достаточно долгое время, прежде чем благодаря появлению книгопечатания то же самое стало возможно и для текстов. Те огромные изменения, которые вызвало в литературе книгопечатание, то есть техническая возможность воспроизведения текста, известны. Однако они составляют лишь один частный, хотя и особенно важный случай того явления, которое рассматривается здесь во всемирно-историческом масштабе. К гравюре на дереве в течение сред них веков добавляются гравюра резцом на меда и офорт, а в начале девятнадцатого века – литография.
С появлением литографии репродукционная техника поднимается на принципиально новую ступень. Гораздо более простой способ перевода рисунка на камень, отличающий литографию от вырезания изображения на дереве или его травления на металлической пластинке, впервые дал графике возможность выходить на рынок не только достаточно большими тиражами (как до того), но и ежедневно варьируя изображение. Благодаря литографии графика смогла стать иллюстративной спутницей повседневных событий. Она начала идти в ногу с типографской техникой. В этом отношении литографию уже несколько десятилетий спустя обошла фотография.
Фотография впервые освободила руку в процессе художественной репродукции от важнейших творческих обязанностей, которые отныне перешли к устремленному в объектив глазу. Поскольку глаз схватывает быстрее, чем рисует рука, процесс репродукции получил такое мощное ускорение, что уже мог поспевать за устной речью. Кинооператор фиксирует во время съемок в студии события с той же скоростью, с которой говорит актер. Если литография несла в себе потенциальную возможность иллюстрированной газеты, то появление фотографии означало возможность звукового кино. К решению задачи технического звуковоспроизведения приступили в конце прошлого века. Эти сходящиеся усилия позволили прогнозировать ситуацию, которую Валери охарактеризовал фразой: ‘‘Подобно тому как вода, газ и электричество, повинуясь почти незаметному движению руки, приходят издалека в наш дом, чтобы служить нам, так и зрительные и звуковые образы будут доставляться нам, появляясь и исчезая по велению незначительного движения, почти что знака».
На рубеже XIX и XX веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной деятельности. Для изучения достигнутого уровня нет ничего плодотворнее анализа того, каким образом два характерных для него явления – художественная репродукция и киноискусство – оказывают обратное воздействие на искусство в его традиционной форме.
II
Даже в самой совершенной репродукции отсутствует один момент: здесь и сейчас произведения искусства – его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании. Сюда включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его физическая структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно оказывалось вовлеченным. Следы физических изменений можно обнаружить только с помощью химического или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; что же касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в изучении которой за исходную точку следует принимать место нахождения оригинала.
Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности. Химический анализ патины бронзовой скульптуры может быть полезен для определения ее подлинности; соответственно свидетельство, что определенная средневековая рукопись происходит из собрания пятнадцатого века, может быть полезно для определения ее подлинности. Все, что связано с подлинностью, недоступно технической – и, разумеется, не только технической – репродукции. Но если по отношению к ручной репродукции – которая квалифицируется в этом случае как подделка – подлинность сохраняет свой авторитет, то по отношению к технической репродукции этого не происходит.
Причина тому двоякая. Во-первых, техническая репродукция оказывается более самостоятельной по отношению к оригиналу, чем ручная. Если речь идет, например, о фотографии, то она в состоянии высветить такие оптические аспекты оригинала, которые доступны только произвольно меняющему свое положение в пространстве объективу, но не человеческому глазу, или может с помощью определенных методов, таких как увеличение или ускоренная съемка, зафиксировать изображения, просто недоступные обычному взгляду.
Это первое. И, к тому же, – и это во-вторых – она может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную. Прежде всего, она позволяет оригиналу сделать движение навстречу публике, будь то в виде фотографии, будь то в виде граммофонной пластинки. Собор покидает площадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства; хоровое произведение, прозвучавшее в зале или под открытым небом, можно прослушать в комнате.
Обстоятельства, в которые может быть помещена техническая репродукция произведения искусства, даже если и не затрагивают во всем остальном качеств произведения – в любом случае они обесценивают его здесь и сейчас. Хотя это касается не только произведений искусства, но и, например, пейзажа, проплывающего в кино перед глазами зрителя, однако в предмете искусства этот процесс поражает его наиболее чувствительную сердцевину, ничего похожего по уязвимости у природных предметов нет. Это его подлинность. Подлинность какой-либо вещи – это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу второго, то в репродукции, где материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи.
То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры: в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет.
Оба эти процесса вызывают глубокое потрясение традиционных ценностей – потрясение самой традиции, представляющее обратную сторону переживаемого человечеством в настоящее время кризиса и обновления. Они находятся в теснейшей связи с массовыми движениями наших дней. Их наиболее могущественным представителем является кино. Его общественное значение даже и в его наиболее позитивном проявлении, и именно в нем, не мыслимо без этой деструктивной, вызывающей катарсис составляющей: ликвидации традиционной ценности в составе культурного наследия. Это явление наиболее очевидно в больших исторических фильмах. Оно все больше расширяет свою сферу. И когда Абель Ганс в 1927 году с энтузиазмом восклицал: «Шекспир, Рембрандт, Бетховен будут снимать кино… Все легенды, все мифологии, все религиозные деятели да и все религии… ждут экранного воскрешения, и герои нетерпеливо толпятся у дверей», – он – очевидно, сам того не сознавая, – приглашал к массовой ликвидации.
III
В течение значительных исторических временных периодов вместе с общим образом жизни человеческой общности меняется также и чувственное восприятие человека. Способ и образ организации чувственного восприятия человека – средства, которыми оно обеспечивается – обусловлены не только природными, но и историческими факторами. Эпоха великого переселения народов, в которую возникла позднеримская художественная индустрия и миниатюры венской книги Бытия, породила не только иное, нежели в античности, искусство, но и иное восприятие. Ученым венской школы Риглю и Викхофу, сдвинувшим махину классической традиции, под которой было погребено это искусство, пришла в голову мысль воссоздать по нему структуру восприятия человека того времени. Как ни велико было значение их исследований, ограниченность их заключалась в том, что ученые посчитали достаточным выявить формальные черты, характерные для восприятия в позднеримскую эпоху. Они не пытались – и, возможно, не могли считать это возможным – показать общественные преобразования, которые нашли выражение в этом изменении восприятия.
Что же касается современности, то здесь условия для подобного открытия более благоприятны. И если изменения в способах восприятия, свидетелями которых мы являемся, могут быть поняты как распад ауры, то существует возможность выявленя общественных условий этого процесса.
Было бы полезно проиллюстрировать предложенное выше для исторических объектов понятие ауры с помощью понятия ауры природных объектов. Эту ауру можно определить как уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего послеполуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, под сенью которой проходит отдых, – это значит вдыхать ауру этих гор, этой ветви. С помощью этой картины нетрудно увидеть социальную обусловленность проходящего в наше время распада ауры. В основе его два обстоятельства, оба связанные с все возрастающим значением масс в современной жизни. А именно: страстное стремление «приблизить «к себе вещи как в пространственном, так и человеческом отношении так же характерно для современных масс как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции.
Изо дня в день проявляется неодолимая потребность овладения предметом в непосредственной близости через его образ, точнее – отображение, репродукцию. При этом репродукция в том виде, в каком ее можно встретить в иллюстрированном журнале или кинохронике, совершенно очевидно отличается от картины. Уникальность и постоянство спаяны в картине так же тесно, как мимолетность и повторимость в репродукции.
Освобождение предмета от его оболочки, разрушение ауры – характерная черта восприятия, чей «вкус к однотипному в мире» усилился настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений. Так в области наглядного восприятия находит отражение то, что в области теории проявляется как усиливающееся значение статистики. Ориентация реальности на массы и масс на реальность – процесс, влияние которого и на мышление, и на восприятие безгранично.
IV
Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции. В то же время сама эта традиция – явление вполне живое и чрезвычайно подвижное. Например, античная статуя Венеры существовала для греков, для которых она была предметом поклонения, в ином традиционном контексте, чем для средневековых клерикалов, которые видели в ней ужасного идола. Что было в равной степени значимо и для тех, и для других, так это ее единственность, иначе говоря: ее аура.
Первоначальный способ помещения произведения искусства в традиционный контекст нашел выражение в культе. Древнейшие произведения искусства возникли, как известно, чтобы служить ритуалу, сначала магическому, а затем религиозному. Решающим значением обладает то обстоятельство, что этот вызывающий ауру образ существования произведения искусства никогда полностью не освобождается от ритуальной функции произведения.
Иными словами: уникальная ценность «подлинного» произведения искусства основывается на ритуале, в котором оно находило свое изначальное и первое применение. Эта основа может быть многократно опосредована, однако и в самых профанных формах служения красоте она проглядывает как секуляризованный ритуал.
Профанный культ служения прекрасному, возникший в эпоху Возрождения и просуществовавший три столетия, со всей очевидностью открыл, испытав по истечении этого срока первые серьезные потрясения, свои ритуальные основания. А именно, когда с появлением первого действительно революционного репродуцирующего средства, фотографии (одновременно с возникновением социализма) искусство начинает ощущать приближение кризиса, который столетие спустя становится совершенно очевидным, оно в качестве ответной реакции выдвигает учение об искусстве для искусства, представляющее собой теологию искусства. Из него затем вышла прямо-таки негативная теология в образе идеи «чистого» искусства, отвергающей не только всякую социальную функцию, но и всякую зависимость от какой бы то ни было материальной основы.











