Читать онлайн 28 дней. История Сопротивления в Варшавском гетто
- Автор: Давид Зафир
- Жанр: Книги для подростков, Детская проза, Зарубежные детские книги, Историческая литература, Современная зарубежная литература
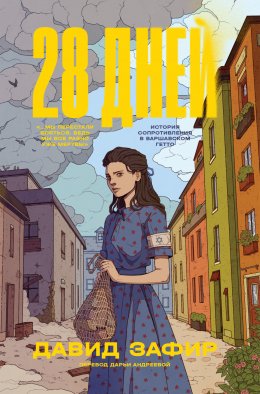
Моей матери, моему отцу и моей сестре
1
Они меня вычислили.
Гиены меня вычислили!
И теперь идут по следу.
Я почуяла их инстинктивно. Хотя не видела и не слышала. Как зверь чует опасность, хотя врага в чаще еще не разглядел. Этот рынок – самый обычный для поляков рынок, где они покупают овощи, хлеб, сало, одежду, да что там, даже розы, – для таких, как я, и есть чаща. Где я считаюсь за добычу. И умру, если выяснится, кто я такая – или, лучше сказать, что я такое.
Только не ускоряться, подумала я. И не замедляться. И не петлять. И уж точно – не оглядываться на преследователей. И никаких судорожных вздохов. Нельзя делать ничего такого, что укрепило бы их подозрения.
Невероятно тяжело как ни в чем не бывало брести по рынку, словно бы наслаждаясь солнцем и на удивление теплым весенним деньком. Мне хотелось броситься наутек, но тогда гиены убедились бы, что правы в своих подозрениях. Что я не обычная полька, которая купила все, что хотела, и с полными сумками возвращается домой к родителям, а контрабандистка.
Я остановилась у прилавка какой-то крестьянки и, разглядывая на свет яблоки, подумала: может, все-таки оглянуться? Вполне возможно, что я все себе навоображала и никто меня не преследует. Но каждая жилка моего тела умоляла о бегстве. А я давно уже усвоила, что инстинктам надо доверять. Иначе я бы и до своих шестнадцати не дотянула.
Твердо решив не бежать, я неспешно двинулась дальше. Старая крестьянка, до омерзения жирная – похоже, еды у нее не то что вдосталь, а с избытком, – проскрипела мне вслед:
– У меня лучшие яблоки во всей Варшаве!
Откуда ей знать, что для меня любое яблоко – чудо. Для большинства людей, загнанных жить за стены, даже подгнившее яблоко сошло бы за лакомство. А уж тем более яйца, которые я несу в сумке, сливы и главное – масло, которое я рассчитываю задорого перепродать на нашем черном рынке.
Чтобы у меня был хоть какой-то шанс вернуться домой, нужно для начала выяснить, сколько человек меня преследует. Уверенности у них нет, иначе меня бы давно остановили. Нужно все-таки исхитриться на них посмотреть. Как-нибудь. Незаметно. Не возбуждая еще бо́льших подозрений.
Мой взгляд упал на брусчатку под ногами. В паре метров отсюда виднелась решетка стока, и меня осенило. Я как ни в чем не бывало пошагала дальше. Каблуки синих туфель, замечательно сочетавшихся с синим платьем в красный цветочек, стучали по брусчатке. Отправляясь в рейд, я всегда надевала эти вещи – их подарила мне мать, еще когда у нас водились деньги. Вся прочая моя одежда поизносилась, многое уже латаное-перелатаное. В таких отрепьях я бы и пяти метров по рынку не прошла – на меня бы тут же обратили внимание. Так что это платье и эти туфли, которые я берегла как зеницу ока, – моя рабочая одежда, моя маскировка, моя броня.
Направившись прямиком к стоку, я нарочно всадила каблук в решетку. Слегка оступилась, ругнулась театрально:
– Черт возьми, ну надо! – поставила сумки и наклонилась, чтобы высвободить застрявший в решетке каблук. При этом я украдкой бросила взгляд по сторонам. И увидела гиен.
Инстинкт меня не обманул. К сожалению, он никогда не обманывает. Или к счастью – тут уж как посмотреть.
Их было трое. Впереди вышагивал низкорослый, коренастый, небритый тип в коричневой кожанке и серой кепке. Ему было лет сорок, и он, очевидно, был предводителем шайки. За ним шли здоровенный бородач такого вида, будто он мог руками крошить камни, и парнишка моего возраста. Он тоже был в кожаной куртке и кепке и выглядел как уменьшенная копия предводителя. Может, это его папаша? Тогда понятно, почему вместо того, чтобы сидеть в школе, парень с утра ошивается на рынке, охотясь на людей.
Безумие – у нас за стенами в школу никто больше не ходит, немцы запретили всякое обучение. Есть, правда, две подпольные школы, но они не для всех, и я давно уже их не посещаю. Мне семью кормить нужно.
В отличие от нас, этот мальчишка-поляк мог бы учиться, мог бы кем-то в этой жизни стать – но не хотел. Наверное, гораздо денежнее состоять при банде шмальцовников, как мы называем этих гиен, охотиться на евреев и за деньги выдавать их немцам. Шмальцовников в Варшаве развелось немерено, и их ничуть не волновало, что немцы расстреливают любого, кого поймают за периметром стен.
Сейчас, весной 1942 года, смертная казнь грозила всем, кто без разрешения оказывался в польской части города. И смерть еще не самое страшное: из уст в уста передавались ужасные рассказы о том, как немцы пытают пойманных, прежде чем поставить к стенке. Все равно – мужчину, женщину или ребенка. Да, они даже детей могли замучить до смерти. От одной мысли о пыточных застенках у меня перехватило горло. Но пока что меня никто не бил, не пытал и не пытался застрелить. Пока что я живу! И должна жить дальше. Ради Ханны, моей младшей сестры.
Нет на земле человека, которого я любила бы так же сильно, как это маленькое, хрупкое создание. Из-за плохого питания Ханна очень мелкая для своих двенадцати лет и давно превратилась бы в тень самой себя, если бы не глаза. Глаза у нее большие, живые, любопытные и уж точно достойны того, чтобы видеть что-то еще, кроме творящегося за стенами кошмара.
В этих глазах горела мощь невероятной фантазии. Хотя в подпольной школе «Шулькульт» Ханна по всем предметам: по математике, по биологии, по географии – перебивалась с тройки на двойку, зато в историях, которые она на переменах рассказывала другим детям, равных ей не было. Она сочиняла сказки про лесную воительницу Сару, которая освобождала своего возлюбленного принца Иосифа из когтей трехглавого дракона, про зайку Марека, который помогал союзникам выиграть войну, и про Ханса, мальчишку из гетто, который умел оживлять камни, но делал это без большой охоты, потому что камни были очень уж брюзгливы. Для каждого, кто слушал истории Ханны, мир становился ярче и прекраснее.
Кто позаботится о малышке, если меня схватят?
Не мать же! Она настолько сломлена, что носа не высовывает из той обшарпанной дыры, в которой мы обитаем. И уж точно не братец. Он слишком занят тем, чтобы думать о себе любимом.
Я отвела взгляд от шмальцовников, выдернула каблук из решетки и быстро коснулась рукой брусчатки. Когда меня охватывает страх, я часто, чтобы успокоиться, касаюсь какой-нибудь поверхности: металла, камня, ткани – все равно чего, главное – убедиться, что в мире есть что-то еще, кроме моего страха.
Светлый булыжник, на котором на мгновение задержалась моя ладонь, был нагрет солнцем. Я глубоко вздохнула, подобрала сумки и двинулась дальше.
Я знала, что шмальцовники идут за мной по пятам. Я слышала их ускоряющиеся шаги, хотя на рынке было множество других звуков: выкрики продавцов, нахваливающих свой товар, гомон торгующихся покупателей, птичий щебет и шум машин, которые ехали по улице за рынком.
Люди не торопясь шли мимо. Светловолосый молодой человек в сером костюме, какие носят многие польские студенты, весело насвистывал себе под нос песенку. Я все это слышала, но словно бы фоном. Зато оглушительно звучало собственное дыхание, которое поневоле учащалось, хотя шагу я не прибавляла, и сердце, которое колотилось стремительнее с каждой секундой. А громче всего отдавались в ушах шаги преследователей.
Они подходили ближе.
Все ближе и ближе.
Вот-вот нагонят и остановят. Скорее всего, сначала станут вымогать деньги: мол, если я заплачу, меня отпустят. А получив деньги, все равно меня выдадут и вознаграждение от нацистов тоже положат себе в карман.
Я знала, что рано или поздно нечто подобное произойдет – с тех самых пор, как начала заниматься контрабандой. А решилась я на это спустя пару недель после того, как папа покончил с собой, бросив нас на произвол судьбы. Денег, чтобы покупать еду на черном рынке, у нас не осталось, а выделяемый немцами рацион составлял триста шестьдесят калорий в день на человека. Кроме того, продукты питания, которые нам, евреям, выдавали, часто оказывались порченые. Все, что не годилось для солдат на Восточном фронте, шло нам. Гнилая свекла, тухлые яйца и мороженая картошка, из которой ничего нельзя было приготовить – однако, имея некоторую сноровку, все-таки удавалось сообразить вполне сносные драники. В последнюю зиму бывали дни, когда этими самыми картофельными драниками воняло все гетто.
Так что, если я хотела, чтобы родные не голодали, сидеть сложа руки было нельзя. Моя подруга Руфь торговала телом в отеле «Британия» и предложила меня тоже туда устроить, хотя фигурой я, как она с ухмылочкой заявила, скорее похожа на мальчишку. Но я вместо этого предпочла рисковать жизнью, пронося продукты в гетто.
На случай, если меня поймают шмальцовники, я сочинила целую историю: я, мол, Дана Смуда, польская школьница, живу в другом районе Варшавы, но за продуктами хожу на этот рынок, потому что только здесь продаются вкуснейшие пирожки из слоеного теста с восхитительной яблочной начинкой. Я намеренно поселила фальшивую школьницу подальше отсюда, иначе гиены поведут меня прямиком к моему якобы жилищу и выяснят, что я солгала. На всякий случай, чтобы история выглядела правдоподобнее, я каждый раз покупала на рынке и клала в сумку пирожок.
Отправляясь в очередную вылазку, я всегда вешала на шею цепочку с крестиком. Зазубрила христианские молитвы так, что от зубов отскакивали, чтобы в случае чего изобразить благочестивую католичку. Выучила «Розарий», «Санктус» и «Магнификат»: «Душа моя славит величие Господне, и дух мой радуется Богу» – словно в эти времена некалечная душа может славить Господа.
Окажись он сейчас передо мной, я б его яйцами закидала. Пусть даже в гетто они стоят кучу денег. На религию я не уповала. И на политику тоже. И уж совсем не уповала на взрослых. Упование у меня было одно – выжить любой ценой.
– Стоять! – крикнул один из моих преследователей, наверное, предводитель банды.
Я сделала вид, что это обращено не ко мне. Я обычная польская девчонка, с какой стати мне оборачиваться, когда какой-то чужой тип кричит: «Стоять»?
А про себя торопливо повторяла: я Дана Смуда, живу на улице Мёдовой, дом 23, люблю слоеные пирожки…
Гиены выскочили передо мной, перерезав путь.
– Что, решила на эту сторону прогуляться, паскуда еврейская? – осведомился предводитель.
– Что? – фыркнула я с наигранным раздражением. Сейчас жизненно важно не подать виду, что я боюсь.
– Две тысячи злотых, иначе мы сдадим тебя в гестапо, – отрезал предводитель, а его сын – наверняка это сын, они даже сутулятся одинаково – окинул меня с головы до пят таким взглядом, словно испытывал ко мне, еврейке, отвращение и в то же время рисовал в своем грязном воображении, как я выгляжу без платья.
– Второй раз предлагать не буду: две тысячи, и топай куда хочешь.
У меня на загривке выступил пот. Не обычный пот, который начинает течь под палящим полуденным солнцем. А другой – пот страха. У него особый едкий запах, и я, выращенная в любви и ласке, еще пару лет назад знать не знала, что он вообще бывает.
Пока пот течет только по шее и между лопатками, он меня не выдаст, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы испарина выступила на лбу. Эти гиены примечают любой, даже самый крохотный признак слабости.
– Кумекаешь, прошмандовка еврейская?
Я не могла вымолвить ни слова.
В этот миг мне стало ясно, почему люди в таком положении отдают преступникам все деньги, даже понимая, что их потом все равно выдадут гестаповцам. Они цепляются за нелепую надежду, что шмальцовники сдержат слово. Будь у меня при себе такая сумма, я бы, может, тоже созналась, что я еврейка, и попыталась бы откупиться. Но у меня таких деньжищ сроду не водилось. Поэтому я выдавила улыбку и сказала:
– Вы ошиблись…
– Ты нас за баранов-то не держи, – прошипел предводитель. Он был уверен в своей правоте.
Инстинкт подсказывал мне, что вся моя складно сочиненная история этого типа не убедит. Его сынка и неотесанного здоровяка я, может, и провела бы, но не его. Он за последние годы наверняка много евреев выследил и точно слыхал более убедительные легенды, чем моя – про школьницу со слоеными пирожками. Гораздо более убедительные. И немало цепочек с крестиками перевидал.
Лгать смысла нет. Никакой пользы это мне не принесет. Как я могла быть так наивна, как могла так плохо подготовиться? Без меня мать в нашей комнатушке на улице Милой, 70 загнется в считаные недели, и Ханна тоже долго не протянет. Может, пойдет на улицу просить милостыню и сколько-то еще перекантуется. Максимум – до зимы; зимними ночами маленькие попрошайки замерзают насмерть.
Нет, я не могу допустить, чтобы Ханну постигла такая участь. Ни в коем случае!
Я напомнила себе, что крестик и заготовленное вранье не единственное спасительное средство в моем арсенале. Есть еще кое-что, на что можно сделать ставку: внешность у меня не очень-то еврейская.
Волосы, конечно, темные, как у большинства евреек, – но и польки многие темноволосые. Зато у меня вздернутый нос, а главное – вот это для евреек совсем нехарактерно – зеленые глаза.
Однажды мой друг Даниэль, находясь в не очень свойственном ему романтическом настроении, сказал, что они похожи на два горных озера, сверкающих на солнце. Я ни разу в жизни горных озер не видела, поэтому не знаю, действительно ли от них исходит зеленоватое сияние. И вероятно, никогда уже не узнаю…
Всякий раз, заглядывая мне в глаза, люди приходили в замешательство. Издали меня можно было принять как за польку, так и за еврейку. А цвет глаз, различимый лишь вблизи, и вовсе делал меня редкой птицей – что по ту, что по эту сторону стены.
Подавив страх, я посмотрела главарю шмальцовников прямо в глаза. Зеленая радужка явно его озадачила. А я, не успев толком подумать, выкинула совершенно нелепый фортель: взяла и засмеялась. Громко, от души. Те немногие люди, которые меня хорошо знали, могли бы сказать, что я почти никогда не смеюсь, а если и смеюсь, то уж точно не так. Но шмальцовники фальши заметить не могли, и это еще больше сбило их с толку.
А я язвительно бросила:
– Промашечка вышла!
Протиснулась мимо ошарашенных мужиков, которых, похоже, еще никто из тех, в ком они заподозрили «паскуду еврейскую», не поднимал на смех, и просто пошагала со своими сумками дальше. Невероятно, но, кажется, наглость действительно сработала. По моим губам пробежала усмешка…
Но тут низкорослый главарь сорвался с места, а за ним – его подручные; они снова преградили мне путь. У меня перехватило дыхание. Еще раз нагло засмеяться у меня уже не получится.
– Да еврейка ты, нутром чую! – рявкнул главарь, сдвигая кепку на затылок. – У меня на вас, паразитов, чуйка первоклассная.
– Ни у кого такой нет, – с гордостью подтвердил парнишка.
Человек гордился, что его отец вымогает у людей деньги и отправляет их на верную смерть.
Ужасная несправедливость: мой отец лечил людей – поляков, евреев, всех без разбору. Даже немецкому солдату, которого подстрелили на нашей улице, когда немцы только вошли в город, – и тому оказал помощь. Но сколько бы народу он ни спас, каким бы уважаемым врачом ни был – теперь, когда он позарез нужен, его с нами нет, и гордиться им я никак не могу.
– Отвяжитесь уже от меня! – сердито отчеканила я. – А то полицию позову!
На парнишку и бородатого великана моя пустая угроза явно произвела впечатление. Польская полиция шмальцовников не жаловала – это были конкуренты, мешавшие им зашибать деньгу на евреях, пойманных вне стен гетто. А если в придачу ко всему выяснится, что шмальцовники пристали к ни в чем не повинной польской девушке, неприятности им обеспечены. Это бравые молодцы понимали.
Однако их предводитель ничуть не смутился. Он пристально посмотрел мне в глаза, и даже их зеленый цвет уже не защищал меня от его подозрений – он явно пытался разглядеть в них неуверенность, хоть самый мимолетный проблеск.
Я выдержала его взгляд. Твердо и непоколебимо. И заявила:
– Я говорю совершенно серьезно.
– Да никого ты не позовешь, – преспокойно отозвался он.
– Еще как позову!
– Ну тогда пошли в полицию вместе, – предложил он и указал на полицейского в синей форме, который, стоя у прилавка толстой старухи, как раз откусил от яблока и скроил кислую мину: видно, яблоко оказалось далеко не такое вкусное, как заявлено.
Что же делать? Если я пойду к полицейскому, все пропало. Если не пойду – тоже. Теперь испарина выступила и на лбу. Главарь капли пота тут же заприметил и ухмыльнулся. Лгать уже без толку.
Я снова услышала посвист студента. Я скоро умру, самое позднее завтра меня поставят к стенке. Мать и младшая сестра без меня не выживут. А этот парень насвистывает веселую песенку!
Может, броситься наутек? Тоже без шансов. Даже если я, несмотря на каблуки, оторвусь от шмальцовников, они поднимут крик, и в толпе людей, пришедших на рынок по своим надобностям, найдется достаточно евреененавистников, которые помогут меня задержать. Многие поляки нас терпеть не могут. Считают, что жить под немцами, конечно, то еще удовольствие, но одно хорошо – никаких больше евреев.
Даже в том совершенно невероятном случае, если мне удастся вырваться с рынка, я не сумею незаметно пробраться назад к стене, чтобы попасть в гетто. Так что бежать бессмысленно. И все же это мой единственный шанс. Я уже приготовилась швырнуть сумки с драгоценными продуктами на землю и со всех ног броситься прочь, как вдруг перед моими глазами возникла роза.
Настоящая роза!
У самого моего лица.
Ее мощный аромат на мгновение перебил едкий запах пота. Когда я в последний раз нюхала розу? В гетто никаких роз нет. А когда я совершаю вылазку на польский рынок, мне как-то не до цветочков. Даже в голову не приходит что-то там нюхать. И теперь, когда меня вот-вот сдадут немцам, кто-то протягивает мне розу?
Не кто-то, а тот самый студент.
Он стоял передо мной, и его светло-голубые глаза так сияли, словно никого краше и лучше меня нет на всем белом свете.
При ближайшем рассмотрении этот радостно улыбающийся парень на студента не тянул – ему скорее лет семнадцать-восемнадцать, чем двадцать с копейками.
Не успели шмальцовники рты раскрыть, как он порывисто обнял меня и засмеялся:
– Роза для моей розы!
Ну и дурацкая же фраза! Но произнес он ее с такой любовной оголтелостью, что смешной она не показалась.
Тут до меня наконец дошло: парень пытается спасти мне жизнь. И для этого делает вид, что я его большая польская любовь. Может, он тоже еврей? Да нет, больше на поляка похож. Светлые волосы, веснушки, голубые глаза – он бы даже за немца сошел. Актер он, конечно, первоклассный! А кто уж он там по национальности, без разницы. Ради меня, совершенно чужого человека, он рискует головой.
– Ты роза моей жизни! – Он широко мне улыбнулся.
Гиены явно не знали, как расценить его поведение. Разве человек, который разыгрывает любовь, стал бы так патетично ее выражать?
Чтобы убедить их и спасти нас обоих, нужно было ему подыграть.
Но я была в слишком большом смятении. Даже руку за розой протянуть не могла. Словно меня парализовала ядовитая гусеница Ксала – героиня Ханниной сказки про глупую гусеницу, ненавидевшую бабочек.
Парень почувствовал мое состояние и привлек меня к себе. Хватка у него была крепкая: вроде худой, а руки неожиданно сильные. Я по-прежнему пребывала в оцепенении. Испуганная и изумленная, я лежала в объятиях парня, словно манекен. Чтобы это не так бросалось в глаза, парень перешел к еще более активным действиям: взял и поцеловал меня.
Он меня поцеловал!
Его слегка приоткрытые шершавые губы прижались к моим, и его язык проскользнул в мой рот, как будто так и надо, как будто он это уже тысячу раз делал. Я понимала: на поцелуй надо ответить. Это мой последний шанс. Если я этого не сделаю, всему конец. Нам обоим крышка.
Мысль о том, что гибель неотвратима, если я наконец не приду в чувство, помогла мне сбросить оцепенение. И я страстно ответила на его поцелуй.
Об удовольствии я в этот миг даже не думала.
Однако, когда парень от меня оторвался, постаралась изобразить блаженство.
– Спасибо за розу, Стефан, – я наспех придумала ему имя.
– Тебе спасибо, что ты есть, Ленка, – не остался в долгу он и явно испытал облегчение, поняв, что я наконец-то приняла его игру.
Только теперь я отважилась посмотреть на гиен. Наш спектакль произвел на них глубокое впечатление. Молодого шмальцовника, похоже, даже зависть проняла: наверняка он тоже не отказался бы от страстного поцелуя с юной полькой.
– Этим-то что от тебя нужно? – осведомился Стефан, сделав вид, будто только сейчас их заметил.
– Они приняли меня за еврейку!
Стефан посмотрел на моих преследователей как на сумасшедших – это же надо такое придумать! Но смеяться, как я при первой попытке от них избавиться, не стал. Его лицо исказил гнев:
– Вы что, хотели оскорбить мою девушку?
Вот он – гордый поляк, чьей подруге нанесли грубейшее оскорбление. Еврейка? Никто не смеет обзывать так девушку добропорядочного польского гражданина!
– Да нет… да мы чего… – прозаикался главарь. И сделал шаг назад. Его подручные – тоже.
– Очень даже хотели! – сердито возразила я. И если роль оскорбленной польки я только играла, то злость была самой настоящей.
Сжав руку в кулак, Стефан замахнулся на шмальцовников. Те еще попятились. Конечно, они запросто могли его отколошматить – трое на одного, подумаешь. Но им не хотелось связываться с поляком – только огребать лишние проблемы с полицией. Они даже малость пристыдились: дали маху, что и говорить! Конечно, извинений от них ждать не приходилось, но главарь, не проронив больше ни слова, развернулся и дал знак двум другим гиенам следовать за ним.
Стефан отобрал у меня две тяжеленные сумки, как настоящий джентльмен, не позволяющий подруге таскать тяжести, а свободной рукой обнял меня за плечи. И мы пошли слоняться по рынку, как два влюбленных голубка. Я по-прежнему держала в руке его розу.
Внезапно я испугалась: а вдруг он сейчас даст деру с моими продуктами? Может, он тоже контрабандист. Но разве стал бы обычный контрабандист рисковать жизнью ради соратника по цеху? И даже если он меня ограбит, это вполне себе цена за спасение моей жизни. За возможность дальше кормить родных. И растить сестру.
– Спасибо, – сказала я ему.
– Да я с удовольствием. – Он так засмеялся, что я ему почти поверила. И прибавил: – А целуешься ты здорово!
Он произнес это с нахальной самоуверенностью юнца, который перецеловал множество девушек и, может, даже женщин, а потому имеет право судить.
– На кону была моя жизнь, – шепотом ответила я, чтобы никто из прохожих не услышал. Не время и не место таять от комплиментов. – Наша жизнь. Ведь ты рисковал собой ради меня.
Мне до сих пор в это не верилось. В мире, где каждый думает только о себе, нашелся человек, который во имя моего спасения пошел ва-банк.
– Я не сомневался, что все получится, – ответил он так же тихо. И улыбнулся – не наигранно, не нахально, а совершенно искренне.
– Мне б твою уверенность! – Я вымученно улыбнулась.
– Были две детали, которые меня в этом убеждали, – заявил он.
– Это какие же?
– Во-первых, твои зеленые глаза…
Он засмеялся: глаза ему, похоже, понравились. А я, к своему удивлению, почувствовала, что мне это польстило.
– А другая? – поинтересовалась я.
– Человек, который в такие времена занимается контрабандой, должен очень, очень быстро соображать. Иначе он был бы давно мертв. То есть мертва.
Эта аттестация польстила мне еще больше. Прямо гордость взяла. Но виду я не подала, а сказала:
– Либо соображать быстро – либо вообще ничего не соображать.
Он засмеялся. Смех у него был вальяжный, вольный. Не задавленный, как у большинства евреев. Наверное, он все-таки поляк. Может, его даже действительно зовут Стефан.
– Ты тоже контрабандой занимаешься? – спросила я.
Он остановился, резко посерьезнев, и помешкал, видимо решая, можно ли раскрываться передо мной и если да, то в какой мере. Наконец последовал ответ:
– Только другого рода.
Это еще что значит? Может, он работает на королей черного рынка, процветающего в гетто? Неужели он один из тех поляков, кто, преступая закон, помогает еврейским мафиози?
Стефан убрал руку с моих плеч.
– Чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше для тебя, – сказал он, и мне вдруг показалось, что ему гораздо больше семнадцати.
– Ну я-то крепкий орешек, – отозвалась я.
– Я тоже раньше так о себе думал, – ответил он, и нахальный блеск потух в его глазах. Конечно, мне сразу стало любопытно, что стоит за этой фразой, но не в душу же к нему лезть.
Он отдал мне сумки. У меня камень с души свалился: как бы я вернулась в гетто без продуктов? К тому же было бы ужасно обидно, если бы мой спаситель меня обокрал.
– Ну, пора прощаться, – сказал Стефан.
Мне прощаться не хотелось. Хотелось разузнать о нем побольше. Но я кивнула:
– Да, пора.
Он быстро бросил на меня грустный взгляд, словно жалел, что наши дороги расходятся. А когда понял, что я этот взгляд поймала, тут же снова навесил на лицо улыбку:
– Доберешься до дома – помойся.
– Чего? – изумилась я.
– О, этот потный запах страха! – Он широко ухмыльнулся.
Я не знала: то ли засмеяться, то ли влепить ему пощечину. Решила сделать и то и другое.
– Ай! – Он расхохотался.
– Следи за языком, – сказала я, – а то еще не раз придется айкать.
Он развеселился еще больше:
– Я всегда говорю: с хорошенькими девушками надо держать ухо востро!
Проклятье – я снова почувствовала себя польщенной.
А Стефан нахально чмокнул меня в щеку и исчез в толпе. А заодно, вероятно, и из моей жизни: не выяснить мне его настоящего имени, и ему не узнать, что меня на самом деле зовут Мира…
Когда переживаешь большое потрясение, все ощущения иногда настигают с отсрочкой, когда ты уже в безопасности. Острый шип розы легонько кольнул подушечку пальца, и я вдруг снова очень отчетливо почувствовала его поцелуй. Страсть, которую Стефан в него вложил. И страсть, с которой я на него откликнулась.
Меня охватило смятение. Этот поцелуй был совсем, совсем не такой, как мой первый, с Даниэлем.
Даниэль…
Внезапно нахлынуло чувство вины. Почему я вообще думаю о поцелуе какого-то незнакомца?
Даниэль – моя единственная опора и поддержка. Порядочнее него никого на свете нет. Он всегда готов прийти на помощь. В отличие от остальных.
Стефана я, скорее всего, никогда больше не увижу. А если и увижу…
Мы с Даниэлем… Мы вместе уедем в Америку. Когда-нибудь потом. Вместе с Ханной пойдем гулять по Нью-Йорку, заглянем на Бродвей. Увидим этот прекрасный город в цвете. Ведь я знаю его только черно-белым – по американским фильмам, которые крутили в наших кинотеатрах, пока не пришли немцы.
Мы с Даниэлем поклялись, что этот самый Нью-Йорк у нас непременно будет.
Взяв себя в руки, я подавила бурю чувств, вызванную поцелуем на рынке. Всему виной волнение, смертельная опасность, которая мне грозила. Стефана надо выбросить из головы. Мне сегодня еще много чего предстоит. Самое трудное впереди. Ведь теперь нужно пробраться назад в гетто. И при этом не попасться немцам.
2
Стена, которую насильно согнанные на работу евреи возвели по приказу нацистов (да, нам оказали милость – позволили собственными руками построить себе тюрьму), была трехметровой высоты. Сверху – битое стекло, над ним – почти полметра колючей проволоки. Охраняли стену три разных подразделения: немецкие отряды, польская полиция, а на нашем «берегу» – местные полицейские из числа евреев. Эти сволочи делали все, что требовали от них немцы, лишь бы жить чуть лучше, чем остальные. Доверять никому из них было нельзя – даже моему славному старшему братцу.
Входов в гетто было не так много, и профессиональные контрабандисты подкупали охрану – стричь денежки любят все блюстители порядка вне зависимости от того, к какой народности принадлежат. Получив взятку, охранники пропускали телегу с товаром через границу. Частенько в двойном дне была спрятана еда, а иногда животные, тянувшие повозку, сами были товаром. В гетто въезжала телега, еще запряженная лошадьми, а спустя немного времени наружу ее вытаскивали уже люди.
Мне входить и выходить из гетто было гораздо сложнее. Денег, чтобы подкупить такое количество охраны, у меня не было, а сама я хоть и субтильного телосложения, но все же слишком крупная, чтобы пролезть в подкоп под стеной, как делали многие маленькие дети, помогавшие своим семьям. Эти оборванцы, которые в жару, в холод, в дождь протискивались сквозь щели в каменной кладке, ползли по канализационным трубам или карабкались на стену, рискуя сломать шею и кромсая руки о битое стекло, стали скорбными героями нашего гетто. Большинству из них не было и десяти, некоторым – и вовсе лет шесть. Но взглянешь им в глаза, и кажется, что они уже тысячу лет странствуют по земле. Каждый раз, встречаясь с одним из этих юных, но уже состарившихся созданий, я радовалась, что могу обеспечить Ханне другую жизнь.
Маленькие контрабандисты были обречены на гибель. Рано или поздно они попадались кому-нибудь вроде Франкенштейна. Франкенштейном прозвали одного из немецких охранников, отличавшегося особой жестокостью. С холодной улыбкой он отстреливал карабкающихся на стену маленьких контрабандистов, словно по воробьям палил.
Чтобы попасть в польскую часть города и не закончить свои дни, как эти воробышки, я облюбовала место, которое и призвано было служить вратами из одного мира в другой, – кладбище.
В смерти все равны, что бы там ни утверждали религии, и два кладбища – католическое и еврейское – находились рядом, их разделяла только стена. Как пробраться через стену, мне рассказала Руфь. Один из ее полюбовников, известный в гетто мафиози Шмуль Ашер, бахвалился перед ней своими контрабандистскими ухищрениями.
Покинув рынок, я миновала пару улиц и вошла на католическое кладбище. Люди здесь попадались редко, и сегодня тоже не было ни души. В нынешние времена и у поляков нет времени на мертвых. А может, его в любые времена нет.
Я быстрым шагом устремилась к стене. Мой взгляд скользил по надгробиям, и, надо сказать, некоторые из них поражали великолепием. Иной раз плита была больше комнаты, где жила наша семья. И паразитов в этих хоромах наверняка поменьше…
Предаваясь подобным размышлениям, я заметила вдали патрульного в синей полицейской форме. Только бы не полез с расспросами и не потребовал документы. Фальшивый аусвайс, как у профессиональных контрабандистов, мне не по карману, поэтому песенка моя будет спета.
Не ускоряясь, я сделала еще несколько шагов и остановилась перед первой попавшейся могилой. Поставила сумки, положила свою розу рядом с траурным венком и стала тихонько молиться. Добропорядочная католичка, которая, сходив на рынок, не поленилась почтить память усопшего. Человека, над чьей могилой я стояла, звали Вальдемар Башановский, он родился двенадцатого марта 1916 года и умер третьего сентября 1939-го. Наверное, был солдатом польской армии и в первые же дни войны погиб от рук немцев. Ну а я, стало быть, младшая сестра Вальдемара, царствие ему небесное.
Полицейский прошел мимо, лезть не стал. С уважением отнесся к тому, что я воздаю дань памяти покойному. Когда он исчез из поля зрения, я перевела дух. Увы, розу придется оставить на могиле этого неведомого человека. А ведь Стефан с ее помощью спас мне жизнь… Я подняла розу, колеблясь: может, все-таки взять ее с собой в гетто? Но это безумие. Если я снова наткнусь на полицейского, роза меня выдаст. Как я объясню, что не оставила ее на могиле? Не могу же я сказать: «Ай, да все равно мертвый ее не видит».
Я рассердилась на саму себя – еще не хватало опять отвлекаться на мысли о пареньке с рынка! Положив розу на место, я пробормотала тихонько:
– Спасибо, Вальдемар, – и направилась к стене, за которой находилось еврейское кладбище. Бросила взгляд по сторонам, но ни солдат, ни полицейских нигде не было видно. Тогда я поспешила к участку стены, где каменная кладка была расшатана. Камни вынимались, и образовывалась большая дыра, через которую шайка контрабандистов тоннами ввозила в гетто самые разные товары, включая даже коров и лошадей. Я вынула один маленький камешек и осторожно заглянула в прореху. Насколько я видела, на другой стороне никого не было. Тогда я принялась быстро разбирать кладку. Это самый опасный момент: пока я достаю камни, меня могут обнаружить с любой из сторон, и тут уж никакие отговорки не прокатят – поминай как звали.
От волнения сердце колотилось у меня в горле, на лбу опять выступил пот. В любой момент меня могли застукать и застрелить. Ну, по крайней мере, если погибну, то сразу рядом с могилой…
Расширив дыру, я пропихнулась через нее и сразу принялась засовывать камни обратно. С одной стороны, чтобы патруль не заметил лаз и не замуровал его навсегда. С другой – чтобы контрабандисты не заподозрили, что кто-то посторонний использует их лазейку, и не подстерегли меня, когда я в следующий раз соберусь на польскую сторону. Может, они и не убьют меня на месте, но Руфь сразу предупредила: люди они свирепые.
Руки у меня тряслись все сильнее, я нервничала больше, чем обычно, наверное, из-за стычки со шмальцовниками. Один камень я выронила, и он стукнул меня по ноге. Я стиснула зубы, чтобы не издать предательского крика. Больше всего мне хотелось поскорее удрать, но лаз в стене надо было заделать.
Чтобы успокоиться, я потрогала мох на камнях. Мох был сырой, мягкий. И я снова почувствовала, что на свете есть что-то еще, кроме моего страха. Уже несколько спокойнее я подняла упавший камень с земли – рука больше не дрожала так сильно – и затолкала его в прореху. Еще пять камней. Издалека донеслись громкие песнопения – где-то на кладбище похороны. Люди в гетто мрут как мухи. Еще четыре камня. В похоронной процессии кто-то чихнул. Еще три камня. С другой стороны послышались тяжелые шаги. Патруль? Оборачиваться я не стала. Обернешься – потеряешь бесценное время. Еще два камня: шаги приближаются? Один камень: нет, снова удаляются. Лаз замурован. Готово.
Я обернулась и только теперь увидела: вдалеке шагали двое эсэсовцев. Они направлялись к кучке скорбящих в двухстах метрах от меня, вероятно, чтобы поиздеваться над ними. Немцы – любители подобных забав.
Пригнувшись, я с сумками рванула прочь от стены. Три могилы налево, две направо. На миг притормозив, я сдернула с шеи цепочку с крестиком и бросила ее в сумку с покупками. Пошарив в ближайших кустах, нащупала лоскуток ткани. Там, в зарослях, я оставляла повязку со звездой Давида. Я быстро натянула ее на руку.
И вот я уже не полька Дана.
И вот я снова еврейка Мира.
Любой немец волен делать со мной что хочет. И любой поляк. И даже любой полицейский-еврей.
Каждый раз, натягивая повязку, я вспоминала тот день, когда надела ее в первый раз. Мне тогда было тринадцать, гетто еще не существовало, но евреи уже подвергались гонениям. В ноябре 1939 года нацисты приказали всем евреям носить звезду. Разумеется, повязок нам никто не раздавал – мы должны были шить их сами или покупать у торговцев.
В день, когда вышло это постановление, мы с отцом и братом под ледяным ноябрьским дождем отправились на рынок. У нас еще были теплые пальто, так что холод был нам не страшен.
Пока не появился эсэсовец.
Он шел по тротуару нам навстречу, и мы, дети, засомневались, как правильно поступить – обойти его по дуге или поприветствовать. Только вчера вечером один приятель расписывал отцу, как его избили за то, что он верноподданнически поприветствовал немецкого солдата. И папа велел нам:
– Глаз не поднимать.
Потупив взгляды, мы двинулись было мимо немца. Но солдат остановил нас и рявкнул:
– Это что значит, морда жидовская? А поприветствовать немецкого солдата?
Не успел отец ответить, как солдат ударил его. Ударил моего отца! Почтенного человека, уважаемого врача, отца, на которого мы всегда смотрели снизу вверх, который в своей строгости к нам казался таким сильным, таким могущественным… и его – ударили!
– Прошу прощения, – пробормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. С губы на седую бороду капала кровь.
Мой сильный отец просит прощения? За то, что его же и ударили?
– Вы чего забыли на тротуаре? – гаркнул немец. – Ваше место на проезжей части!
– Разумеется, – ответил папа и потянул нас на дорогу.
– Босиком! – приказал солдат.
Мы в недоумении воззрились на него. А он снял с плеча винтовку, чтобы придать своему приказу убедительной силы. Я бросила взгляд по сторонам: кругом глубокие лужи.
– Дети, снимайте обувь, – велел отец, – и носки.
Он сам подал пример, встав голыми ногами в холодную лужу. Я была в таком смятении, что ничего не соображала, но мой брат Симон, которому тогда было столько же, сколько мне сейчас, пришел в ярость. Он побагровел, видя отцовское унижение. Шагнул к солдату, хотя он – как и все в нашей семье – довольно субтильного телосложения, и выкрикнул:
– Оставьте его в покое!
– Пасть закрой!
– Мой отец спас жизнь немецкому солдату!
Вместо ответа немец ударил Симона прикладом по лицу. Брат рухнул на землю, мы с папой бросились к нему. Нос у него был сломан, зуб выбит.
– Разуться!
Симон плакал от боли и ничего не мог с собой поделать. Нас, детей, никто никогда раньше не бил. Тем более так свирепо.
Отец сам снял с него обувь, чтобы солдат не ударил его еще раз. Я так перепугалась, что тоже поскорей стянула ботинки и носки. Симон по-прежнему плакал, мы с отцом помогли ему подняться на ноги. Папа взял нас за руки и крепко стиснул, словно мог таким образом дать нам опору. И мы побрели босиком по ледяным лужам.
А солдат крикнул:
– Надеюсь, вы усвоили урок!
Еще как усвоили. Отец понял, что немцы не устанавливают никаких правил, которых можно придерживаться. Приветствуй их, не приветствуй – все одно: любые правила придумываются только издевки ради. Симон решил для себя раз и навсегда, что связываться с немцами себе дороже. Удар, выбитый зуб, сломанный нос – и его воля к сопротивлению была сломлена раз и навсегда. И я тоже кое-что уразумела. Я шлепала босиком по ледяным лужам, пальцы на ногах от холода сначала разболелись, а потом онемели, и, когда отец посмотрел на меня, я увидела стыд на его лице – и поняла: взрослые больше не в состоянии меня защитить.
Папа тоже все понимал. Я читала это в его печальных глазах. И страдал еще больше моего. Мне хотелось его обнять, как он обнимал меня в детстве, когда мне снился кошмар. Но происходящее не было дурным сном, от которого можно пробудиться. Немецкий солдат приказал нам ходить по лужам туда-сюда. Эдакий уличный спектакль. Шедшие мимо поляки смущенно отводили глаза. Во всяком случае, большинство из них. Но некоторые принялись потешаться. Один горланил во всю глотку:
– Ну наконец-то, грязь в грязи!
Они радовались нашему унижению. Я сжала папину руку и шепнула ему:
– Я люблю тебя, что бы ни случилось.
Тогда я еще не знала, что ждет нас впереди.
Со стороны похоронной процессии донесся хохот немецких солдат. Похоже, они действительно решили покуражиться над скорбящими. Может, заставили их весело плясать. Я слышала о таких отвратительных шуточках.
Что бы там ни творилось, мне нельзя было терять ни секунды. Я подхватила сумки и, пригнувшись, перебежками от надгробия к надгробию устремилась к выходу.
Солдат крикнул:
– Давайте-давайте, смейтесь!
Раздался вымученный смех людей у могилы. Я ничем не могла им помочь. Это гетто. Моя отчизна.
3
Не обращать внимания. Не. Обращать. Внимания.
Я спешила по улицам гетто и, как всегда, старалась не замечать ничего вокруг, чтобы жизнь оставалась хоть сколько-то сносной. Тесноту. Шум. Вонь.
Людей вокруг множество, толкотня неимоверная. При том что я, как и все прочие обитатели гетто, старалась по возможности никого не касаться. Все мы ужасно боялись заразиться тифом.
Шум стоял невообразимый, и не из-за машин – никаких машин в гетто не было, – а из-за огромного количества людей, которые тут жили, гомонили, бранились. То и дело раздавались крики: у кого-то что-то украли, кого-то обманул торговец, а кто-то попросту сошел с ума.
Но хуже всего была вонь. Во многих подъездах валялись трупы. Зрелище, к которому я никак не могла привыкнуть. Зачастую родные не имели ни денег, ни сил, чтобы похоронить тех, кого любили. Вместо погребения они попросту вытаскивали умерших ночью на улицу, чтобы наутро их увезли как мусор. Ночью с трупов снимали одежду. Мародерство, которое я вполне могла понять: живым куда нужнее куртки, штаны и ботинки.
Я старалась не замечать и множество малолетних попрошаек, которые попадались на каждом шагу. Одни апатично сидели на корточках на тротуаре, другие, у которых еще оставались силы, цеплялись за мое платье. За ломоть хлеба из моей сумки они друг другу глаза бы выцарапали.
Ни за что я не допущу, чтобы Ханна оказалась среди них!
Но главное, от чего приходилось усилием воли отстраняться, – это вопиющее неравенство. Рядом со всеми этими несчастными, отчаявшимися оборванцами существовали богатеи, которых велорикши развозили по гастрономам. Мимо как раз проехала женщина, которая покрикивала на изможденного водителя, чтобы тот ехал поживее, – на ней была меховая накидка. В такую-то теплынь!
Впрочем, несмотря на вонь, в гетто мне все равно дышалось вольнее. Пусть теснота, зато можно передвигаться, не испытывая постоянного страха. На этих переполненных, вонючих, шумных улицах меня не станут преследовать гиены. Здесь я среди себе подобных – среди великого множества людей, которые пытаются сохранить достоинство в аду. Опрятно одеваются, моются и шагают по улице, не опуская взгляд. Стараются справиться с бытовыми неурядицами, не навредив другим. Не сделавшись зверьми.
Нет, гетто сломало далеко не всех. Оставались в нем люди по-настоящему достойные. Я к их числу, конечно, не принадлежала. Достойные – это учителя, добровольцы, работавшие на суповых кухнях, и люди вроде Даниэля. В первую очередь люди вроде Даниэля.
Через толпу я пробралась к лавчонке Юрека, бородатого старика, который почти всегда пребывал в хорошем настроении и – редкое дело – не жаловался на жизнь. Не только потому, что делал прибыльный бизнес на товарах, которые скупал у меня и других контрабандистов, но и потому, что успел пожить как следует. «Я топчу эту землю шестьдесят семь добрых лет, – сказал он мне однажды. – Большинству людей дается гораздо меньше. Хоть евреям, хоть немцам, хоть конголезцам. Да, последние годы живется не ахти, но чаши весов это уже не перевешивает».
Когда я с сумками вошла в его лавку (сломанный звонок скорее задребезжал, чем зазвенел), он радостно вскричал:
– Мира! Вот кого я больше всех люблю!
Мне было приятно это слышать, хотя я понимала, что он готов признаться в любви каждому, кто поставляет ему добротный товар. Мой взгляд упал на витрину, и я отметила про себя нынешние цены на продукты: одно яйцо – три злотых, литр молока – двенадцать злотых, килограмм масла – 115 злотых, килограмм кофе – 660 злотых… эх, вот бы раздобыть для Юрека кофе! Навар был бы сказочный! Но у меня денег не хватит купить кофе на польской стороне.
Само собой, простым смертным товары в лавке Юрека недоступны. Рабочий, вкалывающий на одной из немецких фабрик в гетто, зарабатывает порядка двухсот пятидесяти злотых в месяц. На эти деньги можно купить килограмм масла и литр молока.
Заглянув в мои сумки, Юрек довольно хохотнул:
– Ну вот, говорю же – никого так не люблю, как тебя!
И так он это произнес, что меня даже взяло сомнение: а вдруг это не просто ласковая присказка? Может, он правда меня так ценит?
Мы обговорили, что я хочу оставить для своих родных: яйца, морковь, немного варенья и фунт масла, – и Юрек, поедая слоеный пирожок, стал подсчитывать, сколько денег мне причитается. Обычно он отдавал мне половину суммы, за которую потом продавал товары сам. Справедливо ли это? Во всяком случае, я не нашла никого, кто предложил бы больше. А самостоятельно сбывать товары не так-то просто. Чем дольше они будут у меня храниться, тем выше вероятность, что их попросту украдут.
Юрек достал деньги из кассы, покрытой толстым слоем пыли – он был тот еще блюститель чистоты, – и сунул купюры мне в руку. Я пересчитала – надо же проверить, не надул ли он меня, – и с удивлением обнаружила, что денег больше, чем обычно. На целых двести злотых! С такой суммой в кармане я и впрямь в следующую вылазку смогу купить кофе. Может, Юрек обсчитался? Да нет, уж он-то тип прожженный. Спросить, что ли? Нет, решила я. У меня каждый злотый на счету. Даже если он обсчитался, сам виноват. Как-нибудь он этот ущерб переживет.
– Никакой ошибки, – рассмеялся он. – Все верно!
Вот черт! Неужели у меня на лице написано все, о чем я думаю? Во всяком случае, люди матерые вроде Юрека или главаря шмальцовников видят меня насквозь. Надо над собой работать!
– Ты что же, просто так решил отсыпать мне деньжат? – озадаченно осведомилась я.
– Да, уж очень ты мне нравишься, Мира. – Старик погладил меня по щеке. Никакой двусмысленности в этом жесте не было, он был дружеский, почти отеческий. Взамен лавочник ничего не ждал. До меня даже доходили слухи, что к женщинам Юрек большого интереса не питает, он скорее по мужчинам. – Все равно скоро деньги потеряют всякий смысл.
Это еще почему?
– В смысле из-за инфляции? – недоуменно уточнила я.
Цены в гетто росли каждый месяц. Если в начале года яйцо можно было купить за один злотый, то теперь цена подскочила втрое.
– Нет, инфляция тут ни при чем, – засмеялся Юрек и выдал фразу, которая заставила меня содрогнуться: – Хочу, чтоб ты пожила напоследок в свое удовольствие.
Прозвучало так, словно я скоро умру. Как это понимать? Конечно, каждый раз, выбираясь на ту сторону, я рискую жизнью, а сегодня вообще еле ноги унесла – но так просто я умирать не собираюсь. Стану еще осторожнее, буду готовиться еще тщательнее – им меня не сцапать.
– Да ничем мне контрабанда не грозит, – возразила я Юреку.
– А речь и не о контрабанде, – вздохнул он. – Скоро всем нам худо придется.
– Почему? Ты что-то слышал? – встревожилась я.
– Да рассказывают тут всякое… недоброе, ох, недоброе…
Он явно не хотел об этом распространяться.
– Какое всякое? – прицепилась я. – Кто рассказывает?
– Да эсэсовец один, с которым я дела веду.
Мне по душе Юрек, но противно, что он проворачивает сделки с эсэсовцами. Впрочем, это сейчас не самое главное.
– И что именно он сказал?
– Ну он уклончиво выражался, но намекнул, что завтра нашей мирной жизни конец. – И Юрек, обычно такой жизнерадостный, горько рассмеялся. – Если эту жизнь можно назвать мирной…
– Но что он имел в виду?
– Не знаю… но жду худшего.
Меня встревожило, что извечный оптимист Юрек воспринял эти кривотолки всерьез. В гетто то и дело возникали слухи, будто немцы всех нас собираются уничтожить. Дескать, им мало, что мы и так постепенно вымираем от голода. Но это были именно что слухи. И Юрек обычно не придавал им никакого значения.
– Да не будет ничего такого, – возразила я. – Мы нужны немцам как рабочая сила.
Множество евреев за сущие гроши вкалывали на фабриках, как рабы, производя для немцев всевозможные товары: мебель, запчасти для самолетов, даже форму для вермахта. Отказываться от такой выгоды – безумие.
– Да, рабочие руки им нужны, – признал Юрек. – Но не четыреста с гаком тысяч.
– Но они же и из других стран евреев сюда свозят, – не уступала я. – Зачем-то же это делается – убить их можно было и на родине…
За последние недели в гетто прибыло множество евреев из Чехии и из самой Германии. Немецкие евреи польских сторонились. Считали себя выше нас. Многие из них своим могучим телосложением, светлыми волосами и голубыми глазами походили на немцев, некоторые даже были христианами, но им не повезло иметь какого-нибудь дедушку-еврея, которого они, быть может, никогда и в глаза не видели. Евреям-протестантам немцы даже разрешили привезти с собой пастора, который справлял богослужения в гетто. Каково им было, этим христианам? Ходили себе каждое воскресенье в церковь, а потом их враз выкинули из родных домов, заставили носить повязки со звездой и сослали в нашу дыру – только из-за пресловутого еврейского дедушки или бабушки. Ничего не скажешь: у их Иисуса, в которого они по-прежнему верили, своеобразное чувство юмора.
– Да, было бы логично, – согласился Юрек, – расправляться с людьми сразу, на месте.
– Но? – не отставала я.
– У нацистов логика своя.
Поневоле мне вспомнилось, как солдат ударил отца за то, что отец его не поприветствовал, а если бы поприветствовал – то все равно бы ударил. Да, логика у нацистов действительно своя, извращенная.
И все-таки мне не хватало воображения, чтобы представить себе масштабы грядущей катастрофы. Так что я заверила Юрека – а главное, себя саму:
– До этого не дойдет.
Юрек натужно улыбнулся:
– Тогда что, лишние деньги вернешь?
– Я на них кофе у поляков куплю, – ответила я и направилась к двери.
Тут старик снова от души расхохотался:
– Нет, Мира, ну как же я тебя люблю!
Выйдя из лавки Юрека, я снова нырнула в толпу. Пусть вонючая, тесная и шумная, но жизнь в гетто бурлила, и я не могла вообразить, как это оно может умереть. Отдельные люди – понятно. Может, даже многие. Но вместо каждого умершего немцы пригоняли в гетто трех новых. Пока есть евреи, будет и гетто.
Я решила: пусть слухи остаются слухами, я должна сосредоточиться на жизни, а не на смерти. Сейчас приготовлю своим потрясающий омлет из свежих яиц!
4
Не пройдя и пяти метров, я увидела низкорослого человечка в грязных обносках, скачущего на дороге. Рубинштейн.
В гетто жили сотни тысяч людей, но только троих из них знали все. Одного – презирали, другого – глубоко уважали, а над третьим потешались. Объектом всеобщих насмешек был Рубинштейн. Он прыгал по улицам, подобно ребенку. Или сумасшедшему, каковым он, вероятно, и был. Или клоуну, которым он являлся наверняка. Маленький оборванец подскочил и встал прямо передо мной. Отвесил размашистый поклон, словно он – придворный, а я – принцесса. И поприветствовал меня своим обычным выкриком:
– Все равны!
Здравый смысл, конечно, подсказывал мне, что в гетто равны далеко не все. Но каждый раз, услыхав, как Рубинштейн бормочет или горланит этот лозунг, я задавалась вопросом: а может, он прав? Особенно теперь, на фоне слов Юрека: разве не все мы равны перед лицом того ада, в котором живем, и якобы грозящей нам гибели? И богатые, и бедные. И молодые, и старые. И сохранившие рассудок, и выжившие из ума.
Да и немцы тоже – разве они нам не ровня, какой бы властью над нами ни обладали? В конце концов, война еще очень далека от завершения, мир им покорился далеко не весь, и каждый из них точно так же в любой момент может погибнуть.
Надо сказать, что Рубинштейн единственный из всего гетто ничуть не боялся немцев. Сталкиваясь с эсэсовцами, он скакал вокруг них так же, как вокруг нас. При этом указывал на них, на себя и смеялся: «Все равны!» И так до тех пор, пока эсэсовцы не начнут тоже смеяться и повторять: «Все равны». То ли их это забавляло, то ли где-то в глубине души они чувствовали то, чего никогда не признали бы вслух: что они в этом мире так же уязвимы, как мы.
Может, не такой уж он и сумасшедший, этот Рубинштейн. Может, он, наоборот, мудрец и потому не испытывает перед немцами страха. Вполне возможно, наш страх для него так же смешон, как для нас – его безумие.
Рубинштейн огляделся, словно клоун на арене, присматривающий жертву для своих проделок. И внезапно расхохотался. Я проследила за его взглядом: на другом конце улицы появился эсэсовский патруль. Рубинштейн, наверное, единственный из евреев мог смеяться при виде эсэсовцев. Проскакав еще пару метров, он остановился перед лавкой Юрека и крикнул так громко, что старик должен был услышать даже через стекло:
– Гитлер – говнюк!
В окно видно было, как вздрогнул Юрек, стоявший за своей пыльной кассой.
– Гитлер, – орал Рубинштейн, – трахает свою овчарку!
Юрек запаниковал. Прохожие отхлынули от Рубинштейна. Мне тоже стало не по себе. Если эсэсовцы услышат эту околесицу…
Я бросила на них взгляд, но сумасшедшего – а он все-таки точно сумасшедший, иначе почему творит такую дичь? – патруль пока не заметил. Мне стало любопытно, я остановилась, напрочь забыв одно из главных правил выживания: любопытство никогда – никогда-никогда! – до добра не доводит.
– Как бы с такой псиной не остаться без дрына! – не унимался Рубинштейн.
Юрек торопливо похватал продукты с витрины: ветчину, хлеб, масло. Выбежал на улицу, сунул все это добро Рубинштейну в руки и рявкнул:
– Тихо ты!
Юрек до полусмерти испугался, что нацисты пристрелят не только Рубинштейна, но и хозяина лавки, перед которой выкрикивается такая чудовищная крамола. Несмотря на опасения, что всех нас скоро перебьют, сложить голову прямо сегодня старику явно не хотелось.
Рубинштейн ухмыльнулся:
– Я еще варенье люблю.
– Ах ты… – Глаза у Юрека яростно сверкнули.
Тут наконец и до меня дошло: выходка Рубинштейна – это такое изощренное вымогательство.
– А не то крикну, – Рубинштейн ухмылялся все плотояднее, – что ты тоже хочешь переспать с Гитлером!
Старик-торговец от такого бесстыдства потерял дар речи.
А Рубинштейн повернулся к солдатам, приставил ладони ко рту на манер рупора и прокричал:
– Юрек хочет пере…
Эсэсовцы раздраженно покосились в нашу сторону. Тут уж и я струхнула. Дура набитая, давно пора отсюда убираться!
Юрек молниеносно зажал Рубинштейну рот рукой и прошипел:
– Получишь ты свое треклятое варенье!
Вымогатель удовлетворенно кивнул. Юрек убрал руку, и Рубинштейн приложил палец к губам в знак того, что будет молчать.
Эсэсовцы больше не обращали на нас внимания. Пыхтя, Юрек метнулся в свою лавку и вернулся с большой банкой.
О-хо-хо, никогда я так не радовалась при виде варенья!
– Клубничное! – возликовал Рубинштейн и тут же залез пальцами в банку. Зачерпнул горсть варенья и с наслаждением запихнул себе в рот.
Прямо скажем, не самое аппетитное зрелище на свете.
Улыбнувшись, Рубинштейн предложил мне тоже угоститься из банки. Я бросила взгляд на Юрека: с одной стороны, мне не хотелось его обижать, с другой – как давно я не ела клубничного варенья! На черном рынке оно почти по цене масла идет. Старик вздохнул:
– Ой, Мира, да не менжуйся! Главное, что этот псих заткнулся.
Как только Юрек скрылся у себя лавке, я запустила руку в банку и закинула в рот здоровенную порцию варенья. И мне было совершенно все равно, что Рубинштейн уже успел покопаться в нем своими грязными пальцами. Какая вкуснотища!
Смакуя восхитительную ягодную сладость, я подумала: никакой Рубинштейн не сумасшедший, а самый хитроумный из нас из всех.
– Может, мне к тебе в ученицы пойти? – в шутку спросила я.
– Давай, – усмехнулся коротышка. – Научу делать так, чтобы богатенькие евреи угощали тебя обедом из пяти блюд.
– Полезный навык! – рассмеялась я.
Впору учиться у сумасшедших… А ведь я хотела изучать медицину.
Рубинштейн сунул язык в банку с вареньем и принялся ее вылизывать. Тут уж у меня пропала всякая охота лакомиться.
– А ты правда веришь, – спросила я, – что мы все равны?
Он оторвался от банки. Красное варенье капало с подбородка.
– Конечно. И все свободны.
Он что, издевается?
– Весьма своеобразный взгляд на вещи, – сказала я.
Рубинштейн вдруг резко посерьезнел:
– Да нет, самый естественный.
Сейчас он не походил ни на сумасшедшего, ни на клоуна, а скорее на мыслителя, нашедшего истину.
– Каждый волен сам решать, каким человеком быть.
И пристально заглянул мне в глаза:
– Вопрос, малышка Мира, в том, каким человеком ты быть хочешь?
– Человеком, который выживет, – буркнула я.
– Ну на смысл жизни это, по-моему, не тянет, – отозвался клоун. Потом засмеялся – не надо мной, а просто так – и поскакал прочь со своей добычей, оставив меня один на один с вопросом: каким же человеком я хочу быть?
5
Я поднималась по лестнице дома 70 по улице Милой. На ней было не протолкнуться. И не потому, что много народу стремились в свои квартиры, нет – для многих лестница была единственным пристанищем. На площадках спали целые семьи, ели прямо на ступеньках выданный хлеб и тупо пялились в разбитые окна, которые никто не чинил.
Когда нацисты организовывали гетто, им было совершенно все равно, найдется ли в нем место для такого количества людей. Жилья не хватало даже близко. В каждом доме ютились целые орды: в комнатах, на чердаках, на лестницах, в сырых, холодных подвалах. Сейчас, весной 1942 года, в Варшаву стали свозить евреев из других стран, и с каждым днем народу становилось все больше.
Нашей семье при переезде повезло (ага, повезло иметь достаточно денег): мы получили отдельную комнату. До переселения в гетто мы жили в просторной пятикомнатной квартире. Но она досталась бездетной польской паре, которой к тому же очень по вкусу пришлась наша мебель. С собой разрешалось взять только тележку с несколькими чемоданами. С этой-то тележкой мы и влились в фантасмагорический марш многих тысяч евреев по улицам Варшавы. Наше шествие за стены охраняли немецкие солдаты. Из-за оцепления на нас глазели поляки – они толпились на тротуарах, льнули к окнам и, похоже, ничего не имели против того, чтобы их район был «очищен».
Когда мы вошли в наше новое жилище на улице Милой, дом 70, мама разрыдалась. Одна-единственная комната. На пять человек. Кроватей нет. К тому же окно разбито. У отца тоже слезы навернулись на глаза. За немногие дни, прошедшие между объявлением, что на самых задрипанных улицах Варшавы будет устроено гетто, и собственно переселением, он сделал все, чтобы подыскать нам жилье. Бегал из учреждения в учреждение, подкупал чиновников организованного нацистами юденрата, не одну тысячу злотых потратил. Все хлопоты – ради того, чтобы зимой мы не замерзли на улице.
Тем не менее в тот миг, когда мы вошли в голую комнатушку, никто из нас не испытывал ни тени благодарности. И сам он не мог себе простить, что не смог устроить нас с бо́льшим комфортом и его любимая жена должна так страдать.
Взобравшись на пятый – верхний – этаж, я открыла дверь квартиры. Путь лежал через большую комнату, где обитало многолюдное семейство из Кракова, с которым мы за все эти месяцы так и не сумели подружиться. Люди они были очень религиозные. Женщины ходили в платках, мужчины носили бороды, и волосы на висках у них были такие длинные, что кудрями свисали почти до шеи. Пока женщины делали работу по дому, их мужчины целыми днями молились. Это мало соответствовало моим представлениям о счастливом браке.
Женщины, отбивавшие белье в здоровенных тазах, как всегда, смерили меня уничижительными взглядами. Молодая девушка, платка не носит, крутит шашни с парнем, да еще и контрабандой занимается – столько поводов меня презирать! Но их неприязнь меня давно не трогала, я не стремилась завоевать их симпатию.
Не обращать внимания. Не. Обращать. Внимания.
Я открыла дверь в нашу комнату. Мама опять задернула занавески – она не хотела впускать солнце во мрак своего бытия. Закрыв за собой дверь, я отдернула занавески и открыла окно, чтобы проветрить. Мама тихонько застонала, когда в комнату проник солнечный свет. Более решительный протест был ей не по силам. Она лежала на одном из матрасов, которые мы в первую зиму выменяли на ее любимую золотую цепочку – папин подарок на десятую годовщину свадьбы.
Длинные седые патлы падали на мамино лицо, глаза смотрели в пустоту. Трудно поверить, что эта женщина когда-то была красавицей, за которой одновременно ухаживали мой отец и генерал польской армии. Дело чуть не дошло до дуэли – мама вовремя вмешалась и спасла папу от меткого стрелка.
Она его любила. Любила беззаветно. Больше всего на свете. Даже больше, чем нас, детей. Его смерть ее уничтожила. А я усвоила, что слишком сильно кого-то любить – затея сомнительная.
Мой друг Даниэль, впрочем, придерживался прямо противоположной точки зрения: только любовь нас всех спасет. Он, наверное, последний и единственный романтик во всем гетто.
Сняв нарядное платье, я бережно повесила его на плечики, а плечики – на крючок на стене и облачилась в штопаную-перештопаную рубашку и вытянутые черные штаны. После чего принялась готовить омлет – Ханна должна была вернуться из подпольной школы с минуты на минуту. Вообще-то говоря, пора бы ей уже быть дома. Надеюсь, с ней ничего не случилось. За сестренку я постоянно волновалась.
Мама вообще говорила мало и поэтому лишних вопросов не задавала. Но мне хотелось, чтобы она не совсем отрывалась от внешней жизни, и я стала разыгрывать наш диалог.
– Как дела, Мира? – спросила я саму себя. И сама же ответила: – Сегодня удачный день, мама. Да ну, Мира, правда? – спросила я и тут же откликнулась: – Да, правда, хорошие деньги заработала и кучу еды принесла…
Тут я замешкалась: рассказывать про шмальцовников или нет? Мне не хотелось, чтобы мама переживала. Если, конечно, она вообще еще в состоянии за кого-то переживать.
Вместо этого я недолго думая ляпнула:
– А я с незнакомым парнем целовалась!
Она вдруг улыбнулась. Улыбалась мама так редко, что сердце у меня зашлось от счастья. Желая, чтобы эта улыбка не гасла как можно дольше, я затараторила:
– Все как-то само собой вышло! И с такой страстью… будто помрачение какое-то! Но по-своему это было прекрасно…
Боже мой, да ведь правда. Это было прекрасно. На миг меня охватило безумное желание поцеловать Стефана снова.
Мама улыбалась все шире. Как здорово! Когда я видела ее такой, меня охватывала дурацкая надежда, что она, возможно, когда-нибудь снова будет счастлива.
Тут в комнату влетела Ханна. Двигалась она порывисто, но очень легко. Вообще Ханна – существо эльфоподобное, даже в поношенных одежках и остриженная под мальчика. В прошлом месяце у нее завелись вши, и я ее обкорнала под ноль. Подступаясь к ней с ножницами, я, честно говоря, ожидала, что Ханна будет кричать и сопротивляться, – но она, как всегда, принялась фантазировать:
– Вот отрастила бы я волосы подлиннее и заплела бы двенадцать длинных кос. Шевелила бы ими, как руками, обвивала бы людей. И такие бы они были сильные, эти косы, что я подкидывала бы ими людей в воздух, и никто не смог бы меня победить.
– Раз такое дело, – засмеялась я, – почему соглашаешься их отрезать?
– Потому что эти косы привлекали бы ко мне лишнее внимание. Немцы стали бы меня бояться. И однажды пришли бы за мной. Я бы, конечно, пустила свои чудовищные косы в ход, как расшвыряла бы солдат через стены! Но ведь у них оружие. А от оружия даже такие косы не спасут. Немцы бы меня застрелили. И косы бы отрезали – как предостережение всем, кто превращает волосы в оружие. Так что лучше уж их сейчас отстричь, пока не набрали силу. А то немцы прознают и за мной придут.
Могуществу Ханна предпочитала невидимость. Невидимки в гетто выживают вернее, чем силачи.
Я поставила тарелку с омлетом на стол. Не сказав ни слова, даже не поздоровавшись, сестренка набросилась на еду. Мама с трудом поднялась с матраса, притулилась рядом со мной на последний свободный стул – все остальные мы зимой сожгли в печке, – и мы тоже принялись за трапезу. Медленнее, чем Ханна. Пусть ест, остановим ее, только если уж она совсем меру потеряет.
– Почему мама так улыбалась, когда я вошла? – спросила сестренка с набитым ртом. Наши манеры оставляли желать лучшего. Но у кого сейчас есть время и терпение учить детей этикету? И поскольку я не ответила, она повторила: – Почему?
При этом кусочек яйца чуть не вывалился у нее изо рта. Она вовремя поймала его своим ловким язычком.
– Мира целовалась с мальчиком, – отозвалась мама слабым голосом. – И этот мальчик не Даниэль.
Я хотела было пуститься в объяснения: мол, этот поцелуй решительно ничего не значит, ну спас мне жизнь и спас, ерунда, а вообще-то я люблю Даниэля и только его, и да, я, конечно, разволновалась, когда речь зашла об этом поцелуе, вон даже щеки горят, но это тоже не значит совершенно ничего… Но прежде, чем я успела сказать хоть слово, Ханна заявила:
– О, и я с мальчиком целовалась.
Тут уж я чуть омлетом не подавилась.
– Чего-чего? Когда ты успела?
– После школы.
Так вот почему она так поздно пришла.
– И с кем же?
– С Беном.
– Это который с тобой за одной партой сидит? – поинтересовалась я и невольно улыбнулась. Картинка вырисовывалась умилительная: двенадцатилетний мальчишка украдкой чмокает мою сестренку в щечку.
– Не-а, – ответила она.
Пока мы обсуждали поцелуи, мама снова унеслась от нас прочь, вернувшись в то время, когда отец был еще жив и она была с ним так счастлива.
– Этот мальчик что, младше тебя? – подколола я Ханну.
– Не-а, ему пятнадцать.
Я ушам своим не поверила.
– Он очень, очень милый, – заявила Ханна.
Парень почти моего возраста, который целуется с двенадцатилеткой, не может быть милым!
– И он очень здорово целуется с языком.
– Он очень здорово… что?
– Целуется с языком, – ответила Ханна, словно это самое нормальное дело.
Она и для этого еще слишком мала, не говоря уж о чем-то большем. Я привычно бросила взгляд на маму – пусть примет меры. Хоть какие. В конце концов, она Ханне мать, а не я! Но мама только поднялась из-за стола и снова улеглась на матрас.
– Ханна, – проговорила я, глядя, как сестра тут же цапнула мамину тарелку, – а тебе не кажется, что мальчик для тебя слишком взрослый?
– Не-а, – ответила она, жуя. – Разве что слишком застенчивый.
– Так это ты его поцеловала?! – в ужасе догадалась я.
– А что, принцессы так не делают?
– Вообще-то нет, – ответила я.
– А в моих историях очень даже. – Ханна широко ухмыльнулась.
Если нацисты не справятся, то эта девчонка меня точно в гроб загонит.
Как же уберечь ее, как убедить не заниматься всякими глупостями с парнем старше нее? Мне нужна помощь. Мне нужен человек, который лучше меня умеет общаться с детьми. Мне нужен Даниэль.
6
Из трех человек, которых в гетто знали все, самый уважаемый был широко известен и за стеной – и в Польше, и в мире. Януш Корчак, автор сказок о маленьком короле Матиуше, которые Ханна тоже очень любила, – кажется, именно они пробудили в свое время ее фантазию.
Этот худой пожилой человек с бородкой руководил сиротским приютом, который вдохновлял людей по всему земному шару. Дети в этом приюте имели равные права с воспитателями. Если кто-то из взрослых поступал нехорошо, дети могли устроить суд и назначить наказание. Даже самому Корчаку – мировой знаменитости.
В начале недели я сама стала свидетельницей такого процесса. Корчак сидел на стульчике перед тремя детьми, расположившимися за маленьким столиком, словно члены настоящего суда.
– Януш Корчак, – строго сказала девочка, которой было от силы лет десять – она тут была судьей, – вы обвиняетесь в том, что накричали на Митека только потому, что он бросил тарелку на пол. Митек так испугался вашего крика, что расплакался. Что вы скажете в свою защиту?
Старик сокрушенно улыбнулся и ответил:
– Я очень устал, забегался. И поэтому не владел собой. Я не должен был кричать на Митека. И приму любое наказание, которое назначит уважаемый суд.
Маленькая судья посовещалась с присяжными, двумя мальчиками еще младше нее, и объявила:
– Поскольку вы признаете свою вину, наказание будет легкое. Вы приговариваетесь неделю вытирать столы.
Я бы на его месте скрутила фигу, и все дела. Однако Корчак ответил в высшей степени почтительно:
– Будет исполнено.
Он воспринимал детей всерьез. Так он воспитывал в них достоинство. Достоинство, которого весь остальной мир изо всех старался их лишить.
Даниэль рано потерял родителей, они умерли от чахотки, а больше он ничего о них и не знал. Почти всю жизнь он провел при Корчаке. Сейчас он был одним из самых старших воспитанников приюта и нес много обязанностей по уходу за двумя сотнями детей. После того как приют перевели в гетто, Корчак велел заложить кирпичами окна, выходящие на улицу. Мол, не надо детям видеть ужасы, творящиеся снаружи. Поначалу мне это показалось дикостью, но Даниэль объяснил, что для душевного благополучия детей так действительно лучше. И со временем я убедилась, что он прав. Вступая в большой зал, как сейчас, я всегда поражалась здоровой цельности этого мирка: пусть кровати притиснуты одна к другой, но все аккуратно заправлены, а если, как сегодня вечером, застанешь детей за едой, все примерно сидят за большими столами. И никто не чавкает торопливо, как Ханна. «Манеры» для этих детей не пустой звук, а благодаря урокам, которые им давал сам Корчак, большинство из них даже в состоянии это слово написать.
Даниэль сидел за столом с дошколятами. С его внешностью в польской части города он не протянул бы и минуты. Буйная, кудрявая черная шевелюра, большой приметный нос и темные глаза, в которых можно утонуть.
Даниэль вовсю дурачился с детьми. Маленький мальчик в огромном свитере не по размеру держался за живот от смеха. За стуком посуды мне не было слышно, над чем малыши так ухохатываются. За соседним столом сидел Корчак. С каждым днем он выглядел все изможденнее, совсем иссох. Мне приходилось добывать еду всего для трех человек, а ему – для двух сотен. Даниэль рассказывал, что на минувшей неделе Корчак в очередной раз пытался выбить у юденрата дополнительное питание, но ничего не добился и впервые согласился принять пожертвование от контрабандистов. Прежде этот благороднейший человек никогда бы не стал иметь дело с проходимцами. Но чтобы обеспечить детей, он согласен был хоть с самим чертом поручкаться.
Увидев меня, Даниэль закричал:
– Дети, смотрите, кто пришел! Мира!
Я остановилась в дверях. Некоторые малыши помахали руками, но без особой радости. Девчушка лет семи в платье в красный горошек высунула язык. Я оставалась здесь чужой, хотя вот уже полгода захаживала регулярно. Неудивительно – ведь я никогда толком и не пыталась сблизиться с маленькими братишками и сестренками Даниэля. Мне и Ханны хватало.
Мне ужасно хотелось сходить куда-нибудь развеяться. Сегодня в театре «Фемина» (да, в гетто есть театр!) шла пьеса «Любовь ищет дом». Главные герои – две абсолютно разные, чуждые друг другу супружеские пары – вынуждены жить бок о бок в крошечной квартирке. Одни – музыканты, другие работают в руководстве юденрата. Поначалу они друг друга на дух не переносят, но потом супруги из разных пар наперекрест влюбляются друг в друга, и начинаются всяческие недоразумения. Пьеса комическая, трогательная, местами печальная – так, во всяком случае, рассказывала Руфь, которая смотрела ее со своим любовником, мафиози Шмулем Ашером. Но Даниэля в театр не вытащить. Денег у него нет, а чтобы я за него платила – на это он ни за что не согласится. Каждый злотый, не потраченный на приютских детей, с точки зрения Даниэля, профукан зря. Спорить с ним по этому поводу бессмысленно. Пару раз я пыталась, в итоге вечер был испорчен. В том, чтобы встречаться с хорошим парнем, есть свои недостатки.
Даниэль улыбнулся мне. Я знала, что придется подождать, пока все дети будут умыты и уложены. Свет тушат в восемь вечера, но Даниэль еще какое-то время сидит с малышами, говорит с теми, у кого не получается сразу заснуть.
Я могла бы помочь ему и другим старшим воспитанникам с укладыванием всей этой оравы, но после трудного дня у меня не было ни малейшего желания возиться с малышней. У меня нет и половины той самоотверженности, какой обладает Даниэль. И даже сотой доли той, что свойственна Корчаку, который утер какому-то крохе рот, а потом принялся драить столы, исполняя приговор детского суда. Будь во мне хоть капля самоотверженности, я бы взяла у усталого пожилого человека тряпку и сделала бы это за него.
Вместо этого я вышла из зала и отправилась туда, где мы с Даниэлем всегда прятались, когда хотели побыть наедине в нашей перенаселенной дыре, – на крышу приюта.
Там мы частенько проводили вечера, в любую погоду, даже при минусовой температуре. А куда еще податься? У Даниэля – только кровать в общей спальне. А у меня дома мама и Ханна.
Ханна… Как все-таки убедить ее не целоваться с великовозрастными кавалерами?
Забравшись на чердак, я открыла слуховое окошко и через него вылезла на покатую крышу, покрытую грязной коричневой черепицей. Соскользнув по ней вниз, я добралась до выступа примерно два на два метра. Это и был наш заветный пятачок.
Отсюда видны были крыши гетто до самой стены. Под стеной расхаживал туда-сюда охранник с винтовкой на плече. Может, это Франкенштейн? Будь у меня оружие, я бы его самого подстрелила отсюда, как воробья. Но для этого надо уметь с оружием обращаться. И быть в состоянии убить другого человека.
А я разве могу?..
Нет, столько ненависти во мне нет. Не понимаю, откуда она берется у Франкенштейна. И у других нацистов.
Да и потом, вооруженный еврей – это само по себе абсурд. Такого просто не бывает. Тем паче вооруженная еврейка. Это так же малореально, как немцы, распевающие «Шалом алейхем».
Потихоньку становилось прохладно, поэтому поверх рубашки я натянула прихваченную с собой коричневую кожаную куртку, которую любила больше всего на свете. Уселась на самый край крыши и, болтая ногами – упасть я не боялась, – вгляделась в даль, в польскую часть города. Там виднелись машины, трамвай и толпы прогуливающихся поляков. Мне даже почудилось, что сюда доносится смех беззаботных парочек, выходящих из кинотеатра. Как же я соскучилась по кино!
Иногда я больше всего злилась на нацистов за то, что они лишили нас кино. Театр – это, конечно, прекрасно, но разве он кино заменит?
Какие фильмы сейчас снимает Чаплин? Мне так нравились «Огни большого города»! Как бедный бродяжка хлопочет, чтобы вернуть зрение слепой цветочнице, а она не сразу и понимает, что этот человек в обносках и есть ее благодетель. И, только коснувшись его руки, она осознает, кто он такой… На этом фильме я смеялась и плакала, а когда зажегся свет, мне захотелось своими глазами увидеть огни большого города. Вот бы поехать в Нью-Йорк! Даниэль подхватил мою игру, и мы вместе фантазировали: вот переедем в Америку, поднимемся на крышу Эмпайр-стейт-билдинг и вживую посмотрим, на какую верхотуру вскарабкался Кинг-Конг, стискивая в лапище белую девушку. Конечно же, я отдавала себе отчет в том, что Даниэль никогда не покинет своего «отца» Корчака и детей. Каких бы Америк он мне ни наобещал. Корчак в любых обстоятельствах оставался при своих малышах. Богатые евреи из-за границы собрали деньги, чтобы вывести его из гетто, но он отказался уходить. Приютские дети были ему все равно что родные. А кто бросит родных детей?..
Ну, например, мой отец.
Прошлым летом он выбросился из окна. Врачом он больше работать не мог – не выдержал чудовищных условий в здешней больнице. Нервы его были истрепаны до предела. Все наши сбережения кончились, последние деньги ушли на взятку, чтобы Симона взяли в еврейскую полицию.
И когда он понял, что сын плевать хотел на семью и в особенности – на ослабевшего отца, который все для него сделал, – папина душа этого не вынесла.
В день его самоубийства я была в школе, а мама работала на одной из немецких фабрик. Я пришла домой первой и нашла его во дворе. Он лежал в луже собственной крови. Череп от удара раскололся. Словно в трансе, я привела помощь – надо было убрать тело прежде, чем его увидит Ханна. Когда могильщики унесли труп, я стала дожидаться мамы. Узнав о папиной смерти, она разразилась рыданиями, а у меня глаза были сухие. Я не могла ее утешить. Я вообще ничего толком не могла.
Разве что прижать к себе Ханну, когда та пришла домой. Сестренка плакала, плакала и так и заснула в моих объятиях. Я переложила ее на матрас и, оставив маму один на один с ее болью, ушла из дома. Я считала необходимым сообщить Симону, что отца больше нет в живых. И через царящий в гетто бедлам направилась к зданию еврейской полиции. Но на полпути передумала. Мне не хотелось в это кошмарное место, к этим отвратительным людям, среди которых Симон теперь делает карьеру.
Вообще ничего больше не хотелось.
Я опустилась на бордюр. Люди шли мимо, не обращая на меня ни малейшего внимания. Все. Кроме Даниэля. Я не знала, как долго сидела и пялилась в пространство – сколько минут? часов? – пока он не опустился рядом. Сам сирота, он почувствовал, что другой человек в беде.
До этого момента я не проронила ни слезинки – и только тут ощутила, что я наконец-то не одна, что больше не нужно быть сильной. Слезы медленно поползли по щекам. Даниэль обнял меня, не говоря ни слова, и стал губами собирать слезы с моих щек.
Солнце садилось, и над Варшавой алело небо замечательной красоты. Может, и Стефан там, за стеной, тоже любуется закатом?
Черт, да почему ж он мне опять в голову лезет? Вот-вот придет Даниэль, а я думаю о парне, о котором ничегошеньки не знаю: ни имени, ни кто он вообще такой. Как же рассказать о нем Даниэлю? Главное – не залиться краской, как дома, когда мы говорили про поцелуй.
Если я расскажу ему все, как было, Даниэль, конечно, порадуется, что я уцелела. Потом начнутся увещевания: мол, пора завязывать с контрабандой, – а я буду возражать, что это невозможно, и изрядная часть того небольшого отрезка времени, который мы можем провести друг с другом, уйдет на ссору.
Оно того не стоит.
Лучше я вообще не буду ему рассказывать, что ходила сегодня за стену. Но тогда, учитывая все обстоятельства, получится, что я солгу – впервые солгу ему. А все из-за какого-то дурацкого поцелуя!
– Что это мы сегодня такие задумчивые?
Я вздрогнула от испуга. Надо же, не услышала, как Даниэль вылез из слухового окошка. Он соскользнул по черепице вниз, ко мне. Я поднялась на ноги. Решено: я должна рассказать ему о Стефане.
– Что-то случилось? – спросил Даниэль и обнял меня.
Давай, Мира, выкладывай!
– Да нет, все хорошо.
Ну молодец, Мира.
– Точно? – осведомился Даниэль. Вообще-то подозрительностью он не страдает – просто благодаря природной чуткости сразу замечает, когда что-то неладно.
– Ханна целовалась с парнем старше нее! – выпалила я.
Он рассмеялся.
– Считаешь, это смешно? – Похоже, мою заботу о невинности сестры он не воспринимает всерьез.
– Да ты не переживай, – с улыбкой ответил Даниэль, – в приюте такое каждый день происходит. Это ничего не значит.
Он говорил со мной увещевающе, как с одним из множества детей, о которых заботился изо дня в день.
Этот тон всегда меня раздражал.
– Кроме того, – добавил он, – девочки созревают раньше мальчиков.
Если не считать здесь присутствующих, подумала я.
Моя подруга Руфь лишилась невинности в тринадцать лет, но я до сих пор на это не решилась. Девственник ли Даниэль, я понятия не имела. Никогда не спрашивала, были ли у него подружки до меня, – а то потом изведусь от ревности. Мелкая эгоистка во мне хотела, чтобы я стала для него первой.
Медленно сгущались сумерки. В небе повис тоненький месяц – новолуние было три дня назад, – и по всему городу зажглись фонари. Даже в гетто, хотя тут их раз-два и обчелся.
Даниэль поцеловал меня в щеку.
Обычно это прелюдия к настоящему поцелую. Дальше отступать некуда, надо рассказать ему о Стефане!
Даниэль ласково тронул губами мои губы. Очень нежно. Не так бурно, как Стефан. И именно потому, что мысли мои в этот миг были о другом, я не смогла как следует откликнуться на его поцелуй.
Даниэль воззрился на меня своими чудесными глазами и сочувственно спросил:
– Ханна – это единственное, что тебя мучает?
После слегка подпорченного поцелуя я уже не могла так просто сказать ему правду. А вдруг он спросит, как мне тот, утренний поцелуй, – что я отвечу? Неужели скажу: «Да как-то более страстно вышло, чем у нас с тобой»?
Вот если бы я могла искренне заверить Даниэля: «Ты целуешься во всех отношениях лучше этого блондинчика!» – то выложила бы все начистоту…
Я пристроила ладони на щеки Даниэля, притянула его к себе и впилась в его губы так страстно, так неистово, как никогда раньше. Даже со Стефаном я так не целовалась. Вышло, конечно, нелепо. Даниэля моя оголтелая пылкость только ошарашила. Он растерялся, и поцелуй снова распался. Он неловко хихикнул:
– Вот так сюрприз!
– В плохом смысле? – поинтересовалась я.
– Сюрприз – это всегда хорошо, – усмехнулся он. – Я тоже удивить могу!
Он обнял меня и снова стал целовать. Его кудри защекотали мне нос. Я нервно зачесалась, и моя рука оказалась между нашими лицами. Даниэль снова отстранился.
Так у нас ничего не выйдет. Надо просто взять и рассказать ему о Стефане.
– Я тут с одним… – начала я.
В этот миг раздалось фырчание машины.
Мы сразу замолкли. Евреям на машинах ездить не разрешено. Значит, это немцы.
Мы посмотрели вниз, на улицу Сенную. Машина остановилась перед домом наискосок от нас.
Люди в ближайших домах среагировали мгновенно, повыключали свет. Только бы не привлечь к себе внимание, не дать немцам повода вломиться к тебе в квартиру.
Мы с Даниэлем легли на живот – на случай, если немцы посмотрят наверх. Я стиснула его руку. В отличие от моей, его ладонь была не мокрая, а сухая и прохладная. Он гораздо лучше владел собой.
Шофер остался сидеть за рулем, а из машины выгрузились четверо: эсэсовский офицер, двое солдат и служащий еврейской полиции. На последнем была синяя куртка, на животе перетянутая черным ремнем. А могла бы быть коричневая с коричневым ремнем. Или черная с белым. Единой формы для еврейской полиции не существовало, нацисты не предоставляли своим холуям одежды, те должны были все добывать самостоятельно, в том числе и обязательную форменную фуражку со звездой Давида. Вдобавок к звезде на наручной повязке полицейские носили еще одну, словно они евреи в два раза лучше, чем все остальные. Или в два раза ничтожнее.
Полицейский направился к подъезду дома номер четыре, в руке – дубинка. Немцы, разумеется, не давали своим пособникам-унтерменшам пистолетов и прочего оружия – тем свирепее предатели лупили своих же ближних дубинками, претворяя в жизнь волю оккупантов.
Я силилась разглядеть: а вдруг этот полицейский – мой брат? Но я была слишком далеко, а фонари светили слишком тускло. Во всяком случае, фигура у человека внизу была похожая. Мне очень хотелось верить, что это все-таки не Симон. Одно дело – знать, что твой братец – сволочь, и совсем другое – своими глазами наблюдать, как он, угождая немцам, волочет в застенки людей.
Прибывшие вошли в дом, и Даниэль шепнул:
– Это не твой брат.
Мои страхи не были для него тайной.
Мы не сводили глаз с дома номер четыре. Как, должно быть, жутко сейчас людям, которые в нем живут. Солдаты топают по лестнице, и жители могут только надеяться, что распахнется дверь не в их квартиру, а в соседскую. По чью-то душу они пришли?..
В квартире на четвертом этаже зажегся свет, и через окно мы увидели, как солдаты вышибли дверь. Маленький мальчик спрятался за мать, а эсэсовец направил пистолет в лицо мужчине лет пятидесяти, стоявшему посреди комнаты в одной майке. Полицейский-еврей схватил мужчину и при этом не упустил случая наподдать ему дубинкой.
Каким бы ужасным ни было это зрелище, где-то в глубине души я испытала облегчение: теперь, в освещенной комнате, я ясно видела, что этот полицейский не мой брат. Арестованного в одной майке вывели из квартиры. Босиком. Женщина что-то спросила у эсэсовца, он, помедлив, кивнул, и она, прихватив ребенка, последовала за мужем. Я не сразу сообразила, зачем она это делает, – немцы ведь пришли только за ним!
– Она хочет проводить мужа до тюрьмы Павяк, – шепнул мне Даниэль. – Посмотреть, что с ним будет.
– А кто он такой? – тихо спросила я. В опустевшей квартире так и горел свет.
– Моше Гольдберг, председатель профсоюза парикмахеров. А главное – один из руководителей Бунда.
Бунд – это запрещенная организация евреев-социалистов. Они устраивали суповые кухни, подпольные школы и писали листовки против нацистов. Папа социалистов не жаловал и запретил нам вступать с ними в какой-либо контакт. Поэтому я мало что знала о Бунде, не говоря уж о том, кто у них руководители.
Гольдберга вытолкали на улицу. Он остановился прямо под фонарем. Держался он мужественно: не хотел выказать страха перед маленьким сыном, которого мать несла на руках.
Сейчас солдаты запихают его в машину, откуда скучающий шофер щелчком выкинул сигарету. Жена и сын Гольдберга там вряд ли поместятся – только если мать возьмет мальчика на колени.
Эсэсовец остановился перед арестованным и что-то ему приказал. На лице Гольдберга мелькнул ужас.
Даниэль сглотнул – в отличие от меня он, похоже, понял, о чем речь:
– О боже!
Даниэль, несмотря ни на что, в Бога верил.
Многие его качества вызывали у меня зависть: и его самоотверженность, и его порядочность, – но тому, что он как-то еще умудрялся верить в Бога, я завидовала больше всего. Как это, должно быть, прекрасно – когда можешь найти утешение у высшего существа…
Я могла искать утешения только у Даниэля. В него я верила. Я крепко сжала его руку. Теперь и у него ладонь стала влажная.
Эсэсовец указал пистолетом не на машину, а в конец улицы. Гольдберг не шелохнулся. Эсэсовец угрожающе взмахнул оружием.
И Гольдберг побежал. Побежал со всех ног.
Даниэль прошипел:
– Мира, закрой глаза!
Но я все еще не могла взять в толк, что к чему, и не сводила глаз с улицы. Солдаты взяли бегущего Гольдберга на прицел. Он стремился добраться до угла, до поворота на Сосновую, надеялся уйти с линии огня. Еще несколько шагов – и вот он, поворот. Но тут немцы дали залп. Пули прошили спину Гольдберга, он рухнул на тротуар. В темноте не видно было, как его кровь струится по мостовой.
Я прикусила язык, чтобы не закричать, и так стиснула руку Даниэля, что у него захрустели пальцы.
Жена Гольдберга закричала. Ребенок заплакал. Эсэсовец вскинул пистолет и выпустил им обоим по пуле в голову.
Я еще крепче закусила язык и ощутила привкус крови. Беззвучные рыдания сотрясали мое тело. Даниэль обнял меня, прижал к себе, словно желая защитить, сказать, что все это – страшный сон. Если бы!
Издалека донеслись другие выстрелы. Нет, все это отнюдь не страшный сон. Эсэсовец, с которым говорил Юрек, сказал правду: нашей «мирной» жизни пришел конец.
7
– Сосиска! Сосиска с горчицей! – кричал уличный торговец с грязной бородой. От одного взгляда на эту сосиску у меня слюнки потекли, хотя сосиска была маленькая и сморщенная и горчицу продавец намазывал не ножом, а прямо пальцами.
Вместе с Даниэлем я бродила по летней жаре от тележки к тележке, где за небольшую денежку можно было купить фасоль, суп, драники или вот грязными пальцами намазанную сосиску. Желудок у меня неумолимо урчал. Но сейчас я не могла позволить себе даже самой жалкой сосиски. После «Кровавой ночи», как ее окрестили в гетто, прошло девять недель, и все это время я не смела соваться на польскую сторону: эсэсовцы не только открыли охоту на подпольных активистов, но и всерьез взялись за контрабандистов. Чтобы подчеркнуть, что спуску теперь не будет никому, немцы каждое утро проезжали через гетто на грузовике, из которого вышвыривали на мостовую трупы людей, которых накануне поймали по ту сторону стены, и оставляли лежать в устрашение другим.
На кладбище теперь без пропуска не попасть, а поскольку на фальшивое удостоверение у меня денег нет, я даже войти туда не могла, не говоря уж о том, чтобы через лаз в стене пробраться на польскую сторону. А перелезать через стену где-нибудь еще – по нынешним временам верное самоубийство. Стоило только приблизиться к стене, как немцы открывали огонь. Иногда эсэсовцы выжидали в засаде и, подгадав момент, косили людей пулеметным огнем. Поговаривали, что один только Франкенштейн убил уже более трехсот человек. Наверняка эта цифра преувеличена, как и многие другие слухи в гетто, но пусть даже на его совести «всего-то» человек семьдесят или восемьдесят… Если немецкий монстр в одиночку прикончил столько контрабандистов – или людей, которых контрабандистами счел, – то сколько же народу уничтожили все охранники вместе взятые? Двести? Триста? А может, целую тысячу?
Все это как-то не внушало желания лезть на рожон.
И все-таки…
…в животе-то у меня урчало. И у моих родных тоже.
– Надо попытаться… – сказала я Даниэлю, но в моем голосе решимости было больше, чем в душе.
Мой друг, разумеется, тут же понял, о каком таком «попытаться» я говорю. Мы уже не раз это обсуждали, других-то тем почти не осталось, и мы спорили до изнеможения. Так что теперь он не стал повторять один из бесчисленных аргументов против, которые приводил уже сотни раз. Никаких увещаний в духе: «Теперь евреев-полицейских за взятки расстреливают» или «На той неделе они двух беременных убили». Даниэль просто посмотрел на меня и с нажимом произнес:
– Не делай этого.
– Тебе хорошо говорить! – раздраженно отозвалась я. – О тебе заботится Корчак, вы еду исправно получаете!
– Не так уж и много, – спокойно ответил он.
Рядом со мной мужчина в сером костюме с наслаждением впился зубами в сосиску с горчицей. От этого зрелища я еще больше захотела есть и еще больше разозлилась, поэтому рявкнула:
– Так или иначе, без еды вы не сидите!
В следующую же секунду мне стало стыдно за свои слова, ведь я знала, что в приюте тоже порции маленькие и досыта не ест никто.
Ссориться на голодный желудок среди запахов еды – идея пропащая. Я взяла себя в руки и произнесла уже чуть спокойнее:
– У меня родные на самом дешевом хлебе сидят. – Я указала на только что купленную серую краюху. – Сплошь известь и опилки, настоящей муки-то почти нет.
– Если тебя застрелят, у них и этого не будет, – совершенно спокойно возразил Даниэль. К витающим вокруг ароматам еды он был невосприимчив. Будучи сиротой, он с малолетства привык к лишениям и поэтому переносил голод легче, чем я, избалованная докторская дочка. Ну почему у меня не получается быть такой же сильной и невозмутимой, как он? Конечно, он прав: если я умру, Ханне и маме придется еще тяжелее. Однако, если я ничего не предприму, мои родные будут медленно, но верно погибать от голода. Когда у меня кончатся деньги, то есть самое позднее на следующей неделе, нам и хлеб с опилками купить будет не на что. И что мне делать? Ну вот что?
– И вообще, – нахально ухмыльнулся Даниэль, – я тебя убью, если ты дашь им себя прикончить.
Я не могла не рассмеяться:
– Какой очаровательный способ признаться в любви!
– Ну хоть есть в чем признаваться, – вырвалось у него. И он сразу постарался прикрыть милой улыбкой упрек, крывшийся в его словах. Действительно, я ни разу еще не выговорила такую короткую, но так много значащую фразу: «Я тебя люблю». Насмотревшись на мать, я знала всю разрушительную силу любви.
Все эти месяцы, что мы встречались, Даниэль терпеливо ждал моего признания. И, похоже, его это гложет.
Получается какая-то подлость с моей стороны. Ну что мне стоит сказать: «Я тебя люблю»? Всего-то три слова. А ведь Даниэль – моя главная опора в жизни. Без него я бы уже давно с катушек слетела.
И я решилась: скажу! Сейчас же. Сию же секунду. Я набрала в грудь воздуха, словно приготовилась нырнуть на глубину, и выдохнула:
– Знаешь, я…
И все. Тупая овца, я не могла заставить себя произнести заветную фразу.
– Ты?.. – помог Даниэль.
– Я… – Я силилась подобрать слова. Почему, черт возьми, это так трудно? – Я…
– Воровка! Воровка! – раздался вдруг женский крик.
Мимо пронеслась отощавшая девчушка лет семи-восьми, не старше. На ней была кепка не по размеру, когда-то белая, но жутко замызганная мужская рубашка и ни намека на штаны. Да что там, на ней даже трусов не было – это было хорошо видно, потому что полы рубашки во время бега развевались, обнажая голую попу. Маленькими, почти черными от грязи ручонками она сжимала мятую жестяную миску с фасолевой похлебкой и торопливо проталкивалась сквозь толпу. За девчушкой по пятам бежала старуха в драной юбке и платке. Я заметила, что на правой руке у старухи недостает двух пальцев, – но все-таки пальцев у нее было больше, чем зубов.
Девчушка оглянулась на старуху и запнулась о ногу прохожего, который разразился громкими проклятиями: мол, смотри под ноги, дрянь малолетняя, вздернуть бы тебя на фонаре, да веревки жалко! Тут-то старуха ее и нагнала. Маленькое изголодавшееся существо в панике сделало еще пару шагов, но старуха вцепилась в полу рубашки, девчушка споткнулась, потеряла равновесие и вместе с миской шлепнулась наземь. Похлебка выплеснулась на мостовую.
– О нет! – в ужасе завопила старуха.
А девчушка, ни секунды не колеблясь, бросилась на землю и принялась слизывать похлебку с грязной дороги. Точь-в-точь уличная кошка.
Старуха принялась осыпать ее ударами:
– Воровка, воровка, воровка, подлая воровка…
Но девчушка, похоже, колотушек вообще не чувствовала – она стремительно пожирала похлебку.
Силы покинули старуху, она опустила кулаки и стала тихо всхлипывать:
– Это были мои последние деньги… последние деньги…
Я смотрела на маленькую воровку, которая набивала желудок, не гнушаясь ничем, и задавалась вопросом, что я буду делать, когда последние деньги иссякнут и я буду так же голодна, как эти девчушка и старуха. Тоже начну красть? Драться? Есть с грязной мостовой?
Даниэль обнял меня и проговорил мягко:
– До такого отчаяния ты не дойдешь.
Ни один из моих страхов не был для него тайной.
– Не дойду… – отозвалась я и вдруг сама в это поверила. Глядя на лакающую по-собачьи девочку, я окончательно решила: сидеть сложа руки больше нельзя.
Я снова займусь контрабандой. Но не так, как раньше. Надо действовать хитрее. А главное – не в одиночку.
Но Даниэлю об этом знать не стоит. Зачем ему лишние переживания. К тому же у меня нет ни малейшего желания опять с ним ссориться.
– Знаю я это выражение, – сказал Даниэль.
– Что?
– По твоему лицу сразу видно: замыслила что-то безрассудное.
– Ничего я не замыслила!
– Клянешься?
– Клянусь.
Даниэль мне ни на грош не поверил.
– Когда мне в чем-то клянутся дети из приюта, – улыбнулся он, – я всегда смотрю, не скрещивают ли они тайком пальцы.
– Я не ребенок.
– Местами еще какой!
Бывали минуты, когда я ненавидела эту его манеру – держаться так, будто он старше меня, и не на каких-то там семь месяцев.
– Еще раз назовешь меня ребенком – развернусь и уйду домой.
– Хорошо-хорошо, – спасовал он, явно не желая обострять ситуацию. – Стало быть, обещаешь?
И при этом испытующе посмотрел на меня.
– Обещаю, – твердо ответила я. И даже выдавила мимолетную, более или менее невинную улыбку, чтобы придать своим словам убедительности.
Даниэль поколебался, а потом кивнул, словно решился мне поверить. Иногда именно он из нас двоих проявляет прямо-таки детскую наивность. Впрочем, в этом есть что-то умилительное.
– Мне пора назад в приют, обед готовить, – сказал он, но ему явно не хотелось от меня отрываться. Я нежно поцеловала его в губы, чтобы подсластить расставание. Он улыбнулся, тоже поцеловал меня на прощание и ушел успокоенный, в твердой уверенности, что я сейчас вернусь к родным на улице Милой. А я направилась к Руфи. В отель «Британия», пользующийся в гетто дурной славой.
8
Светящаяся вывеска с названием заведения даже среди бела дня горела алым. Буква О в «Отеле» мигала, а под ней стоял амбалистый швейцар. Несмотря на летнюю погоду, он был в длинном плаще – видно, воображал себя большим гангстером. Хотя на самом деле он обычный головорез, который шестерит при настоящих боссах гетто – при тех, с кем Руфь кувыркается каждую ночь.
Швейцар следил за тем, чтобы абы кто в бар, при котором находился бордель, не попадал. Он пропускал только людей при деньгах, готовых тратиться на выпивку и секс. Но я надеялась, что для человека, который водит дружбу с одной из работниц их лавочки, все-таки сделают исключение.
Я направилась прямиком к нему и сказала:
– Добрый день, я подруга Руфи.
Швейцар сделал вид, будто в упор меня не видит.
Не на такую реакцию я рассчитывала.
– Я хотела бы к ней пройти, – не отступала я.
– А я хотел бы уметь летать.
Вышибала-комедиант. Редкое сочетание. И не очень-то приятное.
– Руфь меня ждет, – соврала я.
Но тот опять сделал вид, будто я пустое место, и устремил взгляд мимо меня на двух эсэсовцев, которые шагали по противоположной стороне улицы с винтовками на плечах и лакомились мороженым. У меня перехватило дыхание. Хотя немцы, поглощенные своим мороженым, не обращали на нас никакого внимания, мне стало страшно. Я не Рубинштейн, который мог смеяться им в лицо. Да и никто не Рубинштейн. Кроме самого Рубинштейна.
Швейцар кивнул солдатам. Те со скучающим видом кивнули в ответ. Этот обмен приветствиями меня не удивил. Немцы получали свою долю от доходов еврейских мафиози, да и, конечно, солдаты наведывались в бордель. Раса господ расой господ, а удовлетворить свои потребности с еврейкой они не прочь. Неужели Руфь тоже с немцами в постель ложится…
Даже думать тошно.
Как бы швейцар ни старался напустить на себя небрежный вид, в его глазах читался страх. После Кровавой ночи эсэсовские патрули стали отстреливать евреев вообще без повода – просто для забавы. Даже бандитов не щадили. И детей. Только вчера перед больницей Берсонов и Бауманов эсэсовец убил троих детей. Об этом мне рассказала одна из краковчанок – да, времена настали такие смутные, что наши религиозные соседки уже не знали, куда деваться от страха, и не брезговали отвести душу даже с такой «профурсеткой», как я. Дети просто сидели перед больницей, и эсэсовец открыл по ним огонь безо всякой причины. После этого рассказа мне остро захотелось навсегда запереть Ханну в нашей дыре на улице Милой.[1]
От меня не укрылось, что, когда солдаты прошли мимо, швейцар тихонько перевел дух. И тут я поняла: его страх – это мой шанс. Я сделала шаг вперед, встала перед ним – моя макушка едва доставала ему до подбородка, – уставилась на него и ухмыльнулась:
– Ты ведь знаешь, как Рубинштейн добывает себе еду?
Этот вопрос явно привел швейцара в замешательство. Настолько, что он напрочь позабыл, что я пустое место, и буркнул:
– Знаю, конечно, ну и что?
– А вот я сейчас как крикну, – я заухмылялась еще шире, – что Гитлера надо пристрелить!
– Ты… ты этого не сделаешь. – В его глазах снова появился страх.
– А я у Рубинштейна училась, – засмеялась я и сделала пару подпрыжек по тротуару на манер нашего местного клоуна.
Швейцар явно не знал, как ему на все это реагировать.
А я снова подскочила к нему и с хохотом выкрикнула:
– Все равны!
Не то чтобы я очень убедительно изображала сумасшедшую, но этого и не требовалось. Моего спектакля вполне хватило, чтобы вышибала растерялся и решил, что со мной лучше не связываться.
– Так что, – неуверенно проговорил он, – Руфь правда твоя подружка?
– Я же сказала, значит, правда.
– Ну никому ведь не повредит, если ты зайдешь к подружке…
– Никому, – улыбнулась я.
Миновала швейцара, поднялась по двум ступенькам и вошла в отель «Британия».
9
Гардероб у входа пустовал. Я прошла мимо и, отодвинув тяжелую занавеску красного бархата, оказалась в баре. В зале царил полумрак: дневной свет тут явно не жаловали. В воздухе висел сигаретный дым, и, надо сказать, для заведения, где посетители сорят деньгами, обстановочка была весьма обшарпанная. Одна из трех люстр под потолком висела наперекосяк, древесина на барной стойке растрескалась, а скатерти были такие замызганные, что невольно закрадывались сомнения: их хоть раз с начала войны меняли? Но мужчины, которые в этот послеобеденный час уже вовсю глушили водку, приходили сюда не ради изысканно накрытых столов, а ради молодых женщин, которые составляли им компанию и за столом, и в постели. Какие же они все были красотки! Ни одна не отощала от голода, как я, у каждой все женские округлости на месте. Разумеется, все накрашены, и большинство, конечно, слишком ярко. Но вот у рыжей девицы, сидевшей за столиком неподалеку от входа, и алая помада подобрана с большим вкусом, и румяна без перебора. Я бы позавидовала ее косметике – мне о такой роскоши и мечтать не приходилось, – если бы ее тело было прикрыто чем-то еще, кроме неглиже и черных трусиков. И если бы ее не лапал мясистой ручищей толстый мужик, мявший ее грудь, словно тесто.
Атмосфера этого заведения должна была бы меня смутить, но у меня, наоборот, сердце забилось чаще. А все благодаря певице в красном вечернем платье, которой со скучающим видом аккомпанировал пианист. Она прокуренным голосом пела:
Night and day, you are the one, only you beneath the moon or under the sun…[2]
Американская музыка!
Она всюду запрещена. А здесь ее исполняют. И она унесла меня прочь из отеля «Британия», прочь из гетто и из Польши. Прочь от войны, голода и горя. Через Атлантику, прямиком в Нью-Йорк.
И вот я в своих фантазиях уже кружу с Даниэлем по Бродвею в изящном танце, а вокруг танцуют американцы, как Фред Астер и Джинджер Роджерс в музыкальных фильмах. Ну и что, что я вообще не умею танцевать, никогда этому не училась и в реальной жизни наверняка запутаюсь в ногах на самых простых па, – грезить наяву это ничуть не мешало. Я представляла себя в белом платье, а Даниэля – в цилиндре, в черном фраке, с черной бабочкой – и, конечно, с белым шелковым платком на шее, куда же без него! Но тут мне вспомнился наш спор: вряд ли Даниэль захотел бы со мной танцевать, на Бродвее или где бы то ни было, если бы знал, что я сейчас нахожусь в отеле «Британия». И кавалер из моих грез вмиг превратился в Стефана.
Think of you day and night, night and day…[3]
И вот я уже плыву в танце со Стефаном, хотя за минувшие недели ни разу его не видела и все время давала себе слово, что перестану о нем думать, – но каждый день все равно думала и из-за этого постоянно испытывала перед Даниэлем чувство вины.
Я попыталась превратить танцующего Стефана обратно в Даниэля. Не тут-то было.
Till you let me spend my life making love to you, day and night, night and day…[4]
Певица замолчала, пианист добренчал последние аккорды, но мой сон наяву не рассеялся: я так и лежала в объятиях Стефана.
Неимоверным усилием воли я высвободилась из его рук и бросилась к Даниэлю, который стоял в своей обычной одежде перед бродвейским кинотеатром, где шли «Огни большого города». И повисла у него на шее. Как я виновата перед ним! А ведь он – моя опора, моя жизнь, моя любовь. И я сказала ему – в какой-то степени от стыда, но в общем-то от всего сердца – фразу, которую в реальной жизни до сих пор не могла произнести: «Я тебя люблю».
– В каких облаках витаешь, Мира? – раздался рядом смех. Пианист заиграл I get a kick out of you[5], а певица отошла к барной стойке смочить горло водкой и зажгла сигариллу – неудивительно, что голос у нее такой прокуренный.
Рядом со мной стояла Руфь. На ней было розовое неглиже и черные чулки в сеточку с черными подвязками; накрашена она была так сильно, что выглядела гораздо старше своих шестнадцати. Впрочем, кто в гетто смотрелся моложе своих лет?
– И куда больше меня волнует вопрос, – Руфь снова захохотала, по-моему, чересчур громко, – на кой черт ты вообще сюда приперлась?
Не успела я собраться с мыслями, как она кивнула официанту, насвистывавшему мелодию I get a kick out of you. Он тут же, не задавая вопросов, плеснул Руфи шампанского. А может, это просто какое-то дешевое игристое? Я в напитках не очень разбираюсь. Кроме красного вина на Песах, я и алкоголя-то никогда не пила. Впрочем, что бы там ей ни налили, судя по запаху изо рта, это уже не первый ее бокал за сегодня. И не второй, и даже не третий. Потому, наверное, она и хохочет так истерически.
– Мира, уж не хочешь ли ты у нас порабо…
– Нет! Нет! – перебила я, прежде чем она успела эту крамолу договорить.
– Ну и слава богу, – откликнулась Руфь. – Уж больно ты страшненькая!
– Как мило, – пробормотала я.
– Зато честно! – не осталась в долгу она.
Вообще-то она, конечно, права: до здешних женщин, чью красоту не портят даже вульгарные наряды, мне далеко.
– Тогда чего ты тут забыла? – поинтересовалась Руфь, отхлебнув из бокала.
– Пришла проситься в контрабандисты.
Руфь поперхнулась шампанским.
Пока она откашливалась, я продолжила:
– Можешь свести меня с кем-нибудь, кто по этой части?
Она замешкалась.
– Ну пожалуйста!
Похоже, Руфь не в восторге от моей идеи. И наверное, она права.
– Ради нашей дружбы! – настаивала я.
Я осталась единственным человеком из ее прежней жизни, который с ней еще разговаривал, и она не хотела меня потерять. Так что ответила:
– Только ради нашей дружбы.
10
Шмуль Ашер носил усы, такие густые, что хоть в прятки там играй. Лицо исполосовано шрамами. И сам такой здоровяк, что сразу ясно: тем, кто его этими шрамами разукрасил, пришлось гораздо круче. Может, их и в живых-то уже нет.
Ашер возглавлял банду воров и контрабандистов под названием «Чомпе» и выделял Руфь из всех бордельных тружениц. Однажды она с гордостью заявила, что он ее по-настоящему любит. Мне тогда стало как-то не по себе. Во-первых, нельзя же быть такой легковерной. А во-вторых, уж больно Ашера и многих других здешних завсегдатаев тянет на малолеток.
Я, впрочем, не ашеровский типаж, слишком костлявая. Мы сели за столик в углу бара, Ашер – спиной к стене, как десперадос в вестернах, которые опасаются, что им в любую секунду могут пальнуть в спину.
Певица выпивала у барной стойки, пианист тихонько наигрывал какую-то мелодийку, а Руфь ерзала на коленях у Ашера, терлась своей щекой о его. Едва обращая внимание на ее ласки, бугай спросил:
– Ну и на что ты мне сдалась?
– У меня есть опыт контрабанды, – ответила я – к сожалению, далеко не так уверенно, как хотела.
– Что еще за опыт? – осведомился он.
Руфь бросила на меня испуганный взгляд. Если я сейчас расскажу Ашеру о кладбище, он поймет, что она выдала мне один из контрабандистских маршрутов. А это ей просто так с рук не сойдет.
Ее страх передался мне. Я положила руку на скатерть, пробежала пальцами по прожженным дыркам, по несметенным крошкам – и немного успокоилась.
– Я лазила через стену, – соврала я, хотя на самом деле ни единого разу через стену не лазила.
На лице Руфи отразилось облегчение: я ее не выдала.
Ашер ее реакции не заметил, как и того, что Руфь еще интенсивнее принялась с ним нежничать; он не сводил взгляда с меня.
– И где ты перелезала?
– Чаще всего на Ставки, иногда на Покорной, – продолжала врать я.
– Есть места побезопаснее, – отозвался он.
– Безопасных мест вообще больше нет, – возразила я.
– Есть, – отрезал Ашер. – Безопасно там, где охрана подмазана.
– И именно потому, что у вас такая возможность есть, а одна я уже не справлюсь, я хочу к вам, – сказала я чистую правду.
– А ты дерзкая девчонка: вот так вот заявиться сюда и потребовать место в моей банде!
Ни по голосу, ни по лицу я не могла понять, по душе ему эта дерзость, или он считает мое поведение оскорбительным.
– Может, нам и понадобится свежая кровь. В последние недели я пару человек потерял.
Его «пара человек» – это на самом деле наверняка «куча народу». С одной стороны, тем выше мои шансы попасть к контрабандистам. С другой – как тут не проникнуться опаской, да что там – страхом. Даже членам знаменитой банды «Чомпе», выходит, далеко не всегда удается уцелеть.
– Но все-таки, – продолжил Шмуль. Официант поставил перед ним чашку черного, как смола, кофе. – Почему я должен взять в банду именно тебя?
– Потому что я отлично справлюсь с делом, – ответила я.
– Так многие о себе мнят. Еще причины есть?
Я судорожно соображала, но в голову ничего не шло. Что такого грандиозного я могу предложить главарю целой банды?
– Потому что, – вмешалась Руфь, поглаживая щеку Ашера, – я с тобой за это буду особенно нежна!
– И так будешь, куда ты денешься, – последовал ответ.
– Но когда все по любви, тебе же приятнее…
Это убедило Ашера, который – видимо, как и Руфь, – под «любовью» понимал совсем не то, что я. Он широко улыбнулся своей подружке, отхлебнул кофе и сказал:
– Добро пожаловать в банду «Чомпе».
– Спасибо, – ответила я. При этом быстро посмотрела на него, а потом сразу перевела взгляд на Руфь, потому что моя благодарность относилась в первую очередь к ней.
– Приступишь сегодня же ночью, – заявил Ашер. – В четыре тридцать. На углу Жимней и Желязной.
Вот так сразу, этой же ночью?
Все закручивалось стремительнее, чем я ожидала. И хотела. Всего через несколько часов мне придется карабкаться на стену. И уповать на то, что это не будет стоить мне жизни.
11
Голодной девчонкой я вошла в отель «Британия», голодной бандиткой из него вышла. Швейцар покосился на меня подозрительно, но счел за лучшее с вопросами не лезть и явно испытал облегчение, когда я двинулась прочь, не выкинув никаких фортелей в духе Рубинштейна.
Солнце слепило, глаза не сразу привыкли к дневному свету. Только теперь я могла хотя бы отчасти перевести дух – даже царящая на улицах гетто вонь была как глоток свежего воздуха по сравнению с прокуренной атмосферой бара. И вдруг я подумала: а ведь я даже не спросила у Ашера, что именно мне придется переправлять через стену и с кем из его людей я должна ночью встретиться у стены.
На миг я замешкалась: может, вернуться, уточнить подробности? Но Ашера лучше не злить. И, сунув под мышку хлеб с опилками, я направилась домой. Правда, кружным путем.
Всякий раз, когда у меня было время, я делала крюк и заходила на книжный развал. Мне нравилось рыться в ящиках и чемоданах, в которых люди выставляли на продажу свои домашние библиотеки. Порой там обнаруживались авторы, запрещенные нацистами: Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Карл Маркс, Эрих Кестнер… Но главное, там попадались английские книги. По ним я самостоятельно учила язык: в том маловероятном случае, если однажды мне все-таки доведется собственными глазами узреть огни большого города, должна же я хоть словом перемолвиться с американцами!
Поначалу я покупала книги с небольшими текстами: «Белоснежку», «Красную Шапочку», «Винни-Пуха», – но теперь могла даже целый детектив осилить. Больше всего мне нравились детективы Дороти Ли Сэйерс про лорда Питера Уимзи, хотя они переносили меня «всего лишь» в Англию – не в Нью-Йорк.
Я остановилась перед большим чемоданом, лежащим на краю тротуара. Судя по количеству наклеек из дальних стран, он путешествий по миру совершил больше, чем я в самых смелых своих мечтах. В чемодане было полно английских книг, а торговал ими исхудавший человек с жиденькой эспаньолкой и тусклыми глазами. Я немного порылась в его чемодане и среди заумных книг, в которых я бы и на польском ничего не поняла, обнаружила роман про лорда Питера Уимзи – Murder must advertise.[6]
Хоть я и не знаю, что значит advertise, но по ходу чтения разберусь. Теперь нужно с умом повести дело, чтобы заполучить книгу, не заплатив денег. Шансы неплохие. Книги в гетто – единственный товар, который день ото дня дешевеет.
Я окинула взглядом продавца. Похоже, что он, как и многие здешние торговцы, еще ни единой книги сегодня не сбыл. И уж точно голоден, как мы все.
Я протянула ему роман:
– Я вам дам за него ломоть хлеба.
Мужчина был слишком изможден, чтобы торговаться. Погладил бородку и кивнул. И только я полезла в сумку за краюхой, чтобы отломить от нее кусок, как вдруг увидела… Стефана!
Он спешил по тротуару мимо книжных развалов, не глядя в мою сторону. На миг я подумала, что глаза меня обманывают. Только через пару мгновений я уверилась, что этот светловолосый молодой человек в сером костюме – действительно Стефан. Но тут он как раз свернул за угол, на соседнюю улицу.
Я торопливо запихнула хлеб обратно в сумку, протиснулась мимо продавца на тротуар и, проигнорировав его напоминание:
– Ты, кажется, мне хлеба обещала? – устремилась за Стефаном.
Я еще только повернула за угол, а он уже дошел до конца улицы и у меня на глазах исчез за поворотом. Куда бы он ни шел, он очень спешил. Я припустила бежать, в голове мелькнула мысль: может, окликнуть его? Но на Стефана он все равно не отзовется, ведь это не настоящее его имя. Не ровен час, еще бросится наутек. Хотя я ничего о нем не знаю, ясно же, что он занят чем-то противозаконным.
Поэтому я молча добежала до угла и свернула в переулок, где не было ни души. В конце переулка виднелся сетчатый забор, за которым начиналось еврейское кладбище. Стефана и след простыл. Неужто через забор перемахнул?
Я помчалась по переулку, вглядываясь сквозь металлическую сетку, но никого на кладбище не увидела. Куда Стефан делся? Не мог же он сойти в могилу!
Может, перелезть через забор? Но тогда я рискую напороться на немцев, а пропуска у меня нет. Мне, конечно, хочется вновь увидеть Стефана, но не ценой же собственной жизни. Хватит и того, что ночью мне на стену карабкаться. О боже, да на что же я подрядилась? От одной мысли о том, что придется лезть через битое стекло и колючую проволоку, мне стало дурно.
Я еще раз бросила взгляд за забор: нет, Стефана не видать. И поплелась обратно. Медленно, нога за ногу. Раза четыре или пять оборачивалась – в напрасной надежде, что увижу, как он пробирается по кладбищу. И постепенно убеждалась: ни через какой забор он, по-видимому, не перелезал. Но куда он в таком случае запропастился?
Я остановилась. Хотелось пить. В последний раз я пила утром, в отеле «Британия» мой новый босс мне ничего не предложил. Водички бы! А еще лучше – яблочного сока. Там и фрукты, и вода, все вместе – это было бы божественно. Куда божественнее, чем сам господь бог, которому, с моей точки зрения, божественности как раз таки не хватает.
Я остановилась посреди переулка и обвела взглядом окрестные дома. Все они были в запущенном состоянии – еще хуже, чем в других частях гетто. Стекла повыбиты, кладка крошится, а у одного даже крыши нет. Когда немцы брали город, тут поработали танки.
Мой взгляд упал на открытую дверь, ведущую в один из таких полуразрушенных домов: казалось, что в ближайшие недели или месяцы он просто сложится сам собой. Может, Стефан сюда нырнул?
Хотя это представлялось мне маловероятным, я решила попытать счастья. Хотелось отвлечься не только от жажды, но и от страха, который вызывала перспектива сегодняшней ночной вылазки. И вдруг – ну вдруг? – Стефан действительно там?
Вонь на лестнице стояла кошмарная. Здесь тоже жили люди, но они уже настолько впали в растительное состояние, что даже экскременты за собой не убирали.
На первой площадке лежал истощенный мужчина, тупо смотревший перед собой. Выглядел он дряхлым стариком, хотя ему, наверное, и сорока не было. На меня он не обратил никакого внимания, так что спрашивать, не проходил ли тут молодой человек со светлыми волосами, было без толку. То, что видели его пустые глаза, находилось уже не в этом мире.
Я поднималась все выше и выше, мимо других людей, с которыми заговаривать не имело смысла. Меня мутило от запаха экскрементов, но отступать я не собиралась. Целых девять недель я воображала себе нашу встречу, постоянно мучаясь угрызениями совести перед Даниэлем. И не хотела уходить домой с чувством, что я не сделала все, что в моих силах.
На площадку второго этажа выходили двери трех квартир. Может, просто постучаться и, если мне откроют, спросить про юношу со светлыми волосами?
Одна дверь была лишь притворена, замок взломан. Похоже, в квартире похозяйничали грабители. Хотя что там брать-то?..
Я слегка налегла на дверь. Та чуть приоткрылась. Экскрементами из квартиры не несло – разве что затхлостью.
Сквозь щелку виднелась прихожая. Совершенно пустая. Никакой мебели, лишь разломанные половицы темного дерева и серые обои в поблекший цветочек. Войти? Или не надо? Вернусь домой, утолю жажду, подосадую, что увидела Стефана, но снова его упустила, а потом буду ворочаться без сна и до крови грызть ногти от страха перед тем, что ждет меня и других членов банды «Чомпе» ночью у стены…
Решено: вхожу!
Я открыла дверь пошире и шагнула в пустую прихожую. Ничего не слышно. Ни шагов. Ни даже шороха. Если и есть здесь люди, то, наверное, спят. Средь бела дня.
Я толкнула первую в коридоре дверь и оказалась в почти пустом помещении. Раньше – когда в каждой квартире проживало по одной семье – здесь была кухня. Но теперь – ни плиты, ни шкафов, ни посуды. Вместо этого посреди помещения стоял древний печатный станок. Рядом на полу стопками лежали газеты. Впрочем, газетами их можно было назвать лишь условно – скорее восьмистраничные листовки с отвратительнейшим качеством печати. Это были экземпляры подпольной газеты «Новости» – одного из бесчисленных нелегальных изданий, которых в гетто расплодилось видимо-невидимо.
Мой взгляд упал на воззвание на второй странице: «Варшавское гетто живет под постоянной угрозой уничтожения. Все силы нужно собрать в кулак ради великого подвига, который мы должны совершить – и непременно совершим. Дух Масады жив в наших сердцах!»
Масада…
В стародавние времена немногочисленный иудейский гарнизон этой палестинской крепости много месяцев выдерживал осаду четырех тысяч римских легионеров. Когда римляне, понесшие из-за сопротивления иудеев гигантские потери, наконец прорвались в крепость, в Масаде царила мертвая тишина. Все жители наложили на себя руки. Воины, женщины и дети.
Дух Масады – значит, евреи гетто должны вступить в бой с немцами и добровольно принять гибель. Биться насмерть в прямом смысле слова. Не слишком-то заманчивая перспектива.
– Ты что тут делаешь? – гаркнул голос за моей спиной.
Я вздрогнула от испуга. В душе всколыхнулась страстная надежда: вдруг это Стефан? – хотя голос был не его. Я медленно обернулась. На пороге комнаты стоял тощий парень: ежик каштановых волос, красные глаза. Может, я бы и заинтересовалась, отчего у него так полопались сосуды, если бы в руке он не сжимал нож.
– Я задал вопрос! – злобно прошипел он, наступая на меня и бешено размахивая ножом. Судя по всему, управляться с ним парень не умел, зато готов был на все.
– Я… я… – прозаикалась я. Что тут ответить? Что я ищу некоего Стефана, хотя на самом деле его зовут как-то иначе и вообще неизвестно, имеет ли он хоть какое-то отношение к подпольной газете?
– Отвечай!
Нож замелькал у меня перед самым лицом. Наверняка парень думает, что я немецкая шпионка. Я лихорадочно пыталась сообразить, как развеять его подозрения.
– Говори! Говори, не то прирежу!
Ножом он размахивал все агрессивнее. Но сию секунду убивать меня, кажется, не собирался. Пока.
– Я не шпионка, – ответила я. Голос дрожал, и саму меня трясло.
– Так я тебе и поверил! Тогда что ты тут делаешь? Вынюхиваешь, чтобы немцам донести!
От страха мне ничего не приходило в голову, и я ляпнула как есть:
– Я ищу парня, с которым однажды целовалась.
На миг мой противник так растерялся, что даже нож опустил.
– Это правда!
Его лицо ожесточилось. Конечно, он не поверил ни единому моему слову. Да я бы на его месте тоже не поверила.
– Ты меня за идиота держишь, что ли? – рявкнул он.
Физиономия у него побагровела от ярости, жилки на шее запульсировали. Но нож – нож он держал крепко и размахивать им перестал. Теперь он точно готов пустить его в ход и разделать меня на куски. Угораздило же меня брякнуть правду!
– Я тебя убью!
У меня из глаз хлынули слезы. Я с мольбой пролепетала:
– Пожалуйста, не надо…
Сквозь пелену слез я увидела, как он поднял руку с ножом, готовясь нанести удар.
В панике я метнулась вперед и со всей силы толкнула его. Он отлетел к стене, но равновесия не потерял, а уперся в кладку рукой. И пробормотал себе под нос какое-то проклятие на иврите, которого я не поняла. Иврита, в отличие от многих еврейских детей, я почти не знала, моим языком был польский. И любимый английский.
Я попыталась прорваться к двери, но кухня была слишком маленькая. Именно в тот миг, когда я протискивалась мимо, он взмахнул ножом. Лезвие глубоко вошло в правое плечо.
Я закричала. Боль затопила все вокруг. Надо было бежать, спасаться, но меня словно парализовало, я не могла отвести глаз от своей руки, от рукава, который в считаные секунды окрасился кровью. Как же больно! Как невообразимо больно!
Таких ран у меня никогда в жизни не было. А вдруг я теперь умру?!
Меня сотрясали рыдания, за слезами я ничего не видела. Но по громкому, почти звериному пыхтению противника понимала, что сейчас он снова нанесет удар. И еще, и еще, и еще. Мне его не остановить…
– Захария! – раздался окрик.
Это был голос Стефана.
– Захария, что здесь, черт возьми, творится?
Нападающий, остановившись, выпалил в бешенстве:
– Ее подослали немцы!
В облегчении я сползла на пол, баюкая раненую руку. Сейчас Стефан объяснит ему, что я не представляю никакой опасности, что я просто мелкая контрабандистка… А потом окажет первую помощь, перевяжет рану…
Но Стефан только спросил подозрительно:
– Что, правда?
«Нет!» – хотела крикнуть я, но получился только хрип. Голос от отчаяния мне отказал.
– А что она тут забыла? – пропыхтел Захария.
– Иди отсюда, я разберусь, – приказным тоном произнес Стефан, и Захария подчинился. Неохотно, но подчинился. В какой бы подпольной организации они ни состояли, Стефан явно занимал в ней более высокое положение, чем тот, кто на меня напал.
– Ты-то где пропадал? – осведомился Захария у Стефана с плохо скрываемым раздражением, вновь останавливаясь. Ему явно не нравилось, что им командуют.
– В подвале.
Этот ответ Захарию удовлетворил.
В других обстоятельствах меня бы живо заинтересовало, что там в подвале такого важного. Но сейчас я только и могла, что рукавом здоровой руки утирать слезы. Мне хотелось толком разглядеть Стефана.
Он требовательно протянул Захарии руку. Тот отдал нож и наконец покинул кухню.
Стефан сделал шаг ко мне. Сжимая нож, обагренный моей кровью.
Я с трудом поднялась на ноги. Мне не хотелось сидеть перед ним на полу хнычущей развалиной.
– Что ты тут делаешь, Ленка? – спросил он.
Он не забыл имени, которым с лету окрестил меня на польском рынке. А ведь девять недель прошло!
В других обстоятельствах я бы, может, и обрадовалась. Но он говорил жестко и нож держал наготове. Рука у него ни разу не дрогнула – а это наводило на мысль, что ему, в отличие от Захарии, уже доводилось пускать нож в ход.
Голубые глаза Стефана буравили меня. Белки у него, как и у Захарии, тоже были в красных прожилках. Что с ними всеми такое?.. В любом случае ни тепла, ни обаяния в его взгляде не было. Сплошной холод.
А я-то, я-то: попала под его чары, грезила о нем наяву, с ним, а не с Даниэлем кружилась в танце по Бродвею… Мне стало так стыдно за эти фантазии, что я даже про боль в руке на миг забыла. Дуреха малолетняя, вот я кто!
– Ответ я сегодня услышу? – осведомился Стефан совершенно спокойно, по-прежнему не опуская ножа. Его спокойствие пугало больше, чем любая агрессивная суета.
– Я увидела тебя на книжном развале и пошла за тобой…
– Зачем?
– Затем, что… – Я запнулась и от стыда еле смогла договорить: – Хотела снова тебя увидеть.
Даже если это признание ему немного польстило, виду он не подал.
Впрочем, какое там польстило! Опять дурацкие мечты и надежды. Все это чистой воды ребячество! Не такая уж я и взрослая, как сама про себя думала.
– Ты хотела снова меня увидеть? – переспросил Стефан отчасти озадаченно, отчасти недоверчиво.
– Надо же сказать «спасибо».
Это его не убедило.
– И вместо того что просто сказать свое «спасибо», ты полезла к нашему печатному станку?
– Я увидела тебя на книжном развале, пошла следом, но потеряла тебя из виду…
– И по случайности забрела сюда?
– Да.
– Какое совпадение!
– Ну вот такое… – пробормотала я.
Он повертел нож в руке, очевидно не зная, что ему со всем этим делать.
– Зачем мне лгать? – сказала я. – Ты же знаешь, что я сама занимаюсь контрабандой…
– А контрабандисты, надо думать, с немцами никаких дел не имеют! – хмыкнул он. И тут же помрачнел еще больше: – В немецких тюрьмах люди меняются… не ты первая, не ты последняя. – Это прозвучало горько, будто кто-то из контрабандистов его однажды уже предал.
– Я говорю правду! – воскликнула я. – Не знаю, что соврать, чтобы ты поверил!
Он помолчал. Наверное, размышлял: может, все-таки прирезать меня на всякий случай, чтобы я не выдала немцам местонахождение печатного станка? Человек, который поцелуем спас мне жизнь, теперь намеревался отнять ее ножом. Наконец он кивнул. Видно, пришел к какому-то решению. Только вот к какому?
– У немецкого агента была бы заготовлена более складная легенда, – сказал он и сунул нож в карман пиджака. Лицо его разгладилось. Он как ни в чем не бывало улыбнулся. – Сейчас принесу дезинфицирующее средство, промою тебе рану, – сказал он.
– Было бы неплохо, – отозвалась я. От облегчения я чуть было не разревелась. Слезы навернулись на глаза, но я их сморгнула – еще не хватало очередной детской слабости.
На пороге кухни Стефан обернулся и пригрозил:
– Только попробуй сейчас сбежать, Ленка. Тогда я решу, что зря тебе поверил, и из-под земли тебя достану.
Но голос его звучал все-таки дружелюбнее, чем при допросе: он не верил всерьез, что я убегу.
– По следам крови найти меня будет нетрудно, – ответила я, морщась от боли. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, рана снова разболелась.
Он сперва улыбнулся этому ответу, а потом бросил взгляд на мою руку, и лицо у него сделалось озабоченное. И я тоже вдруг поняла, что истекаю кровью. Почти весь правый рукав уже насквозь пропитался красным.
Стефан стремительно покинул кухню, его шаги удалились, а я снова осталась один на один со страхом. Кровотечение пугало меня, к тому же я боялась, что Захария вернется. Я чувствовала себя совершенно беззащитной.
Но Захария больше не появлялся. Наверное, ушел в таинственный подвал, о котором точно не стоит расспрашивать Стефана, если не хочу навлечь на себя новых подозрений.
Стефан вернулся с маленьким пузырьком, чистым полотенцем, иголкой и ниткой. У подпольщиков имелось все необходимое для обработки боевых ранений.
Мы сели на пол, он закатал окровавленный рукав, и только тут я увидела, как глубоко нож вошел в руку. Мне стало дурно, тошнота подступила к горлу.
– Повезло тебе, – заявил Стефан.
Повезло? Оригинальный у него взгляд на вещи.
– Захария не задел ни мышц, ни сухожилий.
Ну если так посмотреть, то, наверное, да – повезло.
– Заживет быстро. – Стефан ласково улыбнулся, пытаясь утишить мой страх. А может, просто не хотел, чтобы меня стошнило ему на ботинки.
Он капнул на рану дезинфицирующего средства. Защипало адски, я стиснула зубы. Он несколько раз промокнул рану полотенцем. Каждый раз щипало так, словно он огнем жег мне кожу.
– А ты молодец, – похвалил он.
– Хотелось бы и мне тебя похвалить… – пропыхтела я.
Стефан ухмыльнулся. Он понял, что это шутка, а не упрек.
– Ну вот, Ленка, рану промыли.
– Меня зовут Мира.
– Ну я почти угадал, – усмехнулся он.
– А тебя как зовут? – поинтересовалась я.
– Не Мира, – ухмыльнулся он, бросая полотенце на пол.
– Дурак, – буркнула я.
– Это тоже не мое имя. – Он заухмылялся еще шире.
– Балбес?
– Многие зовут меня скотиной.
– Надо же, с чего бы это. – Я тоже усмехнулась.
– Совершенно не разбираются в людях, – ответил он, и глаза у него при этом дерзко сверкнули. Он взял иголку с ниткой и пообещал: – Я назову тебе свое имя, если не будешь орать.
– Отец мне всегда конфетки давал за храбрость.
– Конфет у меня нет, зато есть немного яблочного сока.
Яблочный сок? Фантастика!
– Это меня интересует даже больше, чем твое имя, – сказала я, глядя, как он вдевает нитку в иголку.
– А вот сейчас обидно было, – ответил он и скорчил оскорбленную гримасу.
– Если я начну расспрашивать, чем вы тут занимаетесь, – проговорила я, – ты снова сочтешь меня немецким агентом? Или просто любопытной девчонкой?
Он бросил на меня быстрый испытующий взгляд и ответил:
– Просто любопытной, – и вонзил иголку в кожу.
Боль была чудовищная.
Может, кое-какой опыт обработки ран у него и имелся, но все же он далеко не врач, и его сноровка оставляла желать лучшего.
– Ну? – сказал он и вонзил иглу снова.
Мне хотелось кричать от боли, но я стиснула зубы еще крепче, чем при промывании раны.
– Ты собиралась какие-то вопросы задавать. – Третий стежок.
Вопросы… Вопросы – дело хорошее. Вопросы помогают отвлечься. Но в моем затуманенном болью мозгу только одно и мелькнуло: а ты танцевать умеешь? Перед внутренним взором я увидела Стефана, кружащегося со мной под Night and day.
К счастью, у меня хватило ума этот вопрос не озвучивать. Какой уж из него танцор, из этого благородного спасителя с розой в руке? Он хладнокровно убил бы меня, если бы мне не удалось убедить его, что я не шпионка.
И чтобы такой вот тип танцевал? Это же просто смешно, Мира! И сама ты смешна. Ему бы только пляски на костях. Да и тебе плясать только в розовых мечтах!
– Сколько вопросов разом, – поддел Стефан, поскольку я продолжала молчать. – Неужто так больно?
Вместо того чтобы согласиться с этой версией, я наконец выдавила:
– Масада?
– Масада? – Он так удивился, что даже шить перестал.
А я, обрадовавшись передышке, кивнула на газету:
– Стоять насмерть?
– Да, стоять насмерть, – без колебаний подтвердил он. – Немцы всех нас перебьют. Без исключений.
Я посмотрела ему в лицо, в глаза – похоже, он действительно в это верил.
– Но это… это же безумие, – пробормотала я. Пусть даже немцы распоясались после Кровавой ночи – все равно невозможно себе представить, как можно уничтожить все население гетто.
Голубые глаза Стефана гневно сверкнули, словно своим «безумием» я оскорбила его религиозные чувства. С плохо скрываемой злостью он сделал следующий стежок. Довольно грубо.
Я вскрикнула.
Он дернулся, но извиняться не стал, а продолжил шить, однако все-таки поаккуратнее, и на том спасибо. И произнес одно-единственное слово:
– Хелмно.
Конечно, я слышала о Хелмно. Каждая, буквально каждая из конкурирующих между собой подпольных газет об этом писала. Якобы в Хелмно нацисты загоняли евреев в грузовики и пускали внутрь выхлопные газы. Как и большинство, я считала эти рассказы выдумкой. Жуткая фантазия человека, который силой воображения мог бы помериться с Ханной – только истории сочинял гораздо мрачнее и бредовее.
Однако Стефан твердо верил, что небылица про Хелмно не просто страшилка. Я сочла за лучшее в спор не вступать.
– Что у тебя с глазами? – спросила я вместо этого.
– С глазами? – озадаченно переспросил он.
– Красные такие. И у этого Захарии тоже.
– Мы в последнее время ночи напролет работали, собирали номер, печатали. А чтобы нас не обнаружили, свет не включали. Все делали при луне.
Он перерезал нитку. Наконец-то пытка закончилась. Я осмотрела его работу: красоты немного, зато хоть кровью не истеку, и рана затянется за несколько дней. Только вот как я нынче ночью с раненой рукой полезу на стену…
– Ну теперь ты заслужила яблочный сок, – сказал Стефан и снова нахально ухмыльнулся.
Мы поднялись с пола. Мне не терпелось глотнуть сока. Все мысли о Хелмно, о якобы грозящем гетто уничтожении и об ожидающих меня ночью у стены опасностях улетучились, когда забрезжила перспектива утолить жажду вкусным напитком.
– Он в соседней комнате, – сказал Стефан.
Мы направились было к выходу, но тут в дверях появилась девушка. Лет двадцати, не меньше, со строгим, благородным лицом египетской царицы. Ростом она была ниже меня, но от нее исходила властность – она явно привыкла, что ей беспрекословно подчиняются и никогда не перечат.
– Захария сказал, что у нас незваная гостья, – сурово произнесла она, окидывая меня испытующим взглядом. Я смущенно потупилась.
– Она не шпионка, Эсфирь, – отозвался Стефан.
Она вгляделась в меня еще пристальнее, очевидно сомневаясь.
– У нас нет права на ошибку, Амос.
Амос.
Его зовут Амос.
Это красивее, чем Стефан.
Гораздо, гораздо красивее.
– Я никогда не ошибаюсь, – дерзко ухмыльнулся Амос.
Но Эсфирь это не убедило.
– Да все в порядке с девчонкой!
Девчонка… мне не понравилось, что он так меня назвал. Хватит мне и Даниэля, который обращается со мной как с ребенком. Впрочем, я себя как ребенок и веду…











