Читать онлайн Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна
- Автор: Александра Тимонина
- Жанр: История искусства
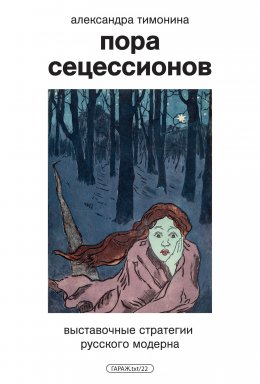
Предисловие
Выставочная история всегда оказывается менее личной и романтичной по сравнению с историей создания конкретных произведений. Однако она не менее важна, поскольку позволяет понять, почему работу художника постигла та или иная участь, и до некоторой степени объясняет превратности ее исторической судьбы и рецепцию творчества как конкретных авторов, так и целых движений.
Эта книга предлагает проследить, как художники рубежа XIX–XX веков, в тот или иной период своего творчества связанные с культурой Российской империи, интегрировались в европейский выставочный процесс через независимые каналы[1], а также обсудить связанные с этим институциональные изменения. Выставка за границей, в особенности организованная силами частных инициатив, становится инструментом первостепенной важности в карьере художников и деятелей искусства указанного периода. Этот процесс связан и с формированием первых кураторских инициатив, благодаря чему выставки становятся площадкой для поисков доминант культурной идентичности, точек соприкосновения с модернистскими течениями за рубежом, а также основой для прорабатывания художественно-исторического нарратива, в котором новые направления могли быть представлены как последняя ступень эстетического прогресса.
С 1890-х годов феномен художественного сецессионизма охватывает Европу – растет число выставок, организованных сообществами, отделившимися от крупных институтов[2]. В историографии этот момент соотносится прежде всего с периодом зарождения не существовавших ранее выразительных языков и художественных течений, однако в данном исследовании он будет в большей степени трактоваться как фаза формирования новой структуры художественного поля – сначала в Западной Европе, а затем и за ее пределами. Постепенно это поле обретет черты форума и начинает функционировать по принципу свободного рынка[3].
В тот же период в русском искусстве происходят радикальные изменения, прежде всего – ослабление академической гегемонии в вопросе взаимодействия художников с западноевропейскими центрами. Развитая ранее культура конкурсов курирования академическими и политическими структурами участвующих в заграничных смотрах (в первую очередь во Всемирных выставках) художников отошла на второй план. В 1890-е возник целый ряд независимых инициатив. Все они с интересом смотрели на выставочную жизнь Франции и Германии и были готовы к встрече и участию в ней. Многие исследования, посвященные искусству этому времени, помещают русское искусство в рамки процессов влияния и сводят многие аспекты творчества художников к идее культурного трансфера. Тем не менее стоит заметить, что взаимосвязь с западноевропейским культурным пространством более напоминала непрерывное переосмысление, интерпретацию собственной культурной и художественной идентичности в ответ на сейсмические изменения в нем[4].
Присутствие русских художников на выставках Сецессионов и независимых объединений за рубежом стало одним из главных импульсов для распространения модернистской эстетики в России. Это вызвало поляризацию мнений разных представителей художественной жизни при ответе на вопрос о роли национального наследия и традиций в творческих процессах и в целом при обсуждении самобытности в искусстве, которая была подпитана как стилистическими и институциональными изменениями в искусстве Европы, так и необходимостью пересмотреть собственную культурную идентичность в рамках стремящегося к глобализации художественного поля, которое все чаще определял рыночный успех. В книге проанализированы разнообразные экспозиционные модели рубежа XIX–XX веков и предпринята попытка переосмыслить трансформацию выразительных средств и тематик в русском искусстве и возникновение новых карьерных паттернов среди художников.
Структура исследования включает 11 глав. Каждая из них относится к одной из трех макропроблем.
Во-первых, проанализировано, как новые выставочные парадигмы, сформулированные организациями сецессионистских направлений и сообществами художников в западно- и центральноевропейских странах в 1890-е, были восприняты и отчасти заимствованы модернистами в России, которые старались перенести модели независимых выставочных объединений на отечественную почву и одновременно включиться в процесс обмена с коллегами за границей. Возникновение сецессионов в Европе вызвало значительный интерес в русской художественной среде, будучи примером противодействия догматизму. Участие в международных выставках было для русских художников, в особенности младшего поколения, убедительным критерием успеха, даже несмотря на то, что центральноевропейские сецессионы совсем недолго влияли на оценку ими собственного творчества. Также освещены проблемы, которые были в центре прений об альтернативных западно- и центральноевропейских художественных сообществах. Они соотнесены с реакциями в российской прессе и личной переписке рубежа XIX–XX веков. В частности, рассказано об участии русских художников в Мюнхенском сецессионе в 1896 и 1898 годы, о том, как они старались привлечь внимание международной публики. Обе выставки русских художников в Мюнхене состоялись благодаря энтузиазму Сергея Дягилева, однако этому предшествовал общий интерес, который разделяли такие художники и критики, как Павел Эттингер, Игорь Грабарь, Василий Переплетчиков и Валентин Серов. Некоторые из художников, например Михаил Нестеров, живо интересовались событиями за рубежом, но в то же время критически относились к участию в них. Также уделено внимание иностранной прессе – прежде всего тому, что и как о русских художниках-сецессионистах писали за рубежом.
Во-вторых, затронут вопрос формирования «архаизирующей эстетики»[5] на рубеже веков и одновременно расширения семантического поля, связанного с темой Русского Севера. Оно происходило практически параллельно с расцветом ревайвалистских течений в европейском контексте. На примере ряда значимых эпизодов из творческих биографий таких художников, как Константин Коровин, Василий Переплетчиков, Александр Борисов, Николай Рерих, Иван Билибин и Василий Кандинский, показано, как все эти мотивы совмещались в их работах и ратифицировались выставочными событиями. Примерами утверждения этих направлений и тематик могут служить как подробно изученные события вроде успеха кустарного отдела русского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, так и менее известные случаи презентации русского искусства в международном контексте, например зал «Русские художники» на 12-й выставке Венского сецессиона в 1901 году. Основная гипотеза здесь – в том, что мотивы Русского Севера, выраженные в пейзажах и в «архаизирующих» формах, распространявшихся в творчестве многих художников, стали популярными благодаря нескольким факторам. Прежде всего, практика культурной апроприации фольклора и визуальных аспектов культур коренных народов была нормализирована в модернистском контексте. Тема национализма в целом обычно тем сильнее отходит на второй план в глазах исследователей, чем более прогрессивным с формальной точки зрения становится творчество художников к началу 1910-х. Тем не менее культурная апроприация в работах художников-модернистов тех лет нередко происходила в угоду имперской идентичности. Тема Русского Севера использовалась на различных выставках в целях рекламы и привлечения инвестиций в колониальные предприятия на территории Российской империи. Кроме того, национальная самобытность была одной из главных оценочных категорий в европейской выставочной системе тех лет.
В-третьих, предпринята попытка показать, как художественная выставка становится выразительным средством во многом благодаря распространению идеи синтеза искусств (Gesamtkunstwerk). Такие инициативы, как Выставка архитектуры и художественной промышленности нового стиля (1902) и «Современное искусство» (1903), предлагали объединить художественную выставку с дизайном пространства. Декоративное и изобразительное искусство на них было показано в едином интерьере, и оформление становилось важнейшим компонентом выразительного языка. Отчасти здесь происходит ассимиляция тенденций Венского сецессиона и Дармштадтской колонии[6]. Выставка обретает элемент театральности, становится средством коммуникации на едином языке с космополитичными сообществами художников, архитекторов, дизайнеров и культурных деятелей модернистских направлений за пределами страны.
В заключительных главах книги на нескольких примерах показано, как в начале XX века выставка служила одним из главнейших способов артикуляции художественно-исторического нарратива и в этой ипостаси становится распространенной стратегией среди русских художников-модернистов. Главным примером этого утверждения, бесспорно, можно считать выставку «Два века русской живописи и скульптуры», организованную усилиями Дягилева в Осеннем салоне в Париже в 1906 году. Сходная позиция угадывается в менее известном эпизоде участия художников из Российской империи в Венском сецессионе 1908 года. Тогда раздел Moderne Russische Kunst подготовил Александр Филиппов, редактор журнала «В мире искусства», издававшегося в Киеве. В этой венской выставке можно заметить решения, ранее реализованные в «Двух веках русской живописи и скульптуры». Кроме того, рубеж 1900–1910-х отмечен рядом других международных инициатив. Здесь мы видим художников в контексте, где общий нарратив имел отчетливый трансисторический характер, а история служила инструментом легитимации и утверждения новых тенденций в международном поле. Примером таких выставок был кёльнский Зондербунд 1912 года, где экспонировали работы «русских мюнхенцев», и прошедшая в том же году Вторая постимпрессионистическая выставка в Лондоне. Она была организована Роджером Фраем не без оглядки на смотр в Кёльне. На ней, предположительно, демонстрировались работы Натальи Гончаровой, Николая Рериха и ряда других авторов. Скифские и византийские мотивы в их работах импонировали интересам Фрая как критика и соответствовали его риторике, где великое искусство современности состояло в отношениях прямой преемственности с великим искусством прошлого.
Глава 1. Европейские выставки и русское искусство[7]
В 1890-е годы в Российской империи произошло беспрецедентное усложнение художественного процесса, ускорилось становление рынка и выросло число художников. Вместе с этим усилилось внимание печатных изданий к событиям в мире искусства и значительно расширилась зрительская и читательская аудитория. В этом контексте ключевым элементом, связывавшим все вышеупомянутое, была открытая для публики групповая художественная выставка.
Во второй половине века как в России, так и в Европе (хотя и не одновременно) выставки вошли в повседневность быстро растущих городов так же органично, как культура газет в предыдущие десятилетия, отражая и вместе с тем подстегивая растущий спрос на предметы искусства и сопутствующие товары вроде репродукций и журналов. Между тем большое число художественных ассоциаций и изданий, появившихся в последние десятилетия века, служит свидетельством многообразия вкусов, определявших этот спрос.
Долгое время в советской и российской литературе вопрос участия художников Российской империи в европейском художественном процессе рассматривали сквозь призму терминологии «культурных связей», которая охватывала почти все типы «контактов с Западом» – включая косвенные, то есть те, что, по сути, заключались даже в одностороннем влиянии и заимствованиях[8]. «Контакт с Западом» мог подразумевать посещение зарубежных экспозиций, периоды обучения за границей или какое-либо взаимодействие с иностранным искусством, которое показывали на местных выставках, что становились все более и более распространенной практикой в конце XIX столетия. Тем не менее для самих художников роль этих контактов могла варьироваться от формирования «западнических» эстетических установок до проявления реакционных, «патриотических» настроений. Ответы были движимы разного рода импульсами, и все же усилившийся интерес к взаимодействию с западноевропейским искусством служил яркой иллюстрацией кардинальных изменений в российском культурном пространстве. Главным образом это социальные перемены, вызванные индустриализацией и расцветом городского общества, и связанная с меняющимся контекстом трансформация роли художника. Одновременно с этим в интеллектуальной и общественной сфере тех лет формировалось поле дискуссий о роли «национального» в изобразительном искусстве и архитектуре[9].
М. Антокольский, «Спиноза», 1882 г. Мрамор. Государственный Русский музей
Когда на этом фоне в 1897 году в своем знаменитом письме к русским художникам Сергей Дягилев заявляет, что для достижения международного успеха, который был для него непоколебимым жизненным ориентиром, молодым соотечественникам следовало бы сплотиться не только в художественном плане, но и организационном, ориентируясь на такие объединения, как парижское Национальное общество изобразительных искусств[10] и Мюнхенский сецессион,[11] он находит кардинально новое решение проблемы «национального». Сосредоточив внимание на форме и риторике в своих ранних проектах, Дягилев играючи лавировал между модернистской эстетикой и категорией «национальной школы», во многом определявшей взаимодействие художников из разных стран и культурных контекстов, стараясь подстраиваться под актуальные тенденции и запросы публики.
Проблематика влияния европейских моделей на искусство в Российской империи именно в институциональном плане часто ускользает от внимания исследователей – особенно в сравнении с вопросами о чисто формальных заимствованиях. В этой главе показано, как набиравшие обороты европейские независимые художественные организации и сообщества последовательно вызывали интерес и были для русских художников примером для подражания.
Может показаться странным, однако многие поборники модернистских тенденций в России искренне интересовались происходящим в зарубежных художественных центрах, и это так или иначе влияло на их деятельность. Владимир Стасов, главный критик всего, что касалось деятельности «Мира искусства» – журнала и сообщества вокруг него, – постоянно писал рецензии и очерки о Всемирных выставках и, что еще важнее, посвятил многочисленные и подробные публикации западноевропейскому искусству. В художественной критике риторика сопоставления, сравнения между «русской школой» и школами зарубежными усилилась именно в 1890-е. Эти изменения значительно повлияли на целые поколения художников, критиков и не в последнюю очередь на организаторов выставок. Ранее вопрос о том, целесообразно ли художнику перенимать тенденции и идеи и стиль от иностранных коллег, был актуален главным образом для тех художников, кто временно работал за границей, зачастую по грантовым программам. Одно из самых лаконичных заявлений в связи с этим было сделано в частной переписке еще Иваном Шишкиным в годы его учебы в Дюссельдорфе:
Так вот какие вещи, добрейший Николай Дмитриевич, а все-таки дело скверное, я здесь за границей совершенно растерялся, да не я один, все наши художники и в Париже, и в Мюнхене, и здесь, в Дюссельдорфе, как-то все в болезненном состоянии – подражать, безусловно, не хотят, да и как-то несродно, а оригинальность своя еще слишком юна и надо силу[12].
Поколение, сформировавшееся в 1890-е годы, почти единогласно положительно отвечало на вопрос о целесообразности усвоения популярных за рубежом стилей. Среди главных причин, лежавших в основе этих изменений, были растущая взаимная осведомленность в мире искусства, усиление новых средств коммуникации, транспорта и, как следствие, рост доступности и скорости передвижения. Вопрос о месте «национальной школы» в глобальном контексте становился все актуальнее. Как подчеркивает Элисон Хилтон, непосредственное знакомство с зарубежным искусством не просто приобщало российских художников к новейшим тенденциям, оно приводило к осознанию необходимости противопоставления себя иностранным коллегам. Все это побуждало к пересмотру ранее общепринятых категорий, и оценка собственного успеха теперь была осложнена все более и более размытыми эстетическими границами[13]. Сами критерии оригинальности, самобытности, за которой с неудержимым энтузиазмом гнались поколения деятелей культуры, связанных с организацией участия России, например, во Всемирных выставках, и которые разделялись поколением 1870-х и 1880-х годов, представляли собой сложный идеологический конструкт, который сложился в прямой зависимости от политической повестки эпохи. Интересно будет вспомнить, что прежде искусство Российской империи открыто тяготело к европейским тенденциям (будь то стиль fête galante, античные сюжеты или эстетика мастеров итальянского Возрождения, которые до середины XIX века служили ориентирами в системе академического художественного образования). Подобная ориентация была нормативной, пока в среде усиливавшегося европейского национализма художники в России не столкнулось с ситуацией, когда им пришлось искать основы своей профессиональной идентичности в сфере национального.
Среди причин, побудивших художников к поиску контактов с коллегами за рубежом вне академических рамок, стоит отметить и тот факт, что при организации экспозиций изобразительного искусства на Всемирных выставках государственная поддержка часто оказывалась недостаточной. Эту проблему подчеркивали даже представители старшей и более консервативной когорты. Так, Марк Антокольский, маститый скульптор еврейского происхождения, член петербургской Императорской Академии художеств, полный негодования, писал Стасову по поводу организации российского участия в Международной выставке в США:
…На художественный отдел, на самое-то зерцало души России – отпускают из общей суммы 900.000 только 8.000!!! ‹…› Помилуйте, ведь при такой сумме, при теперешнем курсе, да еще в Америке, где наш рубль равняется здешнему [французскому] франку! – Значит, жить там представителям искусства придется впроголодь, да на гвоздь для развешивания картин, в случае надобности, и самим повеситься[14].
Присутствие русского искусства на более локальных выставках – различных салонах и независимых объединениях, которые буквально расцвели в 1880–1890-е, – изначально было разрозненным, неоднородным и, по сути, бессистемным. Дело в том, что такие события обладали меньшим политическим весом, были довольно скромными по масштабам, а потому официальные институции, то есть академии, чаще всего не стремились налаживать контакты и направлять на подобные мероприятия художников. Кроме того, зачастую эти выставки представляли интересы художественного сообщества конкретного города, аудитория которого, как правило, была невелика. Аналогичные группы и товарищества в России обычно фокусировались прежде всего на привлечении местной аудитории и коллекционеров. Помимо бюрократических и политических труд











