Читать онлайн Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1
- Автор: Валерий Алексеевич Антонов
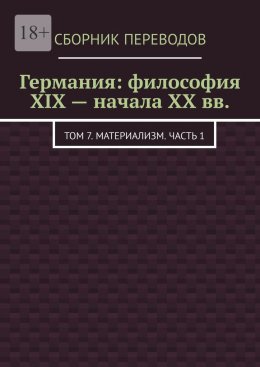
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7897-8 (т. 1)
ISBN 978-5-0064-7896-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эдуард фон Гартман (1869 – 1902)
О диалектическом методе
Предисловие к первому изданию
Спустя более века после смерти Гегеля, вдали от споров философских школ и никогда не вступая в личный контакт с преподавателями философии, я решаюсь взять на себя задачу, которая, по моему мнению, еще не исчерпана, – подвергнуть диалектический метод тщательному исследованию. Много хорошего и правильного уже было сказано критиками о деталях гегелевской философии, и особенно о логике – мне остается только напомнить о главе о диалектическом методе в «Логических исследованиях» Тренделенбурга, об очерке Вайсе в «Zeitschrift» Й. Х. Фихте (1842), vol. 2, до разрозненных замечаний в «Философии познания» Кирхмана, – но если бы Вайс был прав, и единственным достижением Гегеля было бы изобретение истинного метода, то все нападки на гегелевскую философию и логику были бы потеряны для критики диалектического метода; ведь может оказаться, что этот инструмент до сих пор ждет художника, который правильно им воспользуется. Но если вычесть из всего сказанного о диалектике эти косвенные нападки на нее, верные лишь при определенных условиях, и рассмотреть диалектический метод в том виде, в каком он есть и может предложить сам по себе, помимо того, что получилось в результате его применения Гегелем, то существующая критика сократится до весьма незначительной меры. Даже если я охотно признаю, что основное, что должно быть сказано о предмете, уже высказано, мне кажется, с одной стороны, что оно не было обосновано с той подробностью и акцентом, на которые способен предмет, и, с другой стороны, я считаю целесообразным сделать главный акцент на пунктах, которые до сих пор либо рассматривались как второстепенные, либо полностью игнорировались. Наконец, однако, я считаю, что среди правильных возражений были и такие, которые не усиливают, а ослабляют силу атаки, что может быть вызвано отчасти непониманием, например, своеобразного положения критики по отношению к диалектическому методу, о чем будет сказано ниже. Этих замечаний, кажется, достаточно, чтобы охарактеризовать и оправдать мое начинание.
Исследованию диалектики Гегеля предшествует краткий очерк того, что диалектика иначе означает в истории философии, в качестве своего рода исторического введения, главным образом для того, чтобы было ясно, в каких чертах метод Гегеля присваивает существующие идеи, а в каких является его собственным произведением. Эта первая часть должна быть пригодна для того, чтобы свести к исторически обоснованной мере утверждение Гегеля, что в своем методе он лишь придал строго научную форму и совершенство тому, к чему более или менее сознательно стремилось большинство великих философов. —
Насколько обоснование системы Гегеля соответствует или не соответствует его методу, я оставляю на усмотрение читателя, но замечу, что я отвожу основным результатам гегелевской философии (помимо их извлечения) необходимое место в развитии философии. Тому, кому результаты настоящей работы могут показаться самонадеянными, я напомню, что для героев науки не существует иного почтения, чем изучение их продуктов более тщательно, чем продуктов кого-либо другого.
Предисловие ко второму изданию
Предыдущее предложение: «Что я признаю необходимое место в развитии философии для основных результатов гегелевской философии (помимо их извлечения)» не было воспринято всерьез гегельянцами, которые читали первое издание этой работы с неудовольствием или раздражением. То, что философия Гегеля уже должна была быть философией бессознательного, которую мне нужно было только возвести в ранг сознательной («Философия бессознательного», 3-е издание, 1873, стр. 23), считалось дурной шуткой. Мои эпистемологические и натурфилософские труды до 1877 года, казалось, только еще сильнее подчеркивали расхождение моей точки зрения и моего образа мыслей с гегелевскими. Только в «Этике», «Философии религии» и «Эстетике» стало ясно, насколько я был близок к Гегелю в философии разума, и только моя «Теория категорий» показала, что я должен был переосмыслить метафизику Гегеля лишь в той мере, в какой этого требовало дополнение его одностороннего принципа его необходимым антитезисом (см. предисловие, стр. X – XIII). Еще в 1870 году в «Philosophische Monatshefte», т. V, вып. 5, я пытался объяснить, как я понимаю «необходимую реорганизацию гегелевской философии, исходя из ее основного принципа» (перепечатано в «Gesammelte Studien und Aufsätzen», с. 604 – 635). Затем в своей «Немецкой эстетике после Канта» я попытался связно изложить его учение об идеях в разделе о Гегеле (стр. 107 – 129), а в эссе «Mein Verhältnis zu Hegel» (Philosophische Monatshefte, vol. XXIV, issues 5 – 6, перепечатано в «Kritische Wanderungen durch die Philosophie der Gegenwart», стр. 43 – 75) я еще раз суммировал связь и различия между моей системой и системой Гегеля. Из всех этих публикаций, а также из подробного изложения Гегеля во второй части моей «Истории метафизики», с. 207 – 256, должно стать ясно, что предложение в предисловии к первому изданию имело вполне серьезный смысл. Только потому, что я осознавал, сколь многим обязан Гегелю, я так остро ощутил необходимость обсуждения его ошибочного метода, что сразу после завершения «Философии бессознательного» весной 1867 года приступил к написанию этой работы, еще до того, как предпринял какие-либо шаги к публикации первой.
Лишь немногие читатели осознают эту связь. Противники и презиратели Гегеля качали головами по поводу того, что я напрасно потратил столько усилий на критику гегелевского метода; последователи Гегеля, однако, чувствовали себя уязвленными и отвергнутыми. Некоторые из них были убеждены, что форма и содержание гегелевской системы неразделимы, что они стоят и падают вместе и что диалектический метод составляет непоколебимый фундамент гегелевского здания, более того, единственный стабильный и вечно действующий его аспект. Другие же, привыкшие к ослаблению гегелевской диалектики до аристотелевской, не желали слышать резкой критики, которая, как им казалось, нарушала их благоговение перед мастером, выявляя и подчеркивая ошибки и слабости, которые давно уже не принимались во внимание.
В течение своей жизни я убедился, что те читатели, которые прошли через гегелевскую школу, как правило, понимали мою философию гораздо лучше и легче, чем другие, и что время отдалилось от моих начинаний в той же степени, в какой уменьшилось число ученых-гегельянцев. Если сейчас есть различные признаки того, что приближается время лучшего понимания и более беспристрастной оценки Гегеля не только у нас, но и в Англии и Голландии, то я могу только приветствовать это как шаг к лучшему пониманию и более беспристрастной оценке моей собственной философии. Однако мне кажется тем более необходимым, чтобы различие между сохраняемым содержанием и совершенно ошибочным методом гегелевской философии, которое я так резко подчеркивал вначале, было теперь тщательно рассмотрено, и пусть новое издание будет этому способствовать. Ведь восстановление гегельянства по содержанию и форме неизбежно рано или поздно постигнет та же участь, что и саму гегелевскую философию в свое время, а именно: ценное содержание также будет дискредитировано ошибочной формой.
Метод всей спекулятивной эпохи от Канта до Гегеля – схоластический и романтический, ибо он исходит из веры в возможность априорного изложения интеллектуальных функций, постижения метафизического Я или сущности феноменального мира интеллектуальным восприятием, а также генетического построения или, по крайней мере, реконструкции содержания абсолютной мысли посредством сознательной спекулятивной мысли. В этом смысле Шеллинг, Гегель и Шопенгауэр – три последних великих романтика в философии. Шеллинг сделал интеллектуальный взгляд основой своего философствования, Шопенгауэр применил его к воле и тому, что он называл идеей, а Гегель привнес эту романтическую основу в схоластико-систематическую методологию. Новые гегельянцы, оставшиеся и сегодня, а также молодое поколение, подошедшее к Гегелю, лучше, чем гегельянцы 60-летней давности, поймут, что я не мог не вести неустанную борьбу с ошибочным гегелевским методом именно потому, что осознавал его, чтить трезвость индуктивного мышления в метафизике перед лицом всего спекулятивного романтизма и в то же время, наперекор презирающему метафизику zeitgeist’у, желать обновить очищенное содержание гегелевской философии и сохранить его как приостановленный момент.
Рецензии, которые получило первое издание этой книги, не побудили меня вносить какие-либо изменения в этот текст, но более близкое знакомство с историей философии со временем побудило меня вставить дополнения в различных местах. Я ответил на рецензию Мишле в «Philosophische Monatshefte», т. I, №6 (сентябрь 1868), стр. 502 – 505, на возражения Фолькельта в «Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewußten mit besonderer Berücksichtigung auf den Panlogismus», 1874, стр. 8 – 22 (второе издание под названием «NeuKantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus», 1877, стр. 261 – 273).
Недавно Болланд из Лейдена, оказавший выдающиеся услуги новому изданию сочинений Гегеля и старых работ гегельянцев, напал на мою критику диалектики противоречия. В той мере, в какой он заимствует свое оружие из старого арсенала диалектики (путаница и подмена различий, контраст и противоречие, единство и тождество), оно уже было рассмотрено в этой работе. Новым в его работе является только argumentum ad hominem [полемика по отношению к личности оппонента – wp], что я лично не имею права бороться с тождеством противоречия у Гегеля именно потому, что я сам был бы вынужден признать его в основах своей системы. Теперь я признаю единство (не тождество!) противоположных сущностей (логического и алогического по существу), а также то, что их операции, сами по себе не противоречивые, представляют себя внутри одной из них (логической) как противоречивые, и что поэтому противоречие, характеризуемое как противоречие с логической точки зрения, может быть вместе и затем представлено как то, что вместе. Но различия между мной и Гегелем заключаются в следующем.
У Гегеля обе противоречивые противоположности должны лежать внутри логического, у меня же только одна из них может лежать внутри логического, а другая должна лежать вне его. У Гегеля они должны быть тождественны, поскольку противоречат друг другу; у меня они должны оставаться вечно нетождественными, хотя и едины по существу. Для Гегеля оппозиция и ее противоречие в мировом процессе – это нечто, созданное логическим, которое человеческий разум воспроизводит в своем процессе мышления конгениально a priori из самого себя; для меня оппозиция в мировом процессе – это нечто, существующее вопреки логическому, металогический факт, и человеческий разум, не способный его понять, а тем более воссоздать, должен склониться перед апостериорным опытом этого сосуществования противоположностей, который он осуждает как неразумный. У Гегеля диалектический разум человека показывает мировому процессу его ход и провозглашает его противоречивость вершиной разумности; в моем случае антидиалектический разум в человеке осуждает антилогический основной характер мирового процесса как то, чему не суждено быть, в убеждении, что этим осуждением он одновременно исполняет истину абсолютного разума. У Гегеля разум аплодирует самосозданным противоречиям, радуется их максимально возможному росту, который преодолевается только для того, чтобы привести к еще более жестким противоречиям и еще более острым противоречиям, и видит подлинно рациональный смысл и цель мирового процесса в этой бесконечной диалектической игре преодоления и утверждения противоречия; для меня же противоречивая основа мирового процесса есть единственный, совершенно неразумный и очень печальный факт, и разумный смысл всего мирового процесса состоит только в исправлении и отмене этого неразумного факта мировой инициативы, и не, например, шаг за шагом через все новые и новые диалектические преодоления противоречий, которые в конце концов не являются противоречиями, а одним махом превращая антилогическое, противоречащее разуму, в алогическое, уже не противоречащее ему, actus в potency.
Я всегда утверждал, что действительность логических принципов (закон противоречия и т. д.) простирается лишь до власти и господства логического, т. е. до логического определения того, что и как происходит; отсюда следует, что, если существует металогическая область, логические принципы не должны иметь в ней и в ее отношениях к логическому никакой действительности и могли бы иметь в ней такую действительность только по случайности. Я выступаю против диалектики Гегеля, потому что она отменяет действительность логических принципов в области логического и только объявляет эту отмену истинной разумностью. С другой стороны, я признаю металогическую область, в которой противоречивые вещи могут быть вместе и должны быть признаны нами как вместе, но я отрицаю, что эта область все еще логична и что наш разум способен рационально мыслить вместе то, что он должен признать вместе по эмпирическим причинам. Диалектика в гегелевском смысле может означать только постепенное выдвижение и консервативное упразднение антилогического самим логическим, но не признание какого-либо антилогического, не выдвинутого логическим, и не его аннигилирующее (неконсервативное) упразднение абсолютным актом (не актом человеческой мысли).
Болланд упускает из виду все эти различия, когда считает, что может намекнуть, будто я сознательно двигаюсь в формах гегелевской диалектики и против своей воли признаю их основания.
Гегель – реалист в средневековом смысле, то есть он считает понятия реальностью, предшествующей вещам, и полагает, что в вечном процессе диалектики самые абстрактные понятия порождают свои противоположности и объединяются с ними, образуя все более конкретные. Он не различает понятия сознательного, человеческого, дискурсивного мышления и категориальные функции бессознательного, абсолютного, интуитивного мышления и не признает, что первые возникают только через абстракцию и анализ, а вторые удалены как от непосредственного восприятия сознанием, так и от дискурсивной, диалектической реконструкции сознательным мышлением. Он не признает, что ошибка в сознательном мышлении возникает только благодаря неадекватному опыту, благодаря поспешным, неполным, неточным и в этом отношении нелогичным операциям мышления, и вместо этого предается ошибке, как будто мышление само по себе может порождать противоречия в силу своей логической природы, и даже преувеличивает эту ошибку, как будто она должна порождать такие противоречия. Затем он переносит это ошибочное предположение назад, от сознательного, человеческого, дискурсивного мышления к бессознательному, абсолютному, интуитивному мышлению, разницу между которыми он никогда не прояснял для себя, так же как он никогда не прояснял невозможность дискурсивно воспроизвести способ работы первого с помощью сознания и реконструировать его результаты непосредственно a priori. Только таким образом он приходит к мнению, что логичность состоит в том, что он ставит и объединяет противоречия, к которым человек никогда не смог бы прийти без этой комбинации ложных предпосылок и ложных переносов. И только потому, что он ошибочно приписывает разуму, сначала человеческому, а затем абсолютному, способность порождать противоречивые, то есть нелогичные вещи изнутри себя, он, с одной стороны, ищет противоречия везде, где их нет, а с другой – не признает необходимости предположить независимый нелогичный принцип наряду с логическим для противоречий, реально существующих в основаниях мира. Таким образом, он должен был также не признать, что логическое не может развертываться из себя и в себе, а только в нелогическом, но что оно не сначала диалектически вырабатывает себя через процесс от самого абстрактного к самому конкретному в этом абсолютном противоречии, а сразу конкретизируется [срастается – wp] и актуализируется в конкретной мировой идее. Ошибка Гегеля заключается не в том, что он не видит мир полностью лишенным противоречий, а в том, что он утверждает противоречия там, где их нет, а именно внутри логического и логически определенной мировой идеи, и не видит их там, где они существуют, а именно в нелогическом как таковом, в мировой воле, и в металогических отношениях между нелогическим и логическим.
В данной работе речь идет не об этих последних метафизических проблемах, которые для Гегеля еще не существовали, а лишь о доказательстве того, что противоречия, которые Гегель искал в логическом, вообще не существуют, что диалектика не может порождать противоречия и что она столь же мало может логически связать противоречия, возникающие из ошибки, и тем самым установить высшее понятие.
A. Диалектика до Гегеля
1 Доплатоническая философия
Аристотель называет Зенона изобретателем диалектики. Если Парменид выводил свои утверждения о сущем непосредственно из его понятия, то Зенон использовал косвенную процедуру, демонстрируя, что человек запутывается в противоречиях через обычные противоположные допущения. Это именно то, что сегодня математики называют косвенным доказательством. Разумеется, он не гнушается использовать софистические средства для этой положительной цели, поэтому Платон говорит о нем, что он умел заставить одну и ту же вещь казаться слушателям похожей и непохожей, одной и многими, покоящейся и движущейся. (Но в любом случае эти софистические уловки оставались для него лишь средством косвенного, т. е. опровергающего противоположное, обоснования своего основного позитивного метафизического взгляда на единство и неизменность бытия.
Если Зенон положил начало субъективной диалектике, то Гераклит положил начало диалектике объективной. Если элеаты считают субстанцию главным, а изменение внешности – внешностью, то Гераклит считает процесс главным, а субстанцию – второстепенной вещью; он предпочел бы объявить ее внешностью, если бы только мог. Таким образом, оба взгляда дополняют друг друга; взгляд Гераклита даже выше, поскольку он рассматривает то, что элеаты игнорируют как случайный внешний вид, как необходимый процесс. Поэтому он выделяет самую изменчивую из чувственных субстанций, огонь или тепло, в качестве первосущества или основной субстанции. Отдельные вещи, однако, не являются, как это принято считать, чем-то постоянным, раз и навсегда законченным, но чем-то постоянно становящимся и уходящим, они постоянно создаются заново в общем потоке возникновения действующими силами, они являются пересечениями противоположных направлений действия, неустойчивым состоянием равновесия, которое меняется в любой момент. Каждое изменение – это переход одного состояния в противоположное; поскольку все постоянно находится в этом изменении, все в каждый момент находится в точке перехода между двумя противоположными состояниями. Если допустить, что слово «противоположный», употребляемое в общем смысле, уже говорит здесь слишком много и должно быть заменено на «другой» или «иной», то до этого момента все в порядке. Даже с этим можно согласиться, когда он выражает свой принцип метафорически: «Раздор, или разделение, – отец, царь и владыка всего сущего, но то, что разделено, возвращается к гармонии». С другой стороны, мы должны согласиться с критикой Аристотеля, что Гераклит нарушил закон противоречия, когда утверждал, что все всегда имеет в себе противоположности, что все есть и не есть одновременно, и что ни о какой вещи нельзя сказать ничего, чья противоположность не была бы одновременно истинной для нее. Всеобщая текучесть всех вещей, с которой Гераклит был изолирован только у греков, в буддизме развита в сложнейшую систему.
Буддизм – это не просто субъективный идеализм или абсолютный идеализм, это абсолютный иллюзионизм, т. е. он утверждает, что истинного бытия вообще не существует, а все видимое бытие – это бессущностная видимость, т. е. чистая иллюзия. Поскольку видимость как видимость нельзя отрицать, эта система предполагает, что небытие может принимать видимость бытия, и задача состоит в том, чтобы освободиться от этой видимости. Эта метафизика теперь определяет логику. Кёппен говорит («Религия Будды», т. 1, с. 598):
«Классическая, совершенная форма буддийского суждения, как она действительно имеет место на Юге, так и на Севере, фактически такова: сначала утверждать, затем отрицать, наконец, отменить утверждение и отрицание, или, скорее, обобщить и сохранить это двойное противоречие в одном, то есть сказать об одном и том же предмете: 1. что он есть, 2. что он не есть, и 3. что он ни есть, ни не есть; например: мир ограничен; мир не ограничен; мир ни ограничен, ни не ограничен. Не так, как если бы третья пропозиция выходила за пределы первых двух и положительный результат или вообще результат в развитии мысли должен был быть получен через противоположности, таким образом, чтобы каждая категория, в манере Гегеля, переходила к более высокому развитию через свое внутреннее противоречие, и таким образом диалектическая цепь проходила бы через всю систему, от низшего понятия к высшему, от первого камня до вершины. Буддизм далек от такого начала: его отрицание отрицания призвано не только утверждать, но и констатировать, что отрицательное суждение столь же пусто, как и положительное, и что все предикаты, все определения в конечном счете ничего не значат».
Но такой выход нового принципа за свои законные пределы вряд ли может быть поставлен в вину его изобретателю в то время, когда философия еще только зарождалась и не было речи о фиксированных логических принципах. Однако, с другой стороны, эксцессы этого раннего рождения, которые отрицались всеми преемниками, вероятно, не подходят для того, чтобы служить опорой для продуктов нашего века, которые претендуют на высочайшую интеллектуальную зрелость.
Из этих истоков развилась диалектика или эристика софистов, которые, будучи скептиками в этом вопросе, потеряли всякий позитивный интерес к поиску истины, а вместо этого обладают лишь субъективным тщеславием, высшей целью которого является введение своих оппонентов в противоречия и ad absurdum с помощью формального мышления и ораторского искусства, какие бы утверждения они ни выдвигали. Для них не имеет значения, хороши или плохи их доводы, развитие событий и выводы, лишь бы они достигли вопиющего успеха. Смелость, скорость, лингвистические двусмысленности и перевирание слов – вот их основные средства, а также ставший впоследствии столь важным трюк с расширением понятий или суждений за пределы тех отношений, в рамках которых только они имеют смысл или обоснованность.
Сократ согласен с софистическим скептицизмом в той мере, в какой он отрицает и разрушает то, что до сих пор считалось знанием и познанием, но не в той мере, в какой он отрицает стремление к позитивному знанию и его возможность. Поэтому его знание изначально является знанием о том, что он ничего не знает, tabula rasa, жаждущей реализации. Потребность в познании в связи с собственным незнанием, естественно, побуждает его поинтересоваться, можно ли найти знание у кого-то другого, толкает его к диалогическому методу, в котором его роль – задавать вопросы, но в котором надежда научиться чему-то у собеседников также тает через диалектический анализ их идей. В этом заключается знаменитая ирония Сократа. Однако в то же время он развивает в собеседнике положительные результаты, которых еще не было в другом: противоречия, обнаруженные в обычных идеях, требуют их исправления (обычно путем квалификации), так что при тщательном продолжении этой индуктивной процедуры и умелом использовании отрицательных примеров из общих идей возникают исправленные и очищенные понятия. Аристотель справедливо приписывает Сократу высшую заслугу такой концептуализации, которая является индуктивным процессом, поскольку восходит от частного к общему. Принцип, которым руководствовался Сократ в этом стремлении, заключался в том, что истина может заключаться только в концептуальном знании. Соответственно, дошедшие до нас аргументы Сократа также состоят из выводов, сделанных на основе умозрительной концепции в применении к конкретному случаю.
2. Платон
Платон разделяет принципы Сократа о том, что только понятийное знание может дать истину и что от обыденных представлений нефилософского сознания, преодолевая их диалектически, указывая на содержащиеся в них противоречия, необходимо восходить к истинным и наиболее общим понятиям, которые теперь не содержат противоречий. Однако, помимо более совершенного осуществления этого требования, он идет дальше своего предшественника в том, что объявляет эту индуктивную процедуру лишь первой, подготовительной половиной всей науки и возлагает вторую, теперь уже фактически систематическую ее часть на дедуктивный спуск из полученных таким образом принципов. Оба требования он объединяет в отрывке Republica VI. 511 B:
«Научись теперь познавать другую часть мышления, к которой разум сам прикасается посредством способности диалектики, устанавливая предпосылки не как принципы, но фактически только как предпосылки, как бы подступы и начала, чтобы через них дойти до беспредпосылочного, до принципа всего, и, прикоснувшись к этому, снова постигая то, что охватывается этим, таким образом спуститься до последнего, не прибегая ни к чему разумному, но так, чтобы исходить исключительно от понятий через понятия к понятиям».
Единственное, что здесь может быть неясным, – это что значит устанавливать предпосылки. Его «Парменид», страница 136, наставляет нас на этот счет:
«Кроме того, ты должен поступать и так, чтобы не только исследовать нечто как предположенное, что вытекает из предположения, но и предположить то же самое как не являющееся, если ты хочешь больше практиковаться. Например, если Многое есть, что тогда должно быть результатом для самого Многого в себе и по отношению к Многому, то вы должны таким же образом исследовать, и когда Многое не есть и что тогда должно быть результатом для Единого, а также для Многого, каждого в себе и по отношению друг к другу. Одним словом, что бы вы ни взяли за основу как бытие и небытие или что бы вы ни предположили, вы должны посмотреть, что получится в каждом случае для самого закона и для каждой другой отдельной вещи, которую вы хотите вывести, а также для всего остального в целом».
Этот отрывок и примеры из всех строго научных диалогов Платона ясно показывают, что он понимает под гипотезой или предпосылками, через которые человек поднимается к понятиям, которые следует рассматривать как наиболее общие, то есть как принципы. Далее, эта индукция или эпатаж осуществляется Платоном так же, как и Сократом, только более умело и сознательно, начиная с того, что как можно более знакомо и привычно, делая продвижение как можно более ясным и понятным на примерах и диалектически демонстрируя противоречия неточного или неверного характера общих понятий, принятых за предпосылки, так же как и диалектической демонстрацией противоречий, возникающих в их следствиях, показывается направление, в котором они должны быть изменены, чтобы они представляли истинную сущность вещей и содержали все характеристики, которыми они отличаются от других. В более систематическом варианте, чем предлагает сам Платон, полученные таким образом исправленные понятия превращаются в новые предпосылки и через сочетание с другими понятиями, полученными в параллельных исследованиях, и через дальнейшее развитие следствий во всех направлениях снова исправляются и обобщаются, пока не приходят к самому общему, принципу всего, единственной идее, которая охватывает все низшие идеи или понятия и из которой теперь все должно быть выведено в обратном порядке.
«Особенность последней процедуры, по Платону, заключается в разделении (diairesis, temnein kat’arthra). Как понятие выражает то общее, что есть у большинства вещей, так, наоборот, деление выражает те различия, по которым род различается на свои виды. Задача, таким образом, в целом такова: концептуально измерить всю область, заключенную в роде, путем полного и методичного перечисления видов и подвидов, ознакомиться со всеми разветвлениями понятий вплоть до того места, где заканчивается деление понятия и начинается неопределенная множественность видов. С помощью этой процедуры выясняется, являются ли понятия *идентичными или различными, в каком отношении они подпадают под одно и то же высшее понятие или нет, в какой степени они, следовательно, связаны или противоположны, совместимы или несовместимы; одним словом, устанавливается их взаимная связь и на основе этого знания осуществляется методичный спуск от самого общего к самому частному и к пределам понятийного мира». (Целлер, Философия греков, 2-е издание, т. II, с. 395 – 397)
Таким образом, диалектическое нисхождение Платона от принципа есть не что иное, как обратный шаг по ступеням абстракции, проделанным вверх в эпистемологическом возникновении понятий.
Против правильности процедуры возражений нет, но мы сталкиваемся со следующей альтернативой: либо процедура формирования понятий была полной и осознавала свою завершенность, и тогда нисходящая процедура излишня, поскольку все моменты, затронутые в ней, уже решены в восхождении; либо нисходящая процедура действительно предлагает нечто новое и беспрецедентное, и тогда восходящая процедура была неполной и принципы не были достаточно установлены и закреплены, чтобы сделать необходимым предоставление правильных и полных результатов в нисходящей. Но поскольку мы должны установить принцип как можно надежнее, нам также придется настаивать на полноте метода восхождения и, таким образом, объявить метод нисхождения излишним. Для нас важно следующее:
«Истинный диалектик тот, кто умеет распознать единое понятие, проходящее через множество и отдельное, и так же, наоборот, методично провести единое понятие по всей лестнице его подтипов до отдельного, а следовательно, установить взаимное отношение понятий друг к другу и возможность или невозможность их соединения». Ср. Phaedrus, 265, 261 E, 273 D, 277B, Sophistes 253 (Zeller, ibid. стр.390). Квинтэссенция философской науки: «Знать, как различать, в каком отношении каждое понятие может иметь общение друг с другом и в каком не может» (Софисты, 253).
В своей «Истории философии» Гегель, очевидно, слишком много вложил в Платона своей концепции диалектики. Так, например, «Парменид» ошибочно рассматривается Гегелем как репетиция его собственной диалектики, поскольку понятие Единого с самого начала в разных смыслах берется за основу для различных серий выводов, которые приводят к противоположным результатам. (Ср. HEYDER, Vergleich der ariostotelischen und Hegelianischen Dialektik I, pp. 109 – 113) Не желая отрицать возможность того, что даже Платон вполне мог представить себе здесь и там отождествление противоположностей в гегелевском смысле как далекий идеал, поскольку это избавило бы его от необходимости исправлять концепцию удобным объяснением противоречия истине, тем не менее следует твердо утверждать, что он не мог, осознавая эту концепцию диалектического, предаваться ей, не вступая в противоречие с самим собой. Он говорит в Republica IV. 436 B: «Ясно, что одна и та же вещь не может в одно и то же время делать или претерпевать противоположные вещи в одном и том же отношении, так что если мы обнаружим это где-либо, то будем знать, что это не одна и та же вещь, а нечто большее». В «Федре» 102 он утверждает, что великое не хочет быть малым, а малое не хочет быть великим, а когда ему возражают, что Сократ сам говорил, что противоположное становится противоположным, он отвечает:
«Тогда говорили, что противоположное состояние становится противоположным состоянием, а теперь говорят, что противоположное само по себе не может стать своей противоположностью». В «Софистах» 230 B он утверждает, «что критерием ложности является то, что два утверждения противоречат друг другу в одно и то же время об одних и тех же предметах, находящихся в одних и тех же отношениях в соответствии с одним и тем же смыслом».
Таким образом, он устанавливает закон противоречия в качестве нормы как для мышления, так и для бытия; «даже если, следовательно, одна идея проходит через многие другие или включает их в себя, – Sophistes 253 D – это может произойти только таким образом, что каждая из них остается неизменной и тождественной самой себе – Philebos 15 B -, ибо одно понятие может быть связано с другим только в той мере, в какой оно тождественно ему» – Sohistes 256 – (Zeller, Philosophie der Griechen II, 2. Целлер, Философия греков II, 2-е издание, стр. 458), точно так же, как, например, понятия бытия и небытия могут быть связаны в той мере, в какой они оба разделяют понятие различного. Платон ни в коем случае не отрицает связь понятий, без которой вообще невозможно никакое пропозициональное образование (Soph. 263 E; Theaetetus 189), но он отрицает, что понятия связаны тем, что в них разное, или что связь противоречивых вещей вообще может быть реализована. Он также не отрицает временного перехода противоположных состояний друг в друга или перехода мысли от одного понятия к другому, но он отрицает, что понятие может перейти из себя в свою противоположность или что противоположности могут возникать в нем в одно и то же время и в одном и том же отношении. (Soph. 256, начало) Два последних пункта, однако, отделяют диалектику Гегеля от здравого смысла. Если Гегель, несмотря на многократное и явное осуждение Платоном тождества противоположностей в одном и том же отношении, все же утверждает, что Платон объявил это истинной диалектикой, он опирается на один неясный и спорный отрывок из «Софиста», который, как бы его ни трактовать грамматически, в любом случае исключает гегелевскую интерпретацию. (Соф. 259, ср. «Верке» Гегеля XIV, стр. 210; также HEYER, op. cit. стр. 98f)
То, что философский метод Платона был диалектическим, действительно неудивительно, учитывая отсутствие какого-либо осознания метода вообще, учитывая модели, которые он имел перед собой, учитывая публичный и устный характер греческого общения, учитывая полное отсутствие эмпирического материала, на котором можно было бы основывать возможную индукцию, учитывая несравненную красоту и интеллектуальную глубину греческого языка, бессознательные сокровища которого ему только предстояло вывести на свет. Философствование на основе языка всегда идет по схожему пути, независимо от того, осознает он его источник или нет, и тем более в то время, когда еще неизведанные сокровища греческого языка ждали своего первооткрывателя, и это был единственный уже проторенный путь, а все остальные терялись в непроходимой пустыне. Тем не менее, Платон и сам ясно понимал, что его диалектика не способна решить поставленную перед ней задачу, что она не может ни аподиктически [логически убедительно, доказательно – wp] вести от субъективных эмпирических понятий абстракции к определенной реализации Идей как метафизических сущностей, ни обеспечить реальное, генетическое выведение чувственного многообразия вещей из априорных Идей. Однако, поскольку он требует от философии аподиктической определенности, не уступающей математике, и поскольку он хочет противопоставить диким разногласиям софистов определенное знание, он считает необходимым дать диалектике надежное основание через память и интеллектуальное созерцание. Память должна возвращать душе идеи в том виде, в каком она видела их на небесах, прежде чем стать телесной; а небесный Эрос, то есть стремление к единению с Единым и Благим, должен пробуждать интеллектуальное восприятие идеи как настоящего. Таким образом, отсутствие диалектического метода и приверженность претензии на абсолютную достоверность вызывают мифологические дополнения. Тот, кто обладает памятью и интеллектуальным взглядом, дарованным Эросом, находится за пределами диалектического метода и больше в нем не нуждается; кто не обладает ни тем, ни другим, для того диалектика также имеет лишь пропедевтическое [подготовительное – wp] значение, чтобы привести его к этим двум.
3. Аристотель
До сих пор концептуальное и научное познание со всеми его возможными различиями в методах обобщалось под термином «диалектика». Аристотель первым отделяет диалектику от собственно научных методов дедукции и индукции, которые еще Платон включал в качестве подвидов. Метафизика IV. 2. 1004 b, 25: «Диалектика есть искусство осязания и экспериментирования над теми же предметами, для которых философия есть искусство познания». Что касается дедукции и индукции, то он в целом следует Платону, но умеет определить оба метода со своей собственной научной строгостью и остротой; именно с их помощью мы получаем любое убеждение (An. pri. II. 23, 68 b, 13). Что касается отношения этих методов к принципам, то в «Никомаховой этике» VI, 3. 1139 b, 26 он говорит: «Принципы, таким образом, – это те, из которых все выводится или заключено, но которые сами уже не могут быть получены путем дедукции, а только путем индукции». Фрелих также приписывает Аристотелю, в отношении принципов разума, способность непосредственного знания, которое может только иметь или не иметь предмет, но никогда не иметь его ложным образом, но он не доказывает ни непогрешимости, ни даже возможности этого знания, ни явно использует его, ни пытается изложить такие непосредственно известные аксиомы, за исключением той, которую он (Метафизика IV, 3. 1005 b, 11) как наиболее бесспорного, признанного и безусловного из всех принципов, относительно которого невозможна ошибка, – предложения о противоречии, которое он неоднократно формулирует как в отношении мысли, так и в отношении бытия. (Метафизика IV. 3. 1005 b, 19: «Невозможно, чтобы одна и та же вещь была одной и той же в одном и том же отношении в одно и то же время». И 1011b, 15: «Мнение о том, что противоречивые высказывания не являются одновременно истинными, является наиболее определенным из всех». Даже если пропозиция противоречия недоказуема, Аристотель доказывает (Метафизика IV, 4 – 6), что невозможно не предполагать ее, поскольку с ее отменой всякая речь отменила бы свое собственное условие и тем самым саму себя. Отсюда следует, что когда он говорит о диалектическом объединении противоречий, то это может подразумеваться только в сократовском смысле, путем исправления понятий и нахождения высшего родового понятия, в котором оба могут быть объединены. Соответственно, он называет диалектический силлогизм epicheirema [для каждой посылки дается явное обоснование – wp], то есть уловкой или хитростью.
Все это становится еще более понятным, когда мы видим, что Аристотель описывает диалектику точно так же, как и Сократ. Ведь там, где знание конкретного составляет слишком неполную основу, чтобы от него можно было с уверенностью перейти к принципу, диалектика, или доказательство вероятности, должна подготовить, просеять, просветить и поддержать, устранив ложное. Как и Сократ, он исходит из общепринятого, народного представления; «ибо недоказанных изречений и мнений опытных и старших или более разумных следует придерживаться не менее, чем доказательств» (Nicom. Ethics VI, 12. 1143 b, 11), что, конечно, звучит довольно странно в устах философа. Но следующее делает его снова хорошим, а именно требование взвесить различные и противоположные мнения по какому-либо вопросу и, ввиду трудностей, вытекающих из существующих противоречий, найти выход из затруднений (aporias), в которые приводит обычный взгляд, путем сравнения различных сторон предмета с тем, что установлено иначе, и получить таким образом проясненные и очищенные от прилипшей неполноты или неправильности понятия или взгляды в качестве основы строго научной процедуры, которая теперь вступает в действие. Однако, помимо подготовки к строго научной процедуре, рассмотрение апорий, или, одним словом, диалектика, имеет и вторичное преимущество – формальное умственное упражнение и тренировка искусной аргументации.
Аристотелевская диалектика не имеет иного значения, кроме указанного. Только из несовершенства общих представлений возникают противоречия, очевидность которых диалектика призвана доказать путем исправления понятий. Диалектика не дает знания, а только обучение, подготовку и полезные указания; знание может быть получено только путем индукции или дедукции. Однако диалектика не создала ту истину, которую она дает, а извлекла ее как съедобное ядро из оболочки обычных идей и мнений; ведь там, где она выходит за их пределы, это всегда возможно только с помощью дедукции или индукции.
4. Пост-аристотелевская философия
Шеллинг говорит: «Для тех, кто понимает, не секрет, что она» (греческая философия) «закончена Платоном и Аристотелем и что все дальнейшие попытки, стремившиеся заявить о себе помимо них, были лишь отступлениями и в сущности лишь попытками рассеяться над целью, которая не была достигнута». Действительная философская сила нации была исчерпана, и оставалась отчасти практическая философия, отчасти скептицизм, отчасти мистический теософизм. Об античном скептицизме Гегель утверждает (Сочинения VI, с. 35), что он показал во всех конечных определениях понимания, что они содержат в себе противоречие и что поэтому невозможно постичь в них истину. Первая часть утверждения преувеличена, но вторая неверна; суть античного скептицизма состоит в доказательстве невозможности найти критерий истины (ср. Сочинения Канта II, с. 61—62), и поэтому никогда нельзя знать, знает человек или не знает; он считает утверждение, что нельзя знать, столь же необоснованным, как и утверждение, что можно знать. То, что скептицизм с удовольствием отвергает презумпцию знания, в частности, указывая на противоречия, – дело второстепенное, поскольку он делает лишь то, что уже делали софисты. Таким образом, античный скептицизм относится к человеческому познанию в целом, безотносительно к пониманию или разуму, а не, как хотел бы сказать Гегель, только к мышлению в той мере, в какой оно конечное (умопостигаемое). В то же время, однако, Карнеад предлагает правильную помощь в трудную минуту через концепцию вероятности.
Гегель и его школа придают особое значение триадам Прокла. В своей теории эманации Плотин предполагал, что причина сохраняется в следствии и возвращается к себе в более низкой потенции. Прокл развивает зародыш триадического ритма, содержащийся в этом, в своей теории происхождения различных кругов богов. Только совершив непростительную ошибку, отождествив отношение общего и особенного с отношением причины и следствия, его теогония низших кругов богов от верховного божества в то же время становится разворачиванием понятий от en [бытия – wp]. Насколько мало он все же признает триадический ритм, видно из того, что, хотя он и придерживается его в умопостигаемом, в интеллектуальном он заменяет триады семибожиями [семь вещей – wp], а именно потому, что планет семь! С низшими «бесчисленными» богами, однако, он делает лишь слабые попытки категоризации, осознавая их неадекватность. Целлер, который сам вышел из гегелевской школы и лишь позднее отпал от нее, говорит о нем (Философия греков III, 2, 419): «Прокл – схоластик насквозь; он обладает редкой силой логического мышления» (а именно в концептуальном разборе),
«но это мышление по своей природе несвободно, сковано авторитетами и всевозможными предпосылками; для него важна лишь формальная обработка того или иного учения, и чем больше внимания и энергии он уделяет этой задаче, тем сильнее в нем неизбежно проявляется оборотная сторона всякой схоластики, бесплодный и однообразный формализм».
Это последний отросток нового платонизма, который стремится заменить и скрыть полное отсутствие положительных содержательных достижений строгостью формального исполнения внешне принятой и с самого начала догматически зафиксированной схемы, деятельностью, которая может показаться нам лишь бесполезной уловкой и которая, чтобы стать задачей всей жизни, предполагает самую удручающую бедность производительных сил и немыслимую для других времен аберрацию интеллекта. Как возвышенно выглядит отказ от серьезности скептицизма в сравнении с этим образованным знанием! Что мы можем подумать об учености человека, который, подобно Проклу, посвятил пять лет величайшего усердия работе из 70 тетрад над существующими оракулами и выразил желание, чтобы все древние сочинения, кроме оракулов и «Тимея», были уничтожены! Если, с другой стороны, Прокл предстает как уважаемый комментатор Евклида, то такая проницательная интеллектуальная деятельность, движущаяся в шнурованных ботинках непересекающихся форм, вполне совместима с умом, который проявляет самые болезненные отклонения, как только он свободно доверяет себя полету собственной силы. Точно так же мы обязаны Сведенборгу, величайшему духовному провидцу всех времен, множеством полезных технических изобретений и усовершенствований в различных практических областях.
5. Переход к современности
Подобно быстро распадающейся империи Карла Великого в истории государств, система Иоганна Скота Эригены возникает как ослепительно великолепное, но незрелое и незначительное явление в истории философии. Опираясь на традиции греческих отцов церкви и часто находясь в удивительном согласии с философией санкхьи, он выступает как недоношенный Спиноза в своем пантеистическом общем взгляде, а также во многих восхитительных деталях. Прежде всего он подчеркивает бесконечность Бога, которая не допускает, чтобы он отличался от своих созданий, поскольку в противном случае он был бы ограничен ими, и которая приводит к тому, что мы можем присоединять к нему все предикаты только в неистинном и символическом смысле, поскольку каждый предикат определял бы его, т. е. делал бы его бесконечным. Но и отрицания применимы к нему лишь неаутентичным образом, поскольку они также ограничивали бы его (например, покой). Не могут считаться актуальными даже такие выражения, которые призваны обозначить его возвышенность над конечными определениями или над выражениями противоположного характера, например, когда Дионисий Ареопагит говорит, что он «выше бытия»; ведь и в этом случае он еще не был бы признан невыразимым. Но, тем не менее, даже если ни один предикат не может быть применен к нему, все они содержатся в нем; ибо что может быть такого, что не содержится в нем? Поскольку нет ничего, кроме Бога, все соединяется в Нем в невыразимом единстве. – Здесь мы видим, как из тех же причин, что и в истории новейшей философии, проистекают те же следствия, а именно: стремление не нарушить абсолютность Бога, которая принимается как данность, прекращение всякого познания и смешение всех противоположностей и противоречий в Абсолюте.
Если учение Иоанна Скота об Абсолюте тщетно, подобно лепету ребенка, пытается выразить невыразимое и вскоре довольствуется познанием Бога в его явлениях (теофаниях), то честолюбивый дух Николая Кузануса, напротив, делает попытку действительно постичь непостижимое, пусть даже в бесконечном приближении, и действительно удивительным образом приближается к Гегелю в его теории познания.
Николай хорошо знает Иоганна Скота, но он погружен в мистицизм Средневековья, и греческая философия, особенно Платон и Парменид, хорошо ему знакома. Помимо обычных выводов и введений абсолюта, есть один, свойственный ему, напоминающий Шеллинга:
«То, что невозможно, не может произойти. Поэтому то, что происходит, обязательно основывается на возможности произойти; возможность – это прежде всего становление, а значит, вечность. Но бытие-в-возможности не может привести себя к актуальности, иначе оно было бы в актуальности раньше, чем в действительности; поэтому оно должно иметь свое основание в актуальном бытии, которое обосновывает все возможное бытие и является основанием всего, что может быть. Однако это актуальное бытие не может быть раньше возможного бытия, поскольку последнее, как уже было сказано, вечно. Поэтому и то, и другое, и их связь в едином основании возможного бытия должны быть установлены как одинаково вечные. Это единство действительности и возможности (potentia) в вечном бытии и есть то, что Кузан называет Богом». (Риттер, История философии, т. IX, с. 161)
Он полностью согласен со взглядами Скота на Абсолют, но не смиряется с тем, что Бог реализуется так же кратко, как Скот.
Николай выделяет в человеке три уровня: sensus, ratio (то, что Гегель называет пониманием) и intellectus (то, что Гегель называет разумом), к которым добавляется четвертый: veritas ipsa, quae deus est. [Путь познания, ведущий к этой серии стадий, обратен пути порождения вещей, поскольку Бог сначала производит интеллект, порождающий рациональное мышление, которое затем погружается в чувственное и физическое. Все четыре ступени сливаются друг с другом путем постепенного нарастания, причем каждая следующая более высокая ступень является точностью (praecisio) следующей более низкой. Чувство не может ничего делать, кроме как чувствовать; оно не способно к отрицанию, а значит, и к различению ощущаемого, что уже относится к компетенции разума. Между sensus и ratio в качестве промежуточной ступени помещается imaginatio, чувственные образы которой сопровождают все мышление ratio, в то время как intellectus находится за пределами всех образов воображения, даже над временем и миром (De docta ignorantia III. 1 и 6). Поскольку именно ratio различает, именно ratio первым начинает распознавать противоположности, что и является его настоящим делом. Она признает их только как различные и приступает к их обоснованию в соответствии с законом противоречия. Понятия, которые образует ratio, не имеют истинного бытия сами по себе, поскольку общее есть только в частностях, но они «notionalia a ratione nostra elicita, sine quibus non posset in suum opus procedere» [фикции, порожденные нашим разумом, без которых он не смог бы продолжать свою работу – wp]. Таким образом, как и у Гегеля, они имеют только субъективное существование. Поскольку ratio цепляется за конечное и никогда не может прийти к бесконечному, к которому оно, тем не менее, должно стремиться (например, в математике), но поскольку конечное не может быть познано без бесконечного, а только из него, возникает необходимость перейти через ratio к intellectus. Там, где соотношение в математике имеет дело с бесконечным, оно затрагивает intellectus, поскольку противоположности (например, дуга окружности и прямая линия) начинают совпадать. Это единство противоположностей, к которому стремились в высшей степени соотношения, теперь фактически реализуется в intellectus. Кузан сравнивает это единство с единством конкретных различий в высшей общности, корне вида. Таким образом, intellectus стоит на горизонте вечности, где охвачены настоящее и ненастоящее, бытие и небытие и т. д.
Но вскоре за ним следует хромой вестник. Человек пускается в пустынный бесконечный процесс приближения, и только потом, когда он достигнет этой бесконечно далекой цели, высшего уровня понимания, он прикоснется к самой истине, которая есть Бог. Таким образом, человек в конце концов понимает, что все усилия, затраченные на восхождение, были бы обмануты, если бы конечное знание мирских вещей, достигнутое в процессе, не помогло ему в этом, и поэтому лучшим в этом учении остается ссылка на путь, восходящий снизу, и на знание мирских вещей. Николай, должно быть, и сам чувствовал это, поскольку ищет дополнение к нашей docta ignorantia в мистическом, непосредственном осознании Бога, в вере. Он настолько высоко ставит веру, что предпочитает твердость веры бедных и грубых людей учености ученых. Он уповает на божественную благодать, которую считает единой с высшей степенью природы, что она может даровать нам то, в чем природа, казалось бы, нам отказала, но чего мы жаждем. От веры мы должны ожидать непосредственного видения Бога, которое может быть даровано нам только в восторге (экстазе), отрывающем нас от мира.
Если эта доктрина наиболее похожа на гегелевскую в своем различении ratio и intellectus и принципе coincidentia contrariorum (совпадения противоположностей), то она существенно отличается как самостоятельным значением, придаваемым sensus, так и высшим уровнем, поставленным над intellectus, а также бессильным, бесконечным процессом восхождения. Для нас, однако, важнее всего то, что Николай не использует диалектические принципы для какого-либо метода, а лишь приводит с их помощью несколько разработанных примеров диалектической трактовки, в остальном же остается с восходящим методом, который, по сути, должен быть назван индукцией. Тем не менее, в истории философии напрасно искать явление, столь тесно связанное с принципами гегелевской диалектики, которую Гегель в своей «Истории философии», как ни странно, учитывал так же мало, как и Иоанн Скот.
Джордано Бруно добавил мало нового к учению Николая в том, что касается диалектики. Он особенно подчеркивал, что только в самом Боге все противоположности едины одновременно и без различия времени, тогда как во всех мирских вещах совершенство состоит лишь в том, что все и вся может и должно со временем стать всем и вся. Он опирается на уже высказанное Аристотелем положение о том, что наука о противоположностях едина (поскольку они обе принадлежат к одному роду). В концептуальном плане он ищет точку соединения противоположностей, понятия-посредники, через которые разрешаются кажущиеся противоречия мира.
«Но найти точку соединения – это еще не самое великое, а вот развить из нее также и ее противоположность – это и есть настоящая и глубочайшая тайна искусства». («О причине, принципе и едином», диалог IV – стр. 275; V – стр. 291)
Таким образом, мы видим, что Бруно, если, с одной стороны, он минимизирует суровость Николая для применения к мирскому, то, с другой стороны, добавляет требование, которое увеличивает сходство с Гегелем. Конечно, между ними все же есть разница, поскольку у Бруно философ должен развивать понятие из его противоположности, тогда как у Гегеля понятие развивается само по себе. То, что диалектика Николая не была для Бруно главной, видно уже из того, что он рекомендует великое искусство Раймунда Луллия с той же, даже с большей теплотой, еще более бессодержательным концептуальным схематизмом, чем у Прокла, не имея, как последний, преимущества опереться на существующую великую систему, какой был для Прокла новый платонизм.
Гегель утверждает, что Бог Спинозы ведет себя диалектически и несет в себе противоречие, будучи причиной самого себя. Если бы Спиноза понимал это так, как понимает Шопенгауэр, сравнивая его с Мюнхгаузеном, вытаскивающим себя из болота за собственную косичку, то Гегель был бы прав. Спиноза, однако, имеет в виду, что Бог есть причина в другом отношении, следствие в другом; а именно: как natura naturans [творческая сила как первооснова вещей – wp] он есть причина самого себя как natura naturata [воплощение сотворенных вещей – wp], или, переводя на современные шеллингианские термины, он как воля или потенция есть причина самого себя как воля или actus. Но в этом нет ничего диалектического или противоречивого. Более того, математически-дедуктивный метод Спинозы полностью противоречит гегелевской диалектике.
6 Кант.
Кант также знаменует собой поворотный пункт в развитии философии. До этого момента вся философия была сосредоточена на вещах; отныне она сосредотачивается на мышлении. Основной вопрос Канта: «Как возможны синтетические априорные суждения?». Он спрашивает об условиях возможности аподиктически определенного и в то же время содержательного познания, при условии, что такое познание существует, в чем он не сомневается. Эти условия и образуют новую философию. Тем не менее, метод в более узком смысле для теоретической философии является эмпирико-психологическим; он просто предлагает иное объяснение фактов, подлежащих объяснению, чем то, которое было принято до сих пор. (Ср. Сочинения Гегеля VI, с. 85—86) В результате он пришел к выводу, что пространство, время, причинность и другие категории являются лишь формами чувственности и понимания, не обладающими трансцендентной реальностью, т. е. не способными служить определением для реализации истины, выходящей за пределы субъективной сферы. Таким образом, если Кант утверждал, что мышление, движущееся в рамках детерминаций понимания, не может прийти к трансцендентной истине, к познанию умопостигаемого, то это не потому, что детерминации понимания конечны, как утверждает Гегель (Werke VI, стр. 123), – ибо пространство и время, формы чувственности, бесконечны и все же лишь имманентны, – но потому, что они имманентны формам субъективных способностей познания, которые не в состоянии ничего сказать о трансцендентном, ибо они вообще не принадлежат ему, а лишь субъекту и присущи ему. Тот факт, что Кант совершает непоследовательность, используя впоследствии только что исключенные категории для познания умопостигаемого, не имеет никакого значения. Что касается самих категорий, то он выдвигает двенадцать из них с наивным замечанием, что, хотя он и владеет их дедукцией, он желает сохранить их при себе по частным причинам. Из двенадцати, которые приводит Кант, как замечает и Гегель (Werke I, стр. 162), три категории модальности вообще не принадлежат к числу категорий, поскольку они представляют собой лишь различные способы представления субъекта, которые не изменяют [verändern – wp] эмпирического объекта. Что касается девяти оставшихся, то я ссылаюсь на критику Шопенгауэра в работе «Мир как воля и представление» (третье издание, т. I, с. 539—559).
Гегель придает особое значение трехчленному делению категорий у Канта, и действительно, оно оказало большое влияние на Фихте; но нетрудно видеть, на каких внешних основаниях и с какой принудительной вложенностью проводится это деление, даже если не принимать во внимание откровенную ложь, которая в нем содержится (например, понятие «взаимного действия»).
Как только Кант сделал своим принципом разделение имманентного и трансцендентного, он, естественно, должен был всячески поддерживать эту новую доктрину и, возможно, показать, что благодаря ей устраняются многие трудности прежней точки зрения. Из этого стремления проистекают паралогизмы и антиномии, которые, однако, несомненно, можно считать ошибочными по отношению к тому, что они призваны доказать. Так, Гегель говорит о паралогизмах (Сочинения VI, с. 101):
«То, что Кант в своей полемике против старой метафизики устранил эти предикаты из души и духа, следует рассматривать как великий результат, но „почему?“ в его случае совершенно ошибочно».
А об антиномиях он говорит (Сочинения VI, с. 105):
«Но теперь, действительно, доказательства, которые Кант приводит для своих тезисов и антитезисов, следует считать просто мнимыми доказательствами, поскольку то, что должно быть доказано, всегда уже содержится в предпосылках, из которых оно предполагается, и только с помощью пролитической апагогической [косвенное доказательство путем демонстрации ложности противоположного – wp] процедуры создается видимость опосредования». (Ср. Гегель, Werke III, pp. 216—226, 274—279 и критику Шопенгауэра в Welt als Wille und Vorstellung, op. cit. pp. 583—594).
Последний совершенно правильно говорит, что третья и четвертая антиномии тавтологичны. Вторая антиномия довольно проста. Дискретная составная субстанция, конечно, может состоять только из частей, а некомпозитная субстанция должна быть простой, но делимой, если она непрерывно заполняет пространство. (Но вопрос о том, является ли материя дискретно составной или непрерывно делимой, никогда не может быть решен априори, а только путем индукции. – Поэтому из антиномий остается вопрос о том, конечен или бесконечен мир в пространстве, времени и причинности. Здесь важно, приписывает ли человек миру трансцендентную реальность или нет. Если да, то бесконечность мира становится невозможной во всех трех отношениях; ведь реальная и совершенная бесконечность была бы противоречием. Такова позиция защитника тезиса, и только с этой позиции он строит свои аргументы. Защитник антитезиса, напротив, стоит на противоположной точке зрения, отрицающей трансцендентную реальность мира; только с этой точки зрения, как показывает Шопенгауэр на страницах 592—594, его аргументы приемлемы.1 Таким образом, кантовская точка зрения, отнюдь не являясь решением антиномии, представляет собой лишь предпосылку одной стороны, а общая точка зрения – другой. Отсюда следует, что на самом деле антиномии нет ни с кантовской, ни тем более с общей точки зрения, а есть только видимость антиномии из-за смешения обеих точек зрения. Настолько очевидно, что Кант придумал эти антиномии ради своего собственного решения, к тому же неудачного, что невозможно понять, как можно было с разных сторон придавать им столь большое значение или как Гегель мог настаивать, после своего собственного суждения, что противоречие доказано как нечто необходимое антиномиями Канта и что эту истину осталось перенести только с четырех космологических антиномий на все остальные вещи.
Но давайте рассмотрим, что такое антиномии в глазах самого Канта. Он объявляет их заблуждениями рассудка и, разумеется, неразрушимыми (необходимыми) заблуждениями, поскольку рассудок не в состоянии освободиться от них непосредственно, а лишь опосредованно, через реализацию трансцендентальной идеальности пространства, времени и причинности. Поддавшись инстинктивной видимости объективности, интеллект тем самым попадает в противоречие, которое состоит в том, что обе стороны кажущегося противоречия утверждаются как ложные (только через косвенные доказательства как истинные). Но, открыв трансцендентальную идеальность мира, интеллект получает новое родовое понятие, которое сводит казавшееся ранее общим противопоставление тезиса и антитезиса к частному. Как только противоречие становится конкретным, оно перестает быть противоречивым; пропозиция исключенного третьего (что мир должен быть либо конечным, либо бесконечным), таким образом, перестает быть применимой к нему, поскольку теперь уже найден allo genos [другой род – wp], и противоречие оказалось лишь кажущимся, несуществующим. В этом нет ничего от диалектических принципов Гегеля. Далеко не разум подходит к противоречию, с которым может справиться понимание, и осуществляет умозрительное объединение его, все решение затруднения исходит скорее от понимания, осуществляется чисто по правилам формальной логики понимания и заканчивается тем, что единство противоречивого выдается за осуществленное, а противоречие представляется лишь кажущимся, возникающим из неполноты знания и отменяемым завершением знания. Если, тем не менее, Кант представляет антиномии как непосредственно неуничтожимую видимость, то только потому, что практический инстинкт eo ipso вынужден воспринимать мир как реальность, и это практическое инстинктивное убеждение не может быть уничтожено никаким исправлением со стороны рассудка. Но этот инстинкт практически необходим, потому что без него мы бы умерли с голоду.
Наконец, что важно у Канта для дальнейшего использования, так это понятие разума. Особенностью критического метода Канта было то, что для каждой особой деятельности разума он выделил особый факультет. Если остальные десятки факультетов вскоре были преданы справедливой участи забвения, то его факультет разума, к сожалению, имел несчастье вначале причинить много бед дурным примером органа для непосредственного познания, не опосредованного никакой интеллектуальной деятельностью, даже если она все же была исчерпана самим Кантом в практических постулатах. Если позволительно взглянуть на бессознательный психологический генезис этого поглощения в сознании Канта, то его, вероятно, следует представить себе таким образом, что смелый мыслитель, содрогаясь перед зияющей, всепожирающей бездной небытия, которую разверзла его первоначальная «Критика чистого разума» (ср. Kant, Werke II, стр. 477 ниже), под влиянием пиетистского воспитания своей юности и тоскуя в глубине души по внушительной позитивности христианства, которая еще не была преодолена никакими средствами, прибег к последнему средству покаяния и с помощью простого постулата: «Я желаю, я надеюсь, я верю» отказался от идолов, которые только что были сметены разумом: Бог, свобода и бессмертие, тайком пробравшиеся обратно через заднюю дверь, торжественно реституировались с благочестивым духом. Если, тем не менее, он иногда пытается обмануть себя, будто моральный закон со всем его содержанием может быть выведен из чисто формального принципа, а остальные постулаты теперь следуют из него, то эта ошибочная попытка самообмана, даже если она нашла в Фихте охотного подражателя и передатчика в теоретическую область, является лишь доказательством того, как сильно Кант жаждал заменить прямой категорический характер практического разума, если это возможно, на тот, который опосредован формальными принципами понимания. Если он не преуспел в этом для практической области, то он никогда не пытался сделать это для теоретической области.
Конечно, Кант и здесь признает различие между разумом и пониманием; но Шопенгауэр уже показал в своей «Критике» (W. a. W. u. V., op. cit., pp. 511—513, 521—523), насколько нечетко он определяет и разграничивает эти понятия, особенно понятие разума. Единственное, что для нас здесь важно, – это признание самого Гегеля, что разум Канта не дает ничего положительного в теоретическом отношении, т. е. что он фактически не выходит за пределы признанной способности рассудка (Werke VI, p. 114:
«Но теперь, по Канту, деятельность разума состоит, собственно говоря, только в том, чтобы систематизировать материал, доставляемый восприятием, путем применения категорий, т. е. привести его во внешний порядок, и его принципом в этом является только принцип непротиворечия».
И (Сочинения VI, стр. 116):
«В то время как, как было отмечено в предыдущих параграфах, теоретический разум, по Канту, должен быть лишь отрицательной способностью бесконечного и, не имея никакого собственного положительного содержания, ограничиваться пониманием конечной природы эмпирического знания, он, с другой стороны, прямо признает положительную бесконечность практического разума».
Насколько сам Кант был против всех диалектических начинаний, всех попыток вывести новые неизвестные истины из логической обработки известных понятий, он выразил так открыто и категорично, как будто предвидел всю аферу, которая должна была подняться над его могилой («Критика чистого разума», второе издание, стр. 630):
«Человек не больше желает стать богаче в проницательности от одних только идей, чем торговец в богатстве, если для улучшения своего состояния он захочет добавить несколько нулей к своему денежному балансу».
Сочинения II, стр. 62:
«Эти (формально-логические) критерии, однако, касаются только формы истины, то есть мысли в целом, и являются вполне правильными, но недостаточными. Ведь хотя познание и хотело бы полностью соответствовать логической форме, то есть не противоречить самому себе, оно все же может противоречить предмету. Таким образом, чисто логический критерий истины, а именно соответствие познания общим и формальным законам понимания и разума, действительно является conditio sine qua non [основной предпосылкой – wp], следовательно, отрицательным условием всякой истины: но логика не может пойти дальше, и логика не может обнаружить ошибку, которая касается не формы, а содержания, никаким пробным камнем».
Страница 63-я:
«Тем не менее, есть нечто настолько манящее в обладании столь очевидным искусством придавать форму разума всему нашему знанию, хотя можно оставаться очень пустым и бедным в отношении его содержания, что эта общая логика, которая является просто каноном для суждения, была использована, как органон для реального производства, по крайней мере, для ослепительного произведения объективных утверждений, и таким образом, в действительности, была злоупотреблена. Общая логика теперь, как отрицаемый органон (эта логика видимости), называется диалектикой».
Ср. также изложение этих положений на с. 64—65. Истинность содержания, с другой стороны, по Канту, может быть получена только из опыта (Кр. д. р. В., указ. соч., с. 194—195):
«Для того чтобы познание имело объективную реальность, т. е. относилось к объекту и имело в нем значение и смысл, предмет должен быть способен быть каким-то образом дан. Без этого понятия пусты, человек действительно мыслит, но на самом деле ничего не познает посредством этого мышления, а просто играет с идеями. Дать объект, если это опять-таки не означает лишь косвенно, а прямо представить его в созерцании, – это не что иное, как соотнести его концепцию с опытом (реальным или возможным)».2
7. Фихте
В «Фихте», когда вещь-в-себе превращается в абстрактное Не-Я, задаваемое Я, и, таким образом, все содержание сознания эксплицируется как произведенное Я, то он оказывается рядом с обвинением в попытке с позиций субъективного идеализма повторить усилия, предпринятые Спинозой с точки зрения наивного безразличия субъективного и объективного. Речь идет о том, чтобы вывести систему философии чисто дедуктивным путем, отталкиваясь уже не от определения абсолютной субстанции, данного Спинозой, а от формальных предпосылок всякого мышления: закона тождества и противоречия. Спиноза мог эффективно дедуцировать из своей субстанции, потому что он изначально охватывал все содержание в ней. В отличие от него, Фихте в своей «Науке познания» допустил существенную ошибку, пытаясь вывести все содержание из чисто формального принципа, лишенного всякого содержания. Между тем, Гегель прекрасно понимает, что «из абсолютной формальности не может быть достигнута никакая материальность» (Сочинения I, стр. 281). Поэтому Фихте был настолько далек от того, чтобы оспаривать законы тождества и противоречия, что вместо этого он выставляет их в качестве формальных принципов, из которых он выводит всю свою систему.
Цели, которые Фихте изначально ставил перед собой, заключались, с одной стороны, в дедукции категорий Канта и, с другой стороны, в дедукции этики Канта. Если мы рассмотрим способ его дедукции, то он говорит («Wissenschaftslehre», первое издание, стр. 25) примерно следующее:
«Результат предыдущего таков: если Я = Я, то Я не=Я. Если бы этот вывод был верен, то тождество сознания, единственное абсолютное основание нашего знания, было бы отменено. Здесь возникает задача найти нечто, с помощью чего этот вывод может быть верным без отмены тождества сознания. Мы должны спросить себя, как А и -А, бытие и небытие, реальность и отрицание могут быть мыслимы вместе, не аннигилируя и не отменяя друг друга. Не следует ожидать, что кто-то ответит на этот вопрос иначе, чем следующим образом: они будут ограничивать друг друга. Ограничить что-либо означает: отменить его реальность отрицанием, но не полностью, а лишь частично. Поэтому понятие ограничения включает в себя и понятие делимости (квантитативности вообще). Решение вышеуказанного противоречия таково: эго устанавливает себя как ограниченное не-эго, а эго устанавливает не-эго как ограниченное собой; то есть и эго, и не-эго устанавливаются как делимые, и часть реальности, а именно та, которая приписывается не-эго, изымается из эго, так что ему остается только остальное».
Таким образом, принцип диалектики Фихте четко выражен.
Он никогда не выводит антитезис из тезиса, как это делает Гегель, но оба они даны ему одинаково либо как принципы, либо развиты из третьего. Тезис и антитезис всегда выражены в пропозициональной форме, а не просто как понятия; их следует понимать как одно и то же суждение, один раз с положительной, другой раз с отрицательной копулой; таким образом, они представляют собой противоречие в его чистом виде. Однако сразу же становится ясно, что это противоречие было введено в дело лишь неточностью словесного выражения; ведь синтез отменяет всеобщность, в которой выражались тезис и антитезис, и ограничивает их смысл и действительность таким образом, что теперь каждая из пропозиций говорит о чем-то своем, и они больше не противоречат друг другу. Таким образом, синтез также имеет форму двойной пропозиции, две стороны которой представляют собой исправленные тезис и антитезис. Эта синтетическая двойная пропозиция как таковая уже не содержит противоречия, но возможно возникновение новых противоречий в каждой из двух частей этой двойной пропозиции, и это возникновение разрешается таким же образом путем взаимного ограничения. Здесь кроется возможность прогресса дедукции. Так, например, в первом синтезе: «Эго позиционирует себя как ограниченное не-эго и позиционирует не-эго как ограниченное собой», теоретическая философия выводится из первой части, а практическая – из второй. Полностью и всецело реализованная схема диалектики Фихте […] уходила бы, таким образом, в бесконечность. Только произвольно возникающая сила практического разума способна прервать теоретическое развитие, но и практическое развитие, со своей стороны, также застревает в этом бесплодном бесконечном процессе.
Если мы теперь спросим себя, чего же на самом деле способен достичь метод Фихте, то не останется ничего, кроме старого сократовского исправления понятий, исправления ошибочных предпосылок путем такого изменения их, при котором исчезают противоречия, вытекающие из этих ошибок. Однако видимость развития позитивного знания исчезает еще до простого соображения, что никакое материальное знание не может быть выведено из чисто формальных принципов, но и его можно без труда устранить в деталях, показав, как отдельные детерминации частично искусственно вставлены, а частично (например, причина) им придается совершенно неполное значение. Но если мы спросим, на чем, по мнению самого Фихте, покоится вся его система, т. е. как он приходит к своим принципам, то они для него не что иное, как «факты эмпирического сознания». Все развивается для него из принципов понимания, или, скорее, он, мыслитель, развивает определения знания из этих высших фактов эмпирического сознания по общепринятым законам понимания.
Наконец, я хотел бы добавить суждение Гербарта о диалектических тенденциях Фихте. Сочинения Гербарта, V, стр. 259:
«Что немыслимое не может быть, – что тот отменяет свое мышление, кто хочет мыслить немыслимое, оно есть, – что поэтому, когда ход умозрения привел к такому пункту, от него надо совершенно отказаться; это сразу же очевидно». Так, после того как Фихте проанализировал понятие «я» таким образом, что признал его немыслимым, одно это, без более полного развития всех противоречий в «я», должно было побудить его полностью отказаться от первой предполагаемой реальности «я» вместе с предполагаемым интеллектуальным представлением о нем.»
Страница 260:
«Но Фихте однажды позволил своей воле влиять на его мышление. Он верил, что обрел свободу в эго, и не хотел расставаться со свободой. Поэтому он сохранил немыслимую мысль; он придал ей авторитет, претендуя на интеллектуальный взгляд, ибо именно так он считал состояние, при котором немыслимое удерживается как данность внутреннего восприятия»; И таким образом один из величайших мыслителей, когда-либо живших, стал родоначальником энтузиазма, который, избрав центром так называемое абсолютное тождество и объединив его со спинозизмом, платонизмом, физикой и физиологией, занял место философии в широком кругу и вытеснил философию из еще более широкого круга, потому что люди не хотели терять рассудок из-за интеллектуального взгляда.»
Сам Гербарт дает расширенное развитие сократовской концептуальной коррекции в своем «Методе отношений».
8. Шеллинг
В свой догегелевский период (трансцендентальный идеализм и натурфилософия) Шеллинг в основном следует методу Фихте, за исключением того, что он обращается с ним более свободно и в определенной степени более художественно и берет в качестве отправной точки тождество субъекта и объекта, к которому, как он считает, можно прийти только через трансцендентальное представление о разуме, хотя в Werke I. 10, с. 147—151, он так осторожно ограничивает значение и предмет этого трансцендентального воззрения, что, если бы он никогда не имел в виду ничего другого, его жалоба на неправильное понимание этого понятия была бы вполне обоснованной, Он называет используемый им метод синтетическим и набрасывает его схему в несовершенном виде следующими словами (Werke I. 3, p. 412:
«Две противоположности, a и b (субъект и объект), объединяются актом x, но в x появляется новая антитеза c и d (разумное и ощущаемое), акт x таким образом сам снова становится объектом; сам он объясняется только новым актом = z, который, возможно, снова содержит антитезу, и т. д.».
Для него и возникающее противоречие не является чем-то реальным, а лишь видимостью, которую необходимо уничтожить, найдя средний термин, связывающий противоречия таким образом, что кажущееся противоречие исчезает. Силе мысли, однако, не удается уничтожить противоречие одним махом, до самых дальних уголков, но она находит, так сказать, лазейки, в которые оно пробирается и из которых его нужно постепенно изгонять. Так, он говорит (Сочинения I. 3, с. 538):
«Для этого противоречия должно быть найдено посредствующее понятие… При решении этой проблемы мы поступаем так же, как и при решении других проблем, а именно: определяем проблему все ближе и ближе, пока не останется единственно возможное решение».
В другом месте (Werke I. 3, стр. 562) он объявляет время общим посредником для разрешения противоречий. Если рассмотреть такие примеры, как Сочинения I. 3, с. 542, то становится совершенно ясно, что для Шеллинга противоречие возникает только из неправильной, субъективной концепции и что его устранение есть истинное уничтожение и доказательство его простого появления через исправление концепции. В Сочинениях II. 1, с. 301, он говорит: «Нужно действительно мыслить, чтобы понять, что противоречивое не может быть мыслимо». Здесь он четко выражает свою приверженность постулату о противоречии. Когда он говорит о тождестве противоположностей, это лишь неправильное употребление слова, ибо под этим он понимает вовсе не «dieselbigkeit» или «Einerleiheit», а «органическое единство» (ср. Werke I. 7, pp. 421—422), то есть либо реальную связанность (ср. Werke I. 4, pp. 389,390), либо концептуальное единство идейно противоположного; ни то, ни другое не подразумевает противоречия. (Гегель, однако, как мы увидим, использует слово «тождество» то в шеллинговском, то в собственном [аристотелевском] смысле и тем самым создает безграничную путаницу).
В натурфилософии Шеллинга синтетический метод все больше и больше превращается в бесплодный, игривый схематизм. Гегель говорит об этом (Сочинения XV, с. 614):
«У Шеллинга, с другой стороны, форма становится скорее внешней схемой, а метод – приложением этой схемы к внешним объектам. Эта внешняя схема занимает место диалектической прогрессии; тем самым натурфилософия теперь дискредитировала себя, в частности, тем, что стала действовать совершенно внешним образом, взяв за основу готовую схему и подведя под нее взгляд на природу».
Метод, который должен придать философии аподиктическую определенность и возвести ее в абсолютную науку, называется здесь конструированием. Конструирование – это реальное уравнение общего и особенного в чистом созерцании (Werke I. 5, pp. 131—132). Единство общего и особенного, которое Гегель называет понятием, Шеллинг называет идеей; то, что таким образом конструируется, по Шеллингу, есть только идея, и, собственно, только одна идея, а именно для философа – идея абсолюта, как для геометра – идея пространства (Werke I. 5, с. 135). Продуктивным в этой конструкции является надиндивидуальный разум; ему противостоит непродуктивная индивидуальная рефлексия, которая либо просто пассивно наблюдает за этим производством, задерживая его [retardiert – wp] и тем самым заставляя каждый момент производства стоять на месте, либо выведывает ответы, задавая вопросы (Werke I.9, pp. 237—238 и 243). Это внутреннее взаимодействие вопросов и ответов между разделенными сторонами мысли и есть истинная философская диалектика (Werke I. 10, с. 98; I. 8, с. 201—202; I. 9, с. 238—239).
Первоначальное, еще нерасчлененное единство, из которого впервые возникают все различия, называется у Шеллинга в первый период «абсолютным тождеством», во второй – «безразличием»; синтетическая единица связи, в которую вступают дифференцированные противоположности, называется в первый период «безразличием» или, строго говоря, «тождеством» (без добавления «абсолютного»), а во второй – только «тождеством» (Werke I. 6, с. 209; I. 7, с. 154, 406, 422, 433). Восстановленное единство также называется победой единства над оппозицией или единством единства и оппозиции (Werke I. 4, стр. 295; I. 2, стр. 390; I. 7, стр. 445). Именно здесь возникает трудность с тройственной природой. Вначале триаду составляли Тезис, Антитезис и Синтез, теперь – исходное единство, вытекающая из него оппозиция и единство слияния. В первом случае исходное единство, безразличие, предшествующее дифференциации, отсутствует, во втором – Тезис и Антитезис воспринимаются как противоположности в одном. Именно поэтому Иоганн Якоб Вагнер считал, что сможет улучшить философию Шеллинга, переделав ее в смысле четырехчастности. – Рефлектирующий интеллект представляет себе антитезу либо как «и – и», либо как «или – или», либо как «ни – ни» и, таким образом, запутывается в противоречиях, пытаясь удержать определения антитезы как односторонние, тогда как абсолютно простой абсолют может быть познан только через простой (интеллектуальный) взгляд (Werke I. 6, pp. 23—25; I. 7, pp. 151—155). Но здесь бытие и истинное познание свободны от противоречий, и только конечная дискурсивная рефлексия рассудка создает противоречия в силу своей неадекватности материи (Сочинения I. 7, с. 151).
В «Критике философии Гегеля» (Werke I. 10) Шеллинг откровенно высказывает свое мнение о методе Гегеля; особенно поучительны страницы 132—135, где он рассматривает начало гегелевской «Логики». Он также говорит о гегелевском принципе самоповторения (Werke I. 10, с. 132):
«Но негласным руководящим принципом этого прогресса тем не менее всегда является terminus ad quem [момент времени, в котором что-либо действительно или должно быть осуществлено – wp], реальный мир, к которому в конечном счете должна прийти наука… Таким образом, в этом якобы необходимом движении есть двойной обман:
1. в том, что понятие подменяется мыслью и последняя представляется как движущаяся сама по себе, а между тем понятие лежало бы совершенно неподвижно само по себе, если бы оно не было понятием мыслящего субъекта, т. е. если бы оно не было мыслью;
2. притворяясь, что мысль движется вперед только по необходимости, лежащей в ней самой, тогда как у нее, очевидно, есть цель, к которой она стремится и которая, как бы философ ни старался скрыть ее сознание, оказывает, следовательно, только еще более решительно бессознательное влияние на ход философствования.»
Страница 162:
«Но тот, кто под предлогом, что это всего лишь конечные определения рассудка, хочет возвыситься над всеми естественными понятиями, лишает себя тем самым всех органов разумности, ибо только в этих формах что-либо может стать для нас понятным».
Единственный равный современник Гегеля был так далек от того, чтобы позволить себе быть ослепленным своей диалектикой. Человек, который так любил опираться на чужие идеи, человек, который принял результаты Гегеля, хотя и с некоторой неохотой, как долговременное достижение науки, этот человек никогда бы не смог удержаться от того, чтобы из мелкой ревности не принять метод своего университетского друга, если бы он считал его приемлемым. Принципы диалектического метода уже четко разработаны в работе Гегеля «Различие систем Фихтешена и Шеллинга», опубликованной в 1801 году; поэтому Шеллинг вполне мог бы воспользоваться методом своего соратника на ранней стадии, чтобы превзойти достигнутые с его помощью результаты, если бы считал его правильным; но вскоре он осознал невозможность такого построения. —
В более поздние годы Шеллинг отвернулся от дедуктивной диалектики Фихте и обратился к индуктивной стороне платоновской диалектики, убедившись на примере философии Гегеля, что априорная идея не может сама прийти к реальности, что чисто логическое философствование остается вечно гипотетическим и что Аристотель прав, когда говорит, что к принципам нельзя прийти дедуктивно, а только индуктивным путем, который тогда только и остается (см. Сочинения II. 1, стр. 297). Мы предоставим самому Шеллингу говорить о том, как он понимает свою современную диалектику. В Сочинениях II. 1, стр. 325, он говорит, что диалектика делает свои определения в соответствии с чистейшей формальной необходимостью мысли, в которой никто не может ошибаться. На странице 302 он подтверждает это словами:
«В самом деле, если мы вспомним, как мы пришли к нашим моментам бытия, то станет очевидным, что мы тем самым определяемся только тем, что возможно и невозможно в мышлении». Но невозможное в мышлении – это только то, что противоречит самому себе, возможное – все то, что не противоречит самому себе».
На странице 321 он говорит, что индукция должна рассматриваться в двух смыслах:
«Один вид индукции черпает элементы из опыта, другой – из самой мысли, и эта последняя есть то, посредством чего философия приходит к принципу».
Противопоставление опыта и мышления, однако, сразу же растворяется в противопоставлении внешнего и внутреннего опыта. Стр. 326:
«Ибо, конечно, есть и те, кто говорит о мышлении как о противоположности всякому опыту, как будто само мышление не есть в точности также и опыт. Нужно действительно мыслить, чтобы понять, что противоречивое не может быть мыслимо, нужно попытаться мыслить несовместимое, чтобы осознать необходимость его выдвижения в разные моменты, а не одновременно, и таким образом получить абсолютно простые понятия. Как есть два вида индукции, так есть и два вида опыта. Один говорит нам о том, что реально и что нереально: это тот, который принято называть опытом; другой говорит нам о том, что возможно и что невозможно: это приобретается в мышлении. Мышление, таким образом, также является опытом. Доказательства того, что приобретается в мышлении, невозможны, только ad hominem [нападение на личные обстоятельства и характеристики – wp]. Человек всегда думает о себе по отношению к другому, которому он поручает найти то, что он мог бы представить чистому субъекту, будучи уверенным, что тот ничего подобного не найдет, а потому (?) не ответит. Человек ведет разговор, даже без внешней формы, откуда и происходит название диалектической процедуры, которую Аристотель самым определенным образом противопоставляет аподиктической науке.»
Но теперь ясно, что если я делаю определения только потому, что переживаю невозможность их противоположности, что то, что я констатирую через этот опыт, есть не что иное, как факт организации моей мыслительной способности, что поэтому все переживания, из которых строится диалектика, являются психологическими, хотя область психологических переживаний гораздо шире, чем та ее часть, которая здесь обсуждается. Каково же было удивление, когда мы читаем (стр. 299) следующее:
«Если мы теперь добавим к этому, что те, кто работает таким образом, принимают только психологические факты как подходящие для их целей, то и здесь становится очевидным, насколько ограниченно они представляют себе задачу. Психология сама по себе является наукой, и даже философской, которая имеет свою собственную немаловажную задачу, и поэтому (!?!) не может служить случайным образом для оправдания философии.»
Причина этого противоречия станет ясна из следующего.
«Но если мы оставим в стороне эти недоразумения и предположим, что требуемая нами индукция осуществляется на самой широкой основе и что на пути самого чистого и точного анализа мы действительно пришли к принципам и через них к принципу, то не придется ли нам тогда рассматривать само это восхождение как философию и не захотим ли мы все же перейти к дедукции, только чтобы пройти тот же путь, достаточно утомительный, во второй раз в противоположном направлении?»
Очень хочется услышать ответ Шеллинга, и каков же результат?
«Как эта идея совместима с понятием абсолютной науки, которую мы невольно (!) связываем с философией?»
Ему стыдно, что он оказался неверен старому предрассудку абсолютной науки и пришел к лучшему пониманию того, что только индуктивным путем мы можем узнать что-либо существенное, чего мы еще не знали, и больше всего ему стыдно за подозрение в том, что он даже плебейскую психологию сделал основой философии.
Конечно, у него остается реальная причина, по которой требуемая им индукция недостаточна, – ее произвольное ограничение не только внутренним, т.е. психологическим опытом, но и весьма ограниченной его частью. Но только индукция на «широчайшем основании» может привести к философии, то есть индукция, основанная на всем доступном опыте, как и Аристотель, стремившийся достичь такого «широчайшего основания». Таким образом, Шеллинг как можно быстрее отпрыгивает от этого неудобного основания и выделяет отношения между логическим и диалектическим в более узком смысле. Он различает их таким образом, что логическое устанавливает детерминации как принципы в соответствии с формальной необходимостью мышления, тогда как диалектическое отменяет их как принципы и оставляет их только как предпосылки, как ступени к принципу (стр. 328). Но он всегда утверждает, что это восхождение через платоновские предпосылки является индукцией, и объясняет это на примере экспериментатора (стр. 329):
«Мыслящий и здравомыслящий экспериментатор – это диалектик естествознания, который также проходит через гипотезы, через возможности, которые пока могут быть только в мыслях и к которым его приводят простые логические следствия, также для того, чтобы их отменить, пока он не придет к той, которая подтверждается реальностью через окончательный решающий ответ самой природы».3
B. Диалектический метод Гегеля.
I. Краткое описание диалектического метода
Я намеренно излагаю скелет диалектического метода не словами Гегеля, а своими собственными, отчасти для того, чтобы быть короче, чем это позволило бы нанизывание изречений Гегеля, отчасти потому, что свободное воспроизведение показывает больше, чем простая компиляция, насколько я сам понял намерения Гегеля. Разум движется абстрактно, в фиксированных, односторонних определениях понятий, по формальным законам мышления о тождестве и противоречии. Но если теперь взять любое понятие понимания и рассмотреть его в деталях, то становится очевидным, что оно не может оставаться тем, что оно есть, а нарушает границы, очерченные для него пониманием, аннулирует себя (в силу содержащихся в нем противоречий) и продолжает начатое им негативное движение до своего естественного предела, то есть до превращения в свою полную противоположность. Если мы теперь снова посмотрим на эту противоположность (также известную разуму), то увидим то же самое явление: она также аннулирует себя и возвращается к другой противоположности. – Из этого имманентного колебательного самодвижения понятия следует, что рассудок может удерживать одностороннее определение только тем, что насильно удерживает от него свою противоположность (Сочинения Гегеля VI, стр. 178), а субъективный произвол искусственно препятствует понятию в его естественном объективном движении. Отсюда следует, что не односторонние детерминации понимания являются истиной понятия, а только это – быть своей противоположностью, как и самим собой, и не быть тем, чем хочется, чтобы оно было. Это противоречие. Но не противоречие возникло из движения, а движение возникло из него (Сочинения IV, стр. 68); ибо оно уже было в односторонних детерминациях, в каждой из них, одинаково бессильной успокоить себя и найти свое единство; но именно в самом движении оно находит это единство, ибо в своей противоположности оно только сходится с самим собой. Истина понятия состоит, таким образом, в том, что оно разделено на абсолютное противоречие, но что это противоречие своей самосозданной противоположности также находит свое абсолютное тождество, и уже не то бедное абстрактное тождество понимания, которое принадлежит одностороннему понятию понимания в его принудительной неизменности, а конкретное тождество разума, которое включает в себя все богатство противоположности как аннулированной, то есть одновременно уничтоженной и сохраненной. Тождество противоречия следует понимать не так, как если бы противоположности были тождественны в ином отношении, чем они противоположны, но именно в том же отношении, в котором они противоположны, и именно потому, что они противоположны, и притом абсолютно противоположны, они тождественны, и притом абсолютно тождественны, так что противоречие противоположности остается в той же тотальности, в какой оно исчезает в тождестве. Одним словом, абсолютное противоречие есть абсолютное тождество, и только в тождестве и противоречии тождества и противоречия заключается истина, тогда как всякое усилие интеллекта постичь истину в форме суждения или предложения неизбежно остается односторонним, а потому ложным. Однако с достижением рационального тождества противоречия самодвижение понятия еще не заканчивается, ибо конкретное единство противоположностей возникает как новое понятие, как понятийная детерминация, которая несет в себе свои новые противоречия и тем самым ведет к повторению прежнего ритма и далее к продвижению метода вплоть до высшего вывода, лежащего в нем самом. Деятельность по образованию фиксированных определений путем абстракции есть рассудочная, – деятельность понятия по беспокойному превращению в свою противоположность, диалектическая в более узком смысле, или отрицательно рациональная, – наконец, деятельность понятия по слиянию с самим собой в своей противоположности, спекулятивной или положительно рациональной; вместе они образуют три стороны или момента логического. Диалектический метод преодолел противоположности: синтетическую и аналитическую, дедуктивную и индуктивную, априорную и эмпирическую; он относится к ним, как и вообще к понятийным противоположностям, уже не в отношениях «или – или», а одновременно в отношениях «ни – ни» и «как – так и» (Werke VI, pp. 238—239). Поскольку понятие – единственная и единственная субстанция, его самодвижение – единственный и единственный существующий процесс, столь же объективный ход самой вещи, как и мыслительный процесс в голове философа. Субъект как таковой в философствовании является, следовательно, лишь зрителем этого процесса, объективно происходящего перед его сознанием, и его единственная задача – позволить ему происходить без помех и как можно меньше нарушать его случайными субъективными ингредиентами.
II. Критика диалектического метода
1. Положение критики по отношению к диалектическому методу
По отношению к диалектическому методу Гегеля критика должна занимать совершенно иную позицию, чем по отношению к любому другому предмету. Хотя она может заниматься исследованием того, объясняет ли этот метод или достигает ли он того, что обещает объяснить или достичь, т. е. полезен ли он в данный момент или бесполезен и никчемен, точно так же, как и в отношении любого другого предмета, но этот вопрос не является главной задачей критики в философии, а другой вопрос, правильный или неправильный сам предмет, и вообще ничего не решает в отношении полезности или бесполезности одного и того же. Что касается второго вопроса, то в индуктивных науках критика должна исследовать основание индукции, установлены ли также факты, из которых она исходит; в дедуктивных науках она должна исследовать, неоспоримы ли принципы, из которых производится дедукция, в обоих случаях, правилен ли ход мысли, ведущий от исходных пунктов к результатам, согласно правилам формальной логики. Диалектика, однако, не знает ни эмпирических фактов, ни высших принципов, из которых она исходит, но, как мы увидим далее, абсолютно лишена предпосылок и абсолютна; правила же формальной логики она презирает как точку зрения, которая была преодолена (Сочинения VI, стр. 239) и которая eo ipso не способна когда-либо достичь истины. В конечном счете, вся негативная критика основана на доказательстве противоречий, будь то противоречия самих по себе (априорная невозможность) или противоречия неопровержимым фактам (эмпирическая невозможность). Обе стороны молчаливо соглашаются не с тем, как думает Гегель о понимании, что противоречие = ничто (Werke IV, p. 72), а с тем, что там, где противоречие доказано, должна быть ошибка, потому что противоречие – это знак невозможного, бессмыслицы, тогда как ничто было бы вполне определенным, вовсе не невозможным результатом. Это общее согласие по поводу обоснованности предложения о противоречии является тем минимумом общего основания, без которого немыслим ни один аргумент, по крайней мере, ни одно убеждение в его неправильности. Диалектик, однако, улыбается этому предрассудку, который, в конце концов, является лишь одним из законов формальной логики, выброшенных за борт, и поэтому для того, чтобы спорить с диалектиком, не хватает необходимого минимума общего основания. Диалектика так же мало пугает невозможное, как и противоречие; ведь сам Гегель говорит, что все есть невозможное (Werke, стр. 203). Если он сталкивается с противоположной альтернативой, в которой следствия с обеих сторон приводят его к абсурду, он пропускает сеть, замечая, что, поскольку истина не может быть выражена в форме суждения, диалектика не знает «или-или» и что истина кажущейся альтернативы заключается только в ее одновременном «ни-ни» и «как и». (ср. Сочинения VI, стр. 238—239, также I, стр. 188); ибо пропозиция исключенного третьего также является отброшенным балластом, а диалектическое тождество противоречия – это всегда требуемое третье.
Примеров тому будет достаточно. Здесь я приведу лишь один. Мишле полемизирует («Gedanke», т. III, с. 209—210) против возражения Тренделенбурга, что начало гегелевской логики использует неодобрительную вторую фигуру умозаключения и (завершенное, по мнению Мишле) читается так:
Бытие есть простая, неопределенная, непосредственная, самая пустая абстракция и т. д.
Небытие – это простая, неопределенная, непосредственная, самая пустая абстракция и т. д.
ergo: Бытие есть небытие. —
По той же схеме, что и:
Вы – двуногое животное.
Гусь – это двуногое животное.
Следовательно, вы – гусь.
Отсюда вытекает следующая альтернатива: либо тождество (в данном примере: бытия и небытия) является лишь частичным, парциальным, простирающимся до того же предиката и не далее («Gedanke» III, стр. 209), либо оно является тотальным. В первом случае тождество, как частичное и относительное, не является абсолютным и единство противоположностей не выходит за пределы бедного, абстрактного тождества понимания; во втором случае заключение ложно и не следует из посылок4. Ни ту, ни другую сторону диалектик не может всерьез признать, не ударив себя по лицу, и поэтому, несмотря на всю ругань, в защите Мишле против возражения Тренделенбурга нет ничего действенного, кроме заявления о некомпетентности формальной логики для обоснования возражений против диалектики в силу претензии на власть спекулятивного разума, и заявления,
«что каждому новичку, который попадает в гегельянскую коллегию логики, сразу же внушается (да, внушается!), «что истина не может быть обоснована в форме логики понимания, что она не может быть сведена к одной пропозиции, но что для выражения спекулятивной истины необходимы две (противоречащие друг другу) пропозиции понимания».
Второй пример, который я выбираю, – это отмена пропозиции противоречия. Гегель всегда подвергался нападкам по этому поводу, а гегельянцы всегда жаловались на это как на недоразумение, поскольку Гегель также допускает существование пропозиции противоречия. Давайте рассмотрим факты этого важного пункта немного подробнее. С самодвижением понятия, со свойством понятия A быть либо не A, либо B, противоречие устанавливается eo ipso. И хотя это противоречие настолько мало, насколько мало понятие, в котором оно постулируется, постоянное оно или нет, оно, действительно, непрерывно постулирует себя заново, так часто, как кажется, исчезает в ходе этого процесса. Соответственно, Гегель также заявляет (Сочинения IV, с. 67):
«Все вещи самопротиворечивы»; он утверждает, «что антиномию можно найти во всех предметах всех родов, во всех представлениях, понятиях и идеях» (Werke VI, стр. 103), – «что во всем этом противоречие существенно и необходимо» (Werke VI, стр. 102).
Отрывок (Сочинения IV, стр. 69): «Если сущее не в состоянии иметь в себе противоречие» нисколько этому не противоречит, ибо, во-первых, такое сущее в конце концов не избегает противоречия, поскольку оно скорее тогда («вместо того чтобы быть самим собой, живым единством, основанием») «гибнет в этом противоречии», а во-вторых, даже если оно не в состоянии иметь в себе противоречие в определенном отношении, оно все же будет иметь его в себе в бесчисленных других отношениях (например, как материя, как изменчивое и т. д.). Кроме того, «истина не может быть выражена в одностороннем предложении» (Сочинения VI, стр. 159), но требует двух противоречащих друг другу предложений, одно из которых выражает тождество, другое – различие (Сочинения IV, стр. 33) противоположностей, причем так, что эти два определения противоположностей применяются «в одном и том же отношении и с одной и той же стороны» (Сочинения XIV, стр. 210), а не в разных отношениях, в таком случае всякое противоречие отпало бы. Таким образом, противоположность, выражаемая двумя предложениями, есть «установленное противоречие» (Werke IV, p. 57), т. е. открытое, реальное противоречие в самой полной мере и в самой высокой степени. В результате получается следующее: «Противоречие существенно и необходимо во всех вещах и во всех понятиях», или: «Все, что существует, есть противоречие самому себе, и всякая истина может найти свое выражение только в том, что противоречит самой себе». Напротив, пропозиция противоречия гласит: «То, что противоречит самому себе, не может быть, и то, что противоречит самому себе, не может быть истинным». Если последняя пропозиция не отменяется первой, то я не знаю, что подразумевается под отменой пропозиции. Этот результат неопровержим, и именно отмена пропозиции противоречия (и других законов понимания) является conditio sine qua non для существования диалектики, по которому она отличается от обычной логики; – это совершенно необходимо отметить, и мы, несомненно, вправе вывести окончательные следствия из этого ясного и необходимого утверждения. Но именно эти следствия Гегель находит неудобными, поскольку, как мы увидим, они делают невозможным всякое познание, в том числе и диалектическое; однако он не может принять и другую сторону альтернативы, поскольку тем самым он снова впал бы в логику понимания, над которой он хочет подняться в диалектике.
Поэтому он хотел бы защитить себя от этих последствий, желая допустить применение закона противоречия одновременно с его отменой, то есть также и здесь, пропуская альтернативу с «и – и». Возможно, первоначально здесь можно было бы подумать о разграничении областей действия и недействия этого закона, что и подтверждает данный отрывок (Сочинения VI, стр. 240), позволяя пропозиции действовать в области понятия (для обычных наук и практической жизни), но отменяя ее для понятия (в спекулятивном смысле этого слова). Это различие, однако, совершенно несостоятельно, поскольку даже обычная психология не признает никакой фиксированной границы между понятием и идеей, но эти два понятия градационно [постепенно – wp] перетекают друг в друга и отличаются только уровнем абстракции. Столь же недопустимо было бы пытаться применить замечание Гегеля (Сочинения III, стр. 20), что «формулы, являющиеся правилами рассуждения»… «касаются только правильности знания, а не истины», – если бы, говорю я, захотели перенести это замечание о фигурах умозаключения на три высших закона мысли и особенно на закон противоречия; ибо твердое разграничение между правильностью и истиной оказалось бы столь же невозможным, как и между понятием и представлением. В целом, однако, нам нет нужды останавливаться на конкретных попытках такого территориального ограничения, поскольку этот вопрос может быть снят в общих чертах. Во-первых, закон противоречия утверждает себя как фундаментальный закон без исключений, так что он отменяется в понятии, как только отменяется для одного-единственного случая; во-вторых, однако, такое закрепление границы, ограничивающей область действительности, безусловно, нарушало бы дух диалектики, для которой характерно именно отмена и разжижение таких закреплений. В разделении и сохранении сторон и отношений диалектика усматривает одностороннее действие рассудка; поэтому она неизбежно должна утверждать, что пропозиция противоречия должна оставаться в существовании в том же объеме и в том же отношении, в каком она была отменена. Даже если бы не было прямо заявлено, что противоречие существенно и необходимо во всех вещах и понятиях, из духа диалектики уже вытекало бы, что оно должно быть одновременно отменено и продолжать существовать во всей полноте, должно перестать применяться в том же отношении, в каком оно продолжает применяться. Это, однако, противоречие в его высшей потенции, ибо в отличие от предположения об отмене пропозиции противоречия, которое необходимо для диалектики, утверждение о ее сохранении в формальном акте ее пропозиции содержит противоречие против ее содержания, поскольку ее пропозиция возможна только при разрешении противоречия, а ее содержание запрещает его. Таким образом, диалектика попадает в свои собственные сети. Если утверждение возможно, то его содержание ложно; если его содержание верно, то оно невозможно как утверждение. Утверждение опрокидывает свое собственное содержание, содержание убивает его в его стремлении к бытию. Но диалектику все это безразлично; даже там, где он защищается от обвинений в противоречиях, он говорит в противоречиях. Нигде больше сущность диалектики не бросается в глаза так откровенно, и ни один другой пример не показывает так ясно, как этот, что следует думать об этом пропуске альтернатив. В то же время, однако, этот пример научит нас, что мы не должны позволять вводить себя в заблуждение оппозицией диалектики, когда она жалуется на недоразумения, поскольку учитывается только отмена предложения противоречия, а не его принятие. Интеллектуальная рефлексия, которая должна раз и навсегда отказаться от этого пропуска альтернатив, может в таких случаях не более чем исследовать последствия каждой стороны, а поскольку последствия действительности предложения противоречия известны как содержание общей логики, то в этом случае исследование может распространяться только на последствия его отмены.
Из всего этого достаточно очевидно, что подлинный диалектик никак не может быть сведен к абсурду для собственного сознания; ибо там, где для других людей абсурд сопровождается противоречием, для диалектика начинается лишь та мудрость, к которой он один имеет любовь. Но теперь я спрашиваю, есть ли какое-нибудь другое средство доказать ложность чего-либо, кроме как сведя его к абсурду, то есть преобразовав его или выведя из него такие следствия, которые приводят к противоречию? Только диалектик составляет здесь исключение; для него критерий ложности – быть или хотеть быть без противоречия, а единственный формальный критерий истины – единство тождества и противоречия, короче говоря: быть или хотеть быть тождеством противоречия. Это не значит, что все противоречивое, то есть все бессмыслицы, бессмыслицы и бессмыслицы, является для диалектика истиной, но несомненно то, что его критерий истины не идет дальше; Но является ли противоречие бессмыслицей или истиной, у диалектика тоже нет формального критерия, и два диалектика, если ни один из них не виновен в том, что впал в односторонность интеллектуальной логики, имеют на самом деле так же мало возможностей доказать друг другу неправоту или довести друг друга до абсурда, как не-диалектик имеет диалектика. Таким образом, диалектику никак не могут помочь обычные доказательства ложности, к которым следует добавить текучесть его понятий. Ибо другое необходимое условие в споре – придерживаться сути и, говоря об А, действительно думать только об А, а не о Б; для диалектика же это именно так – быть и Б, так что, когда думаешь, что поймал его на А, он уже давно ускользнул на Б, а ты остался позади. Диалектик в этом похож на маньяка с полетами идей; вы скорее схватите масло рукой, чем его за слово.
Очень важно, чтобы эта связь была совершенно ясна; ибо недиалектик, естественно, сначала хочет испробовать свои обычные средства критики против диалектика, а потом удивляется, что не продвинулся с ними ни на волос, что он подобен тому, кто охотится за привидениями: когда он загнал его в один угол и думает, что поймал, он вдруг слышит, как оно насмешливо смеется позади него из другого угла. С другой стороны, диалектику непоследовательно вступать в опровержения подобных выпадов своего оппонента; ведь он скоро придет к тому, что спастись от него можно будет только апеллируя к его принципу, поэтому все предыдущее было бесполезной болтовней, и ему остается только подчеркнуть с самого начала неприкосновенность разнородной точки зрения этими ошибочными средствами и не вступать ни в какие дальнейшие споры. Так, Гегель совершенно справедливо говорит (Сочинения I, с. 176: «В борьбе понимания с разумом последний силен лишь в той мере, в какой он отказывается от самого себя». Однако такой аргумент следует считать излишним, ибо тот, кто извращает [отвергает – wp] противоречие с сознанием, должен точно так же извращать его в любой форме, а для него сама гегелевская логика является его лучшим опровержением. С другой стороны, тот, кто однажды усомнился в обычно формальном критерии ложности, уже не сможет излечиться от своих сомнений повторным применением этого критерия. Но может быть важно показать такому сомневающемуся полные и резкие последствия его сомнений, показать ему, что если он дрогнет хоть в одном пункте, то все в один миг прекратится. Эти последствия осознают лишь немногие, кто смотрит на диалектику с сомнительным благоговением, а многие обманывают себя тем, что противоречие, которое в обычной логике является критерием бессмыслицы, и противоречие, на котором основана диалектика, – это две разные вещи, совершенно ошибочное предположение, которое не осмелится поддержать ни один более близкий знаток диалектики Гегеля и которое само собой получает опровержение как из того, что уже было сказано, так и из всего, что последует дальше.
Поэтому важнейшей задачей критики диалектического метода является изложение последствий отмены предложения о противоречии во всех направлениях и исследование обоснования этого, а также всех других утверждений и предпосылок диалектики, отклоняющихся от обычных предпосылок науки. Будет показано, что предпосылки, на которых диалектический метод мог бы основывать свое возвышение над обычной логикой рассудка, несостоятельны, что он скорее парит в воздухе как конструкция без предпосылок, что это отсутствие предпосылок есть в то же время его собственная необоснованность и отсутствие оправдания, что, наконец, далеко не будучи в состоянии помочь какому-либо знанию, которого еще не было, он скорее упраздняет как возможность мышления вообще, так и возможность коммуникации и является во всех отношениях пустым словом-схемой для невозможных задач мышления.
2. Бесконечность гегелевская и общая
Рассмотрение бесконечного невозможно избежать, поскольку, как мы вскоре увидим, гегелевский разум отличается от понимания только прилагательным «бесконечный», добавляемым к мысли. Гегель рассматривает понятие бесконечного в двух разных местах «Логики»: один раз как качественную, другой раз как количественную бесконечность. Мы рассмотрим сначала последнее, потому что только оно связано с обычным понятием бесконечного, по крайней мере, в его объекте.
Гегель прав, когда говорит (Сочинения III, стр. 279—280): «Бесконечно великое и бесконечно малое – это образы воображения, которые при ближайшем рассмотрении оказываются тщетными туманами и тенями». Как бы мало ни признавали это обычные математики, оно, безусловно, верно, высказано Аристотелем и Спинозой, развито Локком и даже недавно обновлено Дюрингом в его «Естественной диалектике». Но неверно, когда Гегель добавляет: «В бесконечном процессе, однако, это противоречие явно присутствует». Как бесконечно большое и бесконечно малое являются невозможными понятиями, поскольку они представляют бесконечное как реально существующее, то есть страдают от противоречия бесконечности, данной как полная, так и «бесконечный процесс» является естественным и не противоречивым понятием, поскольку он говорит только о бесконечной возможности. Всякая попытка указать на противоречия в «бесконечном процессе» подчиняет термину процесс, который означает только actus, деятельность, движение, другой термин результат, который равен actum, делу, пути; процесс – это становление, незавершенное, а результат – это бытие, завершенное; Таким образом, только в том случае, если процесс несправедливо представить как пройденный путь, а не как производство этого пути, как бег, только в этом случае с этой фальсификацией понятия в процесс вносится также противоречие данного бесконечного. Если же, напротив, взять бесконечный процесс как бег без конца, как акт бега, страдающий отрицательной решимостью, что этот акт бега должен продолжаться без конца, то в нем уже не обнаруживается никакого противоречия, ибо сама бесконечность тогда остается вечно в сфере возможности будущего, никогда не становясь актуальностью, настоящим или прошлым. Видимость противоречия в конечном счете возникает из-за формы выражения, которая отбрасывает отрицание в прилагательное, а не в копулу, где только оно и имеет значение; «процесс бесконечен» означает только «он = не конечен», так же как «ребенок непослушен» означает только: «ребенок = не послушен», но Гегель отрицает это привычное значение отрицательного предиката, чтобы приписать процессу «бесконечное бытие» из формы: «процесс бесконечен» путем замены копулы «есть» на «есть» = «существует», тогда как копула приписывает ему бесконечность только как процессу, т.е. как становлению, actus, actus, actus. т.е. как становление, actus, деятельность и т.д, и т. д.
Следующим следствием гегелевского отказа от бесконечного прогресса является то, что он исключает из этого названия то, что математик и всякий другой человек привык и справедливо называет бесконечным, например форму бесконечного ряда (Сочинения III, 293—294), бесконечное приближение к асимптоте и тому подобное. Но поскольку эти формы все же достаточно характерны и должны сохранять какое-то название, Гегель любезно оставляет им даже название бесконечных, хотя на самом деле они его не заслуживают, лишь с эпитетом [постскриптум – wp] «плохие» в качестве постоянного напоминания об их недостойности. Но Гегель находит истинную количественную бесконечность там, где количественное переходит в такую форму, что приобретает определенное качество, одним словом: когда количественное переходит в качественное (Werke III, pp. 281—282 и 289). Так, например, Гегель находит в простой дроби (независимо от того, дает ли она бесконечный ряд как десятичная дробь, что зависит только от выбранной системы счисления) нечто качественное, а значит, и бесконечное по сравнению с обычными целыми числами! В еще большей степени это касается отношения силы в функции или дифференциального коэффициента; это его количественные или математические бесконечности, и вряд ли можно винить какого-либо математика, если этого достаточно, чтобы испортить его вкус к Гегелю. Помимо того, что в чисто математическом плане эти формы принимаются во внимание лишь постольку, поскольку они являются чистыми величинами, и что их возможная качественная природа может стать значимой только в уже не математическом применении результатов после завершения математического решения проблемы, тем не менее слишком ясно, что они являются конечными величинами во всех отношениях, чтобы можно было говорить о количественной бесконечности в их случае. Это может привести только к таким несоответствиям, как, например, утверждение Гегеля, что величина, выраженная в виде бесконечного ряда, на самом деле конечна, но действительно бесконечна в так называемом выражении конечной суммы (Werke III, pp. 293—294), т. е. ряд 1 + ½ + ¼ + ⅛ + … теперь должен быть конечным, но сумма 2 должна быть бесконечной!!! Другим следствием этих инверсий является то, что в своих замечаниях о математически бесконечном Гегель всегда имеет дело только с качественным значением математически конечных выражений (иногда довольно умело), а математически бесконечное, например, ряд, который должен быть бесконечным не только по форме, но и по содержанию (т.е. ряд, для которого уже не существует выражения конечной суммы), он игнорирует до такой степени, что кажется, что он его вообще не знает. Но именно в этом и состоит задача философа по отношению к математику – показать, как следует понимать математически бесконечное и операции с ним, если нет бесконечных величин. Гегеля эта задача совершенно не волнует. – Отсюда ясно, что количественная бесконечность в подлинном смысле слова не существует для Гегеля сама по себе, ни как бесконечно большая и бесконечно малая, ни как бесконечный процесс, но что его так называемая количественная бесконечность есть не что иное, как качественная гегелевская бесконечность в специальном применении к понятию количества. Это ясно из того, что количество не приходит к бесконечности, пока не станет качественным; но тогда оно имеет только качественную, а не количественную бесконечность.
Теперь нам остается рассмотреть эту качественную бесконечность, для которой количественная является лишь частным случаем. Если последняя уже переворачивает фактические отношения с ног на голову, то это пощечина естественному способу выражения, точно так же как до Гегеля никому не приходило в голову думать о чем-то ином, кроме количественной бесконечности. Любое понятие может быть названо «бесконечным» лишь постольку, поскольку оно имеет количественную сторону, поскольку оно способно быть большим или меньшим, большим или меньшим. Каждый объявит бессмыслицей такие выражения, как «бесконечно босой», а выражения «бесконечно мудрый, бесконечно добрый» будут иметь смысл лишь постольку, поскольку количественное увеличение, на которое способны эти понятия, мыслится как способное продолжаться до бесконечности. Только в том, что способно увеличиваться или уменьшаться, можно требовать, чтобы увеличение продолжалось до бесконечности; только в том, что обычно имеет конец, имеет смысл отрицать конец и конечность. Но эти два понятия совпадают, ибо концы имеют только одну величину, а что является величиной, то концы ее могут быть смещены. Но если мы теперь возьмем понятие, помимо его количественной стороны, только с его качественной стороны, то мы уже не можем говорить с ним о концах, поэтому также не имеет смысла отрицать его концы, поскольку у него нет ни конечности, ни бесконечности, которые являются видами рода, к которому оно неоднородно [ungleichartig – wp]. Аналогом концов в количестве, однако, является детерминированность в качестве, но тоже только как аналог и не более того. Соответственно, и выражения «конечные понятия понимания» и «фиксированные» или «детерминированные понятия понимания» Гегель использует синонимично. Таким образом, то, что является бесконечностью по количеству, является неопределенностью по качеству. Никогда не понять качественную бесконечность Гегеля, если не читать везде слово «неопределенность» за словом «бесконечность» или, по крайней мере, не связывать с этим словом только этот смысл. Именно это и мешает большинству людей понять, что они все еще ищут реминисценции того, что они имеют в виду под бесконечностью.
Гегель развивает свою качественную бесконечность, противопоставляя «нечто» и «другое». Это безразлично, поскольку материя могла бы быть развита с таким же успехом из любой другой пары противоположностей, но термины выбраны правильно, поскольку ни в какой другой паре противоположностей не было бы использовано свойство, что одно сливается с другим. Этот переход понятия, произвольно фиксированного как «нечто», в его другое, эта «неспособность избежать изменения», эта зыбкая, беспокойная текучесть понятия, переливание через все определенности, данные ему рассудком, не только через эту, которую я только что намеревался дать, но и через все возможные будущие определенности – всегда не будучи тем, чем хочется, чтобы оно было (но избегая одной определенности, лишь бросаясь в другую определенность, а не в отрицательно неопределенную) – это и есть качественная бесконечность. Сразу видно, что этот принцип необходимого изменения есть не что иное, как сам диалектический принцип. – Если подойти к этому рассмотрению с воспоминаниями об обычном мышлении и естественной концептуализации, то возникнет соблазн рассматривать в качестве гегелевской бесконечности ту часть этого процесса, которая представляется бесконечной в обычном смысле, т. е. бесконечный процесс изменения или потока. Таким образом, Тренделенбург упрекает Гегеля в том, что в своей качественной бесконечности он, по сути, не преодолел извращенную дурную бесконечность бесконечного процесса. Однако в этом, как мне кажется, он поступает несправедливо; ведь если принять во внимание, что качественная бесконечность означает только неопределенность, то становится ясно, что дело не в бесконечном течении понятия, а в том, что оно неопределенно, то есть что это такое понятие, природа которого состоит в том, чтобы сохранять свою неопределенность в любой детерминации, то есть не быть ничем определенным в определенном смысле, и знать детерминацию только как то, что подлежит отрицанию. Гегелевская бесконечность, таким образом, заключается не в бесконечности процесса изменения, а исключительно в движущем принципе, благодаря которому понятие получает возможность и вынуждено отрицать всякую детерминацию, данную ему пониманием, т. е. оно существует в самом диалектическом моменте и тождественно или синонимично ему. – Гегель справедливо называет общую бесконечность отрицательной, поскольку только конечное является данным, положительным для понимания, а бесконечное есть лишь отрицание его конечности; с другой стороны, со своей точки зрения, Гегель справедливо называет свою бесконечность положительной, поскольку текучая неопределенность понятия или его всеобщая возможность есть данное положительное для его разума, тогда как фиксированная определенность понятия есть ограничение (частичное отрицание) этого положительного, произвольно нарисованного пониманием.
Для нас здесь важно следующее: Гегелевская и общая бесконечность – совершенно разнородные понятия; общая или отрицательная бесконечность может быть постигнута только рассудком, гегелевская или положительная бесконечность может быть постигнута только разумом, ибо она едина с диалектическим моментом, с текучей неопределенностью понятия. Любая попытка постичь гегелевскую бесконечность с точки зрения понимания тщетна, ибо это действительно пульсирующее сердце диалектики; нужно уже быть внутри диалектического принципа, уже стоять на точке зрения разума, прежде чем удастся ее постичь. Если его нельзя постичь с точки зрения разума, то он еще менее оправдан перед ним, поскольку разум должен отрицать то, чего он не понимает и для чего не видит оправдания; меньше всего, однако, гегелевский разум может быть понят разумом через посредничество гегелевской бесконечности.
3. Гегелевский разум и общее разумение
Не желая принимать ни одно из девяноста девяти циркулирующих различий между разумом и пониманием, ни даже добавлять сотое, мы тем не менее можем утверждать, что все более зрелые и естественные определения этих понятий не сводятся к разделению интеллекта на части, не имеющие ничего общего друг с другом, но к единству мыслительной способности с простым абстрактным разделением различных видов деятельности, направленных на различные объекты. Психология и сегодня отделяет способности воображения, мышления или познания от других, например, от способностей желания или чувства (неважно, какими средствами); но та раскольническая тенденция, которая получала удовольствие от мысли, что даже чисто интеллектуальная сторона человеческого разума состоит из различных элементарных душ, скрепленных кто знает каким цементом, сегодня, к счастью, преодолена. Как бы ни различали разум и понимание, по теоретическим или практическим отношениям или наоборот, по абстракции и причинности (Шопенгауэр) или по каким бы то ни было соображениям, несомненно одно: это один и тот же интеллект, который по одним и тем же самым общим законам эффективности обращается здесь к этому объекту, там к тому объекту, действует здесь так, там так.
У Гегеля дело обстоит иначе, ибо у него интеллект включает в себя то, что для всех остальных является рассудком и пониманием, тогда как гегелевский рассудок приходит как нечто неслыханное, небывалое и мыслит по правилам, прямо противоречащим правилам рассудка, так что он считает действия рассудка столь же неправильными, как и разум должен объявить свои действия неправильными и бессмысленными (Сочинения I, с. 184—185), только с той разницей, что разум считает действия рассудка неправильными из узости мышления и наслаждается собой как возвышающимся над этой узостью, а рассудок объявляет действия разума неправильными из самоуверенности и должен считать их патологической аберрацией. Разум, таким образом, считает, что он может включить в себя понимание, которое он отрицает, как преодолевшее его, но понимание знает, что оно должно исключить разум, который оно отрицает, как сумасшедший. В любом случае, несомненно, что каждая часть отрицает действия другой как нечто неправильное, и таким образом мы имеем две части в интеллекте, обе из которых мыслят, но мыслят в соответствии с противоположными, противоречивыми принципами, и которые должны воевать в человеческом разуме до тех пор, пока голос одной части не замолкнет, а другая не станет суверенным задатчиком тона. Если в разуме побеждает разум, то мышление единством противоречия объявляется невозможным; если разум остается победителем, то пропозиция противоречия выбрасывается за борт вместе со всей формальной логикой как односторонняя и потому неистинная.
Ничего более чудовищного, чем этот дуализм, этот антагонизм понимания и разума, чем это сковывание интеллектуальных душ, каждая из которых хочет мыслить противоположным образом и которые поэтому действуют друг против друга, как лошади, запряженные в противоположные стороны телеги, пожалуй, еще не было придумано, и напрасно пытаться обелить это противоречие интеллектуальных сил, ясно выраженное в системе Гегеля, тем, что они представляют собой различные стороны или моменты логического. Если разум использует деятельность понимания, то лишь постольку, поскольку он образует абстракции и определенные понятия, но законы, по которым только он может и должен мыслить, он фактически поражает насмерть; тем самым он заявляет, что это образование определенных понятий ложно лишь постольку, поскольку оно односторонне и еще не достигает истины, но во всяком случае может быть использовано как ценный, даже необходимый материал (Werke III, стр. 20); С другой стороны, он объявляет образ своего мышления и законы своих понятийных связей не только совершенно пустыми и потому никчемными, но и ложными как таковые, как противоречащие сами себе и между собой, поскольку они совершают противоречие, хотя и хотят скрыть его от себя (Werke IV, стр. 231 и 238); Он заявляет, что удержание их делает истину невозможной, что, напротив, она может быть достигнута только путем отказа от них и их отмены, путем обращения к закону спекулятивного разума, который требует принятия противоречия, которое они (тщетно) хотят исключить и скрыть от себя (Сочинения IV, с. 32—37, 66—73; VI с. 230—231, 238—239). Только как орган концептуализации понимание может быть терпимо и использовано разумом в смысле более низкого уровня; как канон законов логики понимания, с другой стороны, он должен отказать ему в праве на существование и утверждение, даже если он, к сожалению, не может отрицать его фактического, исторического существования. 5То, что мы далее должны сказать о взаимном отношении разума и понимания, относится к последнему главным образом как к канону законов логики понимания, поскольку оно находится в противоречии с разумом только в этом качестве, но не как орган конкретной концептуализации.
Если эта конкатенация взаимно несовместимых способностей мышления, которая может показаться приемлемой только для диалектической точки зрения, питающейся противоречиями, достаточно удивительна, то еще более удивительно, что никто (за единственным исключением Николая Кузануса) до Гегеля и после Гегеля (кроме его школы) ничего не понял об этом антагонизме, что то, что Гегель называет пониманием, теоретически и практически полностью достаточно для всех мыслительных функций, выполняемых не-диалектиками, и что гегелевский разум должен использоваться исключительно для тех предполагаемых мыслительных функций, о которых, как до Гегеля, так и после Гегеля (кроме его школы), никто ничего не хочет знать. Действительно, странное совпадение! – По Гегелю, понимание – это «сила ограничения» (Werke I, стр. 172), а его деятельность – «конечное мышление» (Werke I, стр. 163; VI, стр. 63), т. е. после предыдущего: определенное, фиксированное мышление; в лучшем случае оно обеспечивает «чистое мышление». Разум же дает «бесконечное мышление» (Werke VI, с. 63), то есть после предыдущего: изменчивое, неопределенное мышление или «абсолютное мышление» (Werke I, с. 191). Абсолютное мышление разума как выше всякой противоположности, так и выше субъективного и объективного; оно есть «абсолютно общее», всепроникающее, всеодушевляющее. Но как же тогда возможно, что до сих пор существует понимание, которое восстает против законов разума и утверждает противоположные законы как свои собственные? Откуда берется это понимание, или, если разум должен заключить его в себе, как в него входит этот разнородный компонент, если «абсолютная идея» – единственная субстанция, как возможно, что она подчиняет себя активности по противоположным законам, откуда у нее берется стремление и сила предотвратить естественное превращение понятия в его противоположность, если законы разума – абсолютное общее, а «абсолютное мышление» – единственный процесс? Как вообще можно представить, что это самое общее, живущее во всем, – разум – известно столь немногим и что даже подавляющее большинство, услышав о нем, может отрицать его существование, поскольку живет, ткет и находится в нем и должно быть полностью им пронизано? Как этот феномен рифмуется с утверждением Гегеля, что философия требует только того мышления, которое дано каждому человеку от природы (Werke VI, стр. 8), даже что логическое – это особая природа человека (Werke III, стр. 11), по которой он отличается от животного? Но если этот разум так слабо представлен в огромном большинстве людей, что нужно быть «любимцем богов» (Michelet, « Раздумье», т. I, стр. 200), чтобы почувствовать его, то не следует ли несколько усомниться в уверенности диалектиков, что в гораздо более неразумных областях органической и неорганической природы тот же самый разум, которым человек одарен лишь в исключительных случаях, является единственным действующим принципом? Конечно, бедной природе приходится очень плохо, если она одарена разумом не больше, чем человечество; ведь, по Гегелю, разум вообще не входит в объективное (Werke VI, стр. 59):
«Мысль, производящая лишь конечные определения и движущаяся в них, называется пониманием (в точном смысле этого слова). Точнее говоря, конечность детерминаций мысли следует понимать двояко: одно дело, что они только субъективны и находятся в постоянной оппозиции к объективному, другое – что, будучи ограниченными по содержанию, они остаются в оппозиции как друг к другу, так и тем более к абсолютному».
Философ понимания признает в естественном процессе именно то разумно-логическое, что отрицает в нем Гегель, и отрицает в нем только то, что рационально диалектично; но ни в коем случае противник диалектики не отрицает (как хотел бы приписать ему Мишле), что естественный процесс вообще является логическим процессом. —
Гегель упрекает интеллект в неспособности постичь истинное (Сочинения VI, стр. 53: «Весь обман, однако, происходит от того, что мы мыслим и действуем в соответствии с конечными определениями». Сочинения VI, стр. 59:
«Если детерминации мысли поражены фиксированной противоположностью, то есть имеют лишь конечную природу, то они неадекватны истине, которая абсолютна и сама по себе, тогда истина не может войти в мысль».
Против этого следует заметить, что истина есть не что иное, как абсолютное в себе и для себя, но что она есть понятие, стоящее в отношении, то есть абсолютно только по отношению к чему-то другому, несущему это отношение, и как релятивное или относительное не есть абсолютное. Если, следовательно, этот предикат истины ложен, то уже невозможно понять, почему он не должен быть постигнут конечными детерминациями, то есть рассудком. Рассмотрим теперь, как Гегель пытается обосновать этот ложный предикат истины. Сочинения VI, с. 51—52:
«Обыкновенно мы называем истиной соответствие предмета нашему представлению… С другой стороны, в философском смысле истина, выраженная абстрактно, означает соответствие содержания самому себе».
Это определение либо совершенно бессодержательно, и любая бессмыслица делает его справедливым, либо его следует понимать так, что «соответствие с самим собой» означает «не противоречащее самому себе», и тогда, однако, оно не говорит ничего иного, кроме пропозиции противоречия, но устанавливает чисто формальный критерий истины логики понимания в качестве материального критерия истины, чего нельзя допустить, помимо того, что такое принятие пропозиции противоречия полностью противоречит духу гегелевского метода. Однако в последующих объяснениях этого определения становится ясно, что оно призвано сказать нечто совсем иное, чем то, о чем в действительности говорит его формулировка, а именно, что оно ложно и криво (Werke VI, стр. 52):
«Дурное и неистинное вообще состоит в противоречии, которое имеет место между определением или понятием и существованием предмета».
Согласно этому определению, истина – это соответствие между понятием и реальностью объекта, и это определение отличается от общепринятого тем, что в нем субъективное понятие заменяется объективным. Таким образом, истина становится отношением между двумя целями, а не отношением между объективным и субъективным. Если не считать того, что эта объективная истина может интересовать меня лишь во вторую очередь, поскольку первым и самым важным для меня является вопрос о том, истинны ли мои идеи, и только тогда можно говорить о том, запятнано ли то, что я излагаю правдиво, само по себе объективной неправдой или нет, то помимо всего этого, Учение Гегеля о несоответствии понятия и реальности всех вещей, кроме Бога, – одно из самых неудачных его учений, которое никак не может быть согласовано с его фундаментальным учением о том, что идея есть единственная субстанция, поскольку вещи есть не что иное, как то, что они представляют, поскольку они являются тем, что они есть, только через понятие, раскрывающееся в них (Werke VI, p. 323), т. е. что развитие реальных вещей зависит только от того, что они представляют. То есть развитие реальных вещей всегда соответствует развитию понятия, поскольку определяется только им. Еще резче это можно выразить так, что бытие вещей ни в чем не отстает от представления о них и ни в чем не выходит за их пределы, кроме как именно в том таинственном нечто самой действительности, которое Гегель, конечно, полностью игнорирует и только Шеллинг возвращает к чести. Исходя из этого взгляда, я всегда буду утверждать, что выражение «объективная истина» является бессмысленной тавтологией в случае натуральных продуктов и может иметь смысл только в случае производств по субъективным представлениям. Для Гегеля, во всяком случае, истина есть отношение между понятием вещи и ее реальностью, не в себе и для себя, а в вещах и для вещей, и как потому, что она есть отношение, связь, так и потому, что она находится в чем-то другом, она не абсолютна, а имеет конечный характер, и поэтому невозможно понять, почему интеллект не должен быть в состоянии ее постичь. Если, конечно, «абсолютное» здесь должно означать не что иное, как «абстрактное», значение столь же новое, сколь и оригинальное, которое Гегель (Werke VI, стр. 230), как ни странно, ему уступает, то предыдущее значение было излишним: ведь из этого значения следовало бы только противоположное тому, что Гегель хочет из него вывести.
Гегель выдвигает против понимания и другое обвинение, связанное с упомянутым выше, – в том, что оно жестко и односторонне, а также отчасти приводит к разрушительным и пагубным последствиям (Werke VI, pp. 147—148). Поскольку мышление понимания неизменно односторонне, оно должно быть ложным, так как одностороннее никогда не может быть полной истиной. – Прежде всего, совершенно необходимо признать, что предмет познается истинно только тогда, когда он познается во всех своих возможных отношениях и со всех сторон, которые представляются с самых различных точек зрения; если же за полное знание предмета принимается взгляд, который сам по себе правилен, но лишен всесторонности, то очень легко впасть в ошибку с вытекающими отсюда последствиями, поэтому чрезвычайно важно избегать односторонности в познании, но еще важнее не принимать односторонность за полноту. Однако при этом необходимо учитывать следующее. Не всякий предмет многогранен и представляет различные виды с разных сторон (например, шар); но даже в случае предметов, у которых можно получить различные стороны, в большинстве случаев для целей может быть использована только одна или несколько особенных сторон, так что односторонность взгляда в таких случаях не порождает ничего дурного, а является лишь похвальным уклонением от недостойного излишества. Если при этом человек осознает намеренное ограничение, то он также защищен от возможности впасть в ошибку, перескочив в чужие области, где эта односторонность недостаточна. Наконец, однако, совершенно невозможно понять, почему интеллект должен быть односторонним, поскольку ему достаточно исчерпать различные стороны объекта, чтобы быть всесторонним там, где это необходимо. (Гегель называет «разумом» не разнонаправленность как таковую, а лишь синтез противоречивых сторон одного и того же объекта, который в действительности никогда не может иметь места). Односторонность лежит не в природе разума, а лишь в плохом и неполном его применении. Только неполное мышление, застывшее в мертвом слове, страдает от упреков в грубости и резкости, которые исходят прежде всего от чувства, потому что оно, как одна из самых сложных сторон жизни, постигается разумом в последнюю очередь, но и тогда утверждается в своей естественной правоте.
Теперь рассмотрим подробнее, что же на самом деле мы имеем в гегелевском разуме. Разум – это бесконечное мышление; рефлексия становится разумом через упразднение конечного (Werke I, с. 173) и через свое отношение к Абсолюту (Werke I, с. 182). Погружая конечные или фиксированные детерминации в абсолютное, то есть несвязанное, неопределенное, чистое мышление понимания становится абсолютным или бесконечным мышлением разума, то есть неопределенным, нестабильным, текучим мышлением, как мы показали в предыдущем изложении концепции гегелевского бесконечного. (Следует отметить, что в Сочинениях VI, стр. 63, есть добавленный редактором Хеннинга отрывок, который из-за своего слишком краткого и неадекватного выражения создает впечатление, что всякое чистое мышление, которое полностью с самим собой и имеет только себя в качестве своего объекта, является как таковое бесконечным. Помимо того, что аргументы, призванные доказать это, ложны, это вообще не может быть мнением Гегеля, поскольку даже интеллигибельное мышление в фиксированных детерминациях уже может быть чистым мышлением (Werke VI, стр. 7), т. е. само понимание уже было бы разумом (ср. Werke I, стр. 181). Это сделано только для того, чтобы предотвратить недоразумения, которые могут возникнуть на основании этого отрывка). Предыдущие различия были формальными; возможно, их достаточно, чтобы определить различие в содержании, возможно, в отношении последнего будут добавлены еще большие различия. Теперь рассмотрим, как связаны между собой способности разума и понимания с точки зрения их содержания. Все знают, что делает разум: он переходит от одного определения понятия к другому по линии пропозиции противоречия; вопрос в том, в какой момент достижения разума выходят за рамки понимания, в каких функциях диалектического метода способность понимания становится недостаточной и возникает потребность в разуме. Во-первых, в негативно рациональной деятельности разум представляется достаточным для того, чтобы
1. обнаружить противоречия в понятиях,
2. почувствовать отталкивание от этих противоречий и искать версию понятия, свободную от этих противоречий и оказывающуюся противоположной первому понятию;
3. найти в этой противоположности противоречие в новой форме и, пытаясь избежать этой новой формы, вернуться к первой форме, исходному понятию.
Здесь нет ничего, кроме перехода от одной детерминации к другой в соответствии с пропозицией противоречия, поскольку противоречие отпадает в соответствии с ней. Поэтому рассудка вполне достаточно, чтобы осуществить это движение, чтобы установить скептические результаты посредством критической процедуры; действительно, если бы деятельность, которая должна осуществить это, была уже совершенно рациональной, она сразу же увидела бы возможность единства в первом же противоречии, с которым она столкнулась, вместо того чтобы чувствовать отталкивание от него; она была бы успокоена им, вместо того чтобы бежать от него, точно так же, как впоследствии она успокаивается этим противоречием.
Ибо между тем противоречием в понятии, которое побуждает к своей противоположности, и тем, единство которого осуществляется позитивным разумом, ни в коем случае нет конкретного различия, поскольку первое также уже является целым, поскольку в нем можно показать подчиненные противоречия, которые относятся к нему так же, как оно относится к целому противоречию, единство которого осуществляется, так же как последнее в своем развитии относится к последующему как такое противоречие, которое отталкивает мысль и побуждает ее к новой противоположности. Таким образом, мы видим, что поведение негативно-рассудочной и позитивно-рассудочной деятельности по отношению к противоречию диаметрально противоположно; это допустимо только в том случае, если поведение первой, тождественное поведению понимания по отношению к противоречию, исключается из рассудка и эта деятельность признается все же разумной. Для Гегеля, однако, мотивы перехода от понятия к его противоположности имеют двоякий характер, и те, о которых говорилось до сих пор, по существу, появляются только тогда, когда либо явление должно быть сделано доступным для познающего субъекта и правдоподобным для его понимания, либо когда восхваляется сила противоречия (Werke IV, pp. 68, 69, 72). Однако более глубоким основанием видимости (в духе Гегеля) является текучесть самого понятия, которое течет только потому, что не может стоять на месте, и превращается в свою противоположность только потому, что это самое близкое к нему. Если в качестве причины указывается именно это, а не ужас противоречия (ср. Сочинения IV, с. 71), то только тогда явление становится рациональным, в противном случае – просто интеллигибельным. Но поскольку для объяснения явления достаточно рациональных мотивов, отсюда можно заключить, что добавлять вторую причину к первой, которая одна достаточна, неоправданно, поэтому эта связь по возможности скрывается. Действительно, при ближайшем рассмотрении это обратное отношение между условием и обусловленным; в первом случае противоречие является «корнем движения» (Werke IV, стр. 68), во втором движение, переход, является источником противоречия (Werke IV, стр. 71, ср. также далее главу: «Текучесть понятий»). Нетрудно понять, почему Гегель добавил эту вторую точку зрения: он хотел самодвижения понятия (его субстанции), объективного процесса мышления, в котором противоречие не ускользает, а входит в понятие как сущность вещи; в первом случае, однако, в интеллигибельной процедуре именно мыслящий субъект переходит от одного определения к другому, поскольку он убегает от противоречия, и процесс, таким образом, является субъективным (Werke VI, стр. 59).
Таким образом, получается, что так называемая отрицательно-рассудочная деятельность как субъективная деятельность не выходит за пределы возможностей понимания, но Гегель, поскольку это ему подходит, предполагает наряду с ней второй вид, который он устанавливает как объективное самодвижение понятия, благодаря чему он получает преимущество, с одной стороны, сделать дело правдоподобным для понимания слушателя, с другой стороны, чтобы из второго немотивированного предположения, добавленного в качестве пятого колеса к телеге, можно было вывести грандиозные следствия, даже если поведение негативно-рассудочной деятельности по отношению к противоречию будет в таком случае противоположным поведению позитивно-рассудочной деятельности, поскольку первая от него бежит, а вторая стремится к нему. Более укрощенные гегельянцы придерживались этой субъективной, негативно-рассудочной или понимающей стороны гегелевской диалектики и тем самым приблизили ее к пониманию и осмыслению публики как метод исправления понятий путем устранения возможных противоречий; но при этом они также отдалились от действительного намерения своего учителя и вынуждены были принять это отступничество как упрек со стороны более строгих учеников Гегеля. Нельзя, однако, отрицать, что сам Гегель в своих пропедевтических попытках сделать смысл диалектики понятным для понимания уже подал пример этого отступничества от эзотерического смысла своей диалектики. Понимающая диалектика, которая бежит от противоречия, и позитивно-рассудочная диалектика, которая стремится к противоречию, несовместимы друг с другом, поскольку находятся в неразрывном противоречии из-за своего противоположного поведения по отношению к противоречию. Разумеется, позитивно-рассудочная диалектика не видит в этом противоречии разумной диалектики самой себе никакого препятствия к объединению с ней. Разумная же диалектика, спасающаяся от противоречия, ради этого противоречия должна обязательно отвергнуть и исключить позитивно-разумную диалектику. Если она это делает и становится методом исправления понятий, то она возвращается к аристотелевской диалектике и отбрасывает все, что отличает гегелевскую диалектику от аристотелевской; но тогда такая диалектика не должна хотеть выдать себя за нечто иное, чем она есть, как это делают некоторые гегельянцы, которые выдают свою аристотелевскую диалектику за лишь модифицированную гегелевскую диалектику.
Теперь мы переходим к позитивно-рассудочной или спекулятивной деятельности. Диалектическая деятельность в более узком смысле вела нас по чисто рациональному пути до тех пор, пока мы не признали каждую из противоположностей в отдельности несостоятельной в силу присущих ей противоречий. Общий результат этой деятельности, следовательно, был бы скептическим, который гласил:
«Каждое понятие несет в себе противоречие; человек полагает, что избежит его, перейдя к противоположности, но там он попадает в другое противоречие, которое снова загоняет его обратно».
Если бы рассудок удерживал этот результат вместе с предложением о противоречии, через которое он к нему пришел, то вывод был бы таков: «никакое познание невозможно ни в каком виде». Гегель, однако, считает, что этот негативный результат должен быть дополнен до того, что только понимание (и негативный разум) не имеет возможности познания, но что теперь вступает позитивный разум, который действительно мыслит противоречие и устанавливает истину на противоречии, которое было поглощено и счастливо переварено (стало отмененным моментом). Поэтому единственная способность разума, которая отличается от понимания, – это мышление противоречия. Если мы возьмем понятия «тождество» и «различие» в качестве примера противоположностей, то задача разума состоит в том, чтобы мыслить тождество тождества и различия; теперь понимание также знает тождество этих понятий, например, в том, что они являются сравнительными понятиями отношения, так же как понимание знает их различие; но оно разделяет соображения, в которых оно устанавливает их тождество и различие. В этом разделении, однако, по Гегелю, они не рассматриваются в их истинности, но требуется, во-первых, чтобы были забыты соображения и отношения, в которых они тождественны и различны для понимания. Во-вторых, чтобы, когда они рассматриваются в определенном отношении и связи, они оказывались в той же связи и отношении и в тот же момент как тождественными, так и различными (Werke XIV, p. 210), чтобы таким образом их тождество не осмысливалось в этот момент, их различие – в тот, но чтобы их абсолютное тождество и абсолютное различие мыслились в тот же момент; в-третьих, однако, необходимо, чтобы это «помещение тождественного и различного в ту же связь» было распространено на все отношения, в которых вообще должны рассматриваться данные понятия, поскольку иначе рассмотрение было бы неполным, т. е. чтобы они рассматривались в их тотальности. Т.е. чтобы они позиционировались в своей тотальности и абсолютно идентично и по-разному в один и тот же момент. Требование ясно. Оно дано в фиксированных определениях понимания: два понятия понимания (тождество и различие) должны быть связаны актом мышления, который также выражается понятиями понимания (установление тождественного и различного в один и тот же момент). В этом требовании нет, одним словом, ничего, что выходило бы за пределы возможностей понимания. Есть только исполнение, которое понимание объявляет невозможным и, как признает Гегель, справедливо. Но в этот момент, по Гегелю, в дело вступает разум и говорит: «Я могу это сделать, я это сделал». Это единственный момент, когда способность, выходящая за пределы понимания, действительно необходима для диалектического метода.
Но деятельность этой способности никак не может стать понятной, ибо всякая понятность осуществляется посредством слов, которые обозначают абстракции, то есть фиксированные понятия понимания. Эта деятельность также никогда не может быть постигнута тем, кто ее осуществляет; ведь постичь – значит постичь в понятиях, а понятия – это абстракции, то есть определения понимания, а понимание никогда не может постичь разумное, оно должно скорее отрицать его (Works I, pp. 184—185). Доказательством этому может служить фрагмент Сочинений I, стр. 286:
«Скорее следует сказать, что философия действительно должна начинаться, продолжаться и заканчиваться понятиями, но непостижимыми (!) понятиями, ибо в ограничении понятия заключается непостижимое» (т. е. «первичная истина» в смысле Рейнгольда, против которого направлен этот отрывок) «вместо того, чтобы быть объявленной, отменяется: – и соединение противоположных понятий в антиномии (для способности понимания противоречие) есть не просто проблематическое и гипотетическое, но в силу непосредственной связи с ним его ассерторическое и категорическое появление и истинное откровение, возможное (?) через рефлексию, непостижимого в понятиях» (т.е. «непостижимого»).
Действительно, любопытно, что рациональное, которое само по себе есть нечто непостижимое, тем не менее не может найти для своего появления или откровения ничего иного, кроме понятий рассудка, которые совершенно неадекватны ему, но в которых, появляясь, оно, очевидно, аннулирует себя одновременно с рациональным, несмотря на то, что объединяет их таким образом, который рассудок объявляет невозможным. Если эта единичная деятельность позитивного разума вообще не поддается ни сообщению, ни пониманию, то Гегель совершенно прав, называя ее мистической (Werke VI, с. 160); ведь в том содержании, с которым она работает, и в том новом понятии, которое возникает как предполагаемый результат ее достижения, она имеет дело с детерминациями понимания, а значит, не с тем, что разумно; но в том, как оно этого достигает, оно перестает быть мышлением, для которого понимание является первоосновой, conditio sine qua non [основной предпосылкой]; ибо «где нет уверенности, там невозможно и познание» (Werke VI, с. 76). Шеллинг уже вынужден (Werke I, стр. 181) признать, что «интеллектуальное воззрение» (из которого вырос гегелевский разум) в действительности может иметь место в сознании так же мало, как и абсолютная свобода; в этой негативной решимости, однако, и заключается подлинный характер мистического. Ни один путь не ведет от мышления к мистическому; мышление может лишь отрицать его. Если бы рациональное было достигнуто через детерминацию понимания, оно само было бы только пониманием и ничем более. Апелляция Гегеля к тому, что мистическое только «недоступно и непостижимо» для понимания, но не для себя, для разума (Werke VI, стр. 160), напрасна – следует настаивать, что это злоупотребление словом «постижимое», если то, что по своей сути уже не может быть воспроизведено и постигнуто никакими постижимыми понятиями, что якобы стоит выше всех понятий, все еще называется постижимым, и если оно также присоединяет к себе напыщенное имя разума. Вера» Якоби, даже если она впоследствии была переименована в «разум», ничуть не стала более способной к самопониманию, чем прежде. Как бы ни была велика ясность внутреннего света, который видит мистик, он не постигнет его, так же мало, как безумец постигает свою неподвижную идею.
Сам Гегель описывал истинный характер спекулятивной деятельности (Werke I, стр. 188) как прекращение сознания – характеристика, которая самым несомненным образом отождествляет материю с мистикой:
«Ибо спекуляция в своем высшем синтезе сознательного и бессознательного требует также уничтожения самого сознания, и разум тем самым погружает свое отражение абсолютного тождества и свое знание и самого себя в свою собственную бездну».
Но чтобы «эта ночь» была в то же время «полднем жизни», – это утверждение, повторяющееся у всех мистиков, – мы можем отнести только к тому свету, который, как говорят, рассветает в области сердца индийского пупса, но который сейчас и никогда больше не является светом науки.
Наконец, если мы спросим, как это утверждение о возможности мыслить единство противоречия связано с общим характером разума как бесконечного мышления, то станет очевидным, что при таком предположении об абсолютной неопределенности и изменчивости понятия противоречие кажется менее отталкивающим, поскольку оно перестает быть противоречием в тот самый момент, когда разум считает, что определил его как таковое, поскольку только одно из понятий или оба одновременно должны незаметно и мгновенно измениться таким образом, чтобы противоречивое исчезло из их связи. Но мы не должны хвататься за этот кажущийся спасательный круг, ибо Гегель прямо заявляет лишь о том мышлении единства противоречия как рациональном, в котором противоречие сохраняется в своей полной противоположности. Поэтому следует сказать, что, помимо приписываемого ему свойства бесконечного мышления, разум должен обладать способностью мыслить единство противоречия, которое кажется разуму невозможным. Как бесконечное мышление в текучих понятиях, разум в силу присущей ему логической необходимости порождает противоречия, от которых негативно-рассудочный интеллект позволяет себе метаться туда-сюда, не имея возможности их избежать; как способность мыслить противоречие, разум с такой же логической необходимостью отменяет в самом себе навязанные противоречия, чтобы тут же установить их заново в той же или иной форме. Для разума противоречие в сознательном дискурсивном мышлении всегда рассматривается как результат, а значит, и как симптом ошибки, т. е. отклонения от логических законов, нелогичности мышления или выпадения из логической нормальности. Для гегелевского разума, напротив, противоречие – продукт логически законного мышления, необходимый компонент логически необходимого, а его отсутствие – симптом ошибки и ложности.
Итог этой главы таков: Ложно, что интеллект не способен постигать истину; причудливо предполагать в одном и том же интеллекте два факультета, мыслящих по противоположным противоречивым законам; утверждение, что разум есть бесконечное (текучее) мышление, не востребовано особенностью функций диалектического метода, но они представлены и исчерпаны в фиксированных детерминациях понимания, насколько они вообще коммуницируемы; отрицательно-рассудочная деятельность, в той мере, в какой она стремится доказать противоречия пониманию, относится к противоречию так же, как понимание, и противоречит так же, как положительно-рассудочная деятельность; деятельность положительного разума, в той мере, в какой она выходит за пределы деятельности понимания и за пределы восприятия взятого из него материала, является мистической, непосредственной для других и непостижимой для самого осуществляющего ее человека.
– (Если диалектики гегелевской школы думали устранить дуализм понимания и разума, воздерживаясь от употребления этих слов и тем самым скрывая его, насколько это возможно, то это полная ошибка. Пока в сознании сохраняются те же противоречивые функции мышления, что и у Гегеля, чудовищность этого дуализма сохраняется, даже если имена «понимание» и «разум» отброшены. Это относится, например, к Куно Фишеру, который во втором издании своей «Логики и метафизики» (стр. 343—344 и 359—360) отстаивает необходимость признания противоречия действительным, мыслит его единство и тем самым отменяет формальные законы мышления).
4. Признание правомерности метода
Каждое новое научное утверждение, входящее в мир, должно оправдать себя, то есть доказать, почему оно вообще сделано, обосновать, почему оно сделано именно так, а не иначе, и показать, что оно вообще возможно, если в этой возможности можно усомниться. Но это обоснование, доказательство и аргументация должны – это следует принять как должное – основываться на том, что уже существует и признано, а не на том, что только предстоит узаконить, иначе совершается та же ошибка, как если бы объясняли понятие определением, в котором это понятие встречается, или как если бы хотели, чтобы человек, осужденный за лжесвидетельство на основании веских и достаточных доказательств, был оправдан присягой. Новое понятие, если оно может быть определено только само по себе, остается непонятным и неизвестным; обвиняемый, если он не может опровергнуть доказательства лжесвидетельства никакими аргументами, кроме тех, которые основаны на его собственном доверии, осуждается, а новое утверждение или комплекс новых утверждений, которые могут быть узаконены только паспортом, выданным им самим, остаются исключенными из сферы науки. Рассмотрим теперь легитимацию диалектического метода.
Гегель хочет оправдать свой метод перед разумом, но не хочет. Он чувствует, что смелое утверждение о беспредпосылочности может произвести впечатление на некоторых, кто позволит себя обмануть, но опасность того, что его нигде не примут, еще больше. Поэтому он пытается оправдать свою работу перед интеллектом. Но, к сожалению, несмотря на все ложные предпосылки, которые он выдвигает для этой цели, ему не удается узаконить метод перед разумом, и в конце концов он вынужден вернуться к тому, чтобы отвергнуть требование узаконить метод, как джентльмен, слишком уважаемый для этого, и довольствоваться оправданием перед судейским креслом разума, которое впервые было создано этим методом. Тот, кто помнит, что было сказано о положении критики по отношению к диалектическому методу, не может сомневаться в том, что одно только поведение последнего соответствует духу метода, а попытка оправдаться перед разумом – это непоследовательность, которая может рассматриваться только как экзотерическая уступка, возможно, также как плащ, скрывающий его истинную форму, без которой метод с самого начала был бы признан всеми тем, чем он является, и повсюду находил бы закрытые двери. Но тот разум, который провозглашается методом в качестве судейского места, стоящего над пониманием, на самом деле создан только методом и для целей метода, так что он стоит или падает вместе с методом, я полагаю, что достаточно объяснил это в историческом введении и предыдущей главе. Если, следовательно, метод не может оправдать себя перед разумом, а, как признает сам Гегель, всегда должен быть объявлен последним невозможным, то он действительно черпает свое оправдание исключительно из самого себя, поскольку утверждение разума является исключительно интегрирующим компонентом самого себя, но противостоит всему кругу знания и мышления, который, как мы видели, исчерпывается разумом, как вторжение, которое нельзя терпеть, и разум, то есть существующая наука, стал таким образом вторжением, которое нельзя терпеть. Т.е. существующая наука, таким образом, имеет не только право, но и обязанность «отвращать и преследовать этот разум, если он не находится в полном безразличии уверенности». (Сочинения I, с. 184—185).
Диалектический метод объявляет всякое другое обозначение неистинным в соответствии со своими собственными принципами, поэтому, если бы он хотел оправдать себя рассуждением, которое все же находится вне его самого, он должен был бы объявить такое доказательство мнимым, то есть доказательством, которое имеет истину в качестве своего результата только случайно. Гегель выражает это следующим образом (Сочинения VI, с. 15—16):
«Это мышление философского» (рационального) «способа познания требует для себя обоснования, как в смысле его задуманной необходимости, так и в смысле его способности познавать абсолютные объекты. Но такое постижение само по себе является «философским» (рациональным) «познанием, которое происходит только в рамках философии». Таким образом, предварительная экспликация была бы «нефилософской» (разумной) «и могла бы быть не более чем тканью предпосылок, заверений и аргументов – то есть случайных утверждений, которым с тем же правом можно противопоставить утверждения противоположные».
В тот момент, когда он наиболее ясно говорит о предпосылках метода, он заявляет (Werke I, стр. 176):
«Потребность философии можно выразить как ее предпосылку, если сделать своего рода площадку для философии, которая начинается с самой себя».
Но, обсудив эту предпосылку, он заключает:
«Но неловко выражать потребность философии как ее предпосылку, ибо тем самым потребность получает форму рефлексии. Эта форма рефлексии проявляется в виде противоречивых пропозиций, о которых речь пойдет ниже. От пропозиций можно требовать обоснования; обоснование этих пропозиций в качестве предпосылки еще не должно быть самой философией, поэтому рассуждение и обоснование начинаются до и вне философии».
Но о том, что следует думать о последней, говорится в Сочинениях I, с. 181:
«Если мышление не представляется как абсолютная деятельность самого разума, для которого не существует абсолютно никакой оппозиции, но если мышление есть только чистое отражение, то есть такое, в котором существует только абстрагирование от оппозиции, то такое абстрагирующее мышление не может даже выйти из понимания в логику, которую разум должен постичь в себе, а тем более в философию.»
То, что разум не нуждается в предпосылках, а является самодостаточным, и что попытки оправдать его из рефлексии дают ему ложную позицию, он утверждает положительно и ясно в Сочинениях I, стр. 198. Если мы добавим, что, по словам Гегеля, «здравый смысл не только не может понять спекуляцию, но и должен ее ненавидеть… должен его ненавидеть и преследовать» (Werke I, pp. 184—185), но что «в борьбе понимания с разумом последний имеет силу лишь постольку, поскольку он отказывается от самого себя» (Werke I, p. 176), т. е. Если, наконец, принять во внимание, что между диалектиками и недиалектиками невозможен спор, поскольку они лишены этой общей основы и мыслят по противоположным и противоречивым законам, то становится ясно, что это утверждение о беспредпосылочности и самодостаточности разума и его метода – единственная точка зрения, которая может показаться адекватной духу вопроса. В этом гегелевском нововведении мы имеем не только утверждение или комплекс утверждений, которые должны быть исключены из науки как необоснованные и нелегитимные, не только необоснованное и беспочвенное утверждение, противоречащее некоторым обоснованным утверждениям, но и утверждение, противоречащее всему предыдущему мышлению о науке и жизни и полностью опрокидывающее его, чтобы поставить на его место свое собственное безусловное заверение в себе;
«Но нет ничего короче и удобнее, чем иметь одну только уверенность в том, что я нахожу в своем сознании содержание с уверенностью в его истинности, и что, следовательно, эта уверенность принадлежит не мне как особому субъекту, а самой природе духа» (Werke VI, с. 140).
Диалектик утверждает, что он может мыслить противоречие, т. е. что он, как он это называет, обладает спекулятивным разумом, и он обобщает этот опыт своего сознания, который он утверждает, и объявляет его природой самого духа, несмотря на то, что все философы до Гегеля и все люди, кроме бесконечно малого числа диалектиков гегелевской школы, объявляют это невозможным и противоположным опыту своего сознания, несмотря на то, что этот непостижимый акт есть мистика, но уже не мышление и не может привести ни к какому осуществлению, несмотря на то, что он уничтожает формальный критерий неправды, которому мир столь многим обязан и который в своих последствиях никогда не был обманчивым ни в теории, ни на практике. Таким образом, даже если здесь только один психологический факт противостоит другому, один имеет все (всеобщее признание во все времена, внутреннюю ценность, согласие с самим собой, ясность, правильность и практическую незаменимость последствий) в свою пользу, другой – все против. Нет никаких сомнений в том, в пользу какого утверждения следует принять решение. Более того, со стороны отрицательного утверждения (что нельзя думать о противоречии) самообман гораздо труднее и менее вероятен, чем со стороны положительного (что можно думать о нем), так как в последнем случае можно легко соблазнить человека принять волевое усилие за поступок, особенно если при определенных обстоятельствах присутствуют практические мотивы, которые делают веру в успешное исполнение желательной, а это, как мы увидим в дальнейшем, действительно так и есть.
Теперь, когда мы убедились в истинной легитимации диалектического метода, давайте рассмотрим, что можно «косвенно» считать его предпосылками. Наиболее четко Гегель выражает эти положения в уже упоминавшемся выше отрывке (Werke I, pp. 176—177):
«То, что называется предпосылкой философии, есть не что иное, как выраженная потребность. Так как потребность тем самым положена в основу рефлексии, то должны существовать две предпосылки. Одна – это сам абсолют; это цель, к которой стремятся. Он уже существует – как еще его можно искать? Разум порождает его, лишь освобождая сознание от ограничений; это снятие ограничений обусловлено предполагаемой неограниченностью. Другой предпосылкой было бы возникновение сознания из тотальности, разъединения и т. д.».
Таким образом, одна предпосылка – это абсолют как объект желания и потребности, другая – расчленение сознания на ничто иное, как антиномии, перед которыми интеллект стоит в недоумении и которые преодолевает только разум, «объединяя эти противоречия, одновременно утверждая и то, и другое, и упраздняя их» (Werke I, стр. 188). Нам предстоит выяснить: во-первых, существует ли каждая из этих двух предпосылок в действительности, и, во-вторых, делают ли они, если существуют, переход к диалектическому методу с его сверхпостижимым разумом необходимым или вообще оправдывают его. —
Гегель неоднократно внушает нам, что задача философии – постичь абсолют сознанием (например, Сочинения I, стр. 178):
«Абсолют должен быть построен для сознания – такова задача философии, но так как производство, как и продукты рефлексии, являются лишь ограничениями, то это противоречие».
Кто открыл ему, что задача, более того, единственная задача философии – постичь абсолютное в смысле бесконечного, которое выходит за пределы всякой концептуальной детерминации? Разве это больше, чем произвольное, пустое утверждение, которое немедленно наказывается вытекающим из него противоречием? Какая дерзость не кроется в гегелевском софизме: «Оно (абсолютное) уже существует – как еще его можно искать?» Да, он существует как поставленная Гегелем задача словами сконструировать невозможное для сознания. С тем же правом я могу ходить с фонарем и искать вчерашний день, ибо он есть – как же еще я могу его искать! —
«Но поскольку производство и продукты рефлексии являются лишь ограничениями, то конструирование абсолютного для сознания является противоречием».
Это утверждение, несомненно, истинно, поэтому, если на мгновение допустить, что перед философией стоит только эта задача, то вывод очевиден: философия невозможна, ее не может быть. Заметьте, мы не должны вмешиваться здесь в диалектику, ибо мы стоим на точке зрения рациональной рефлексии как весталки рациональной рефлексии. Поэтому Гегель совершенно правильно указывает (в Werke VI, стр. 80), что эмпиризм должен отрицать абсолютное (он слишком много говорит, когда ставит вместо него «сверхчувственное»); непонятен, однако, его упрек (Werke I, стр. 185), «что понимание не в состоянии отделить пределы видимости от абсолютного», поскольку оно разделяет их настолько же, что признает только ограниченное, но не абсолютное (в гегелевском смысле), существующее за ним. Потребность в неопределенном, о которой можно мечтать и предполагать при слове «абсолют» (ибо при нем нельзя мыслить ничего положительного), эта потребность принадлежит как непонятное стремление, осуждаемое рассудком как стремление к невозможному, к числу чувств; непонятные чувства, однако, никогда не могут быть предпосылкой или даже обоснованием науки. С другой стороны, при более тщательном рассмотрении и исследовании этих чувств становится очевидным, что они отнюдь не стремятся к неопределенно бесконечному абсолюту, уничтожающему в себе всякую понятийную детерминацию, что они неправильно понимают себя и свою собственную психологическую основу, когда делают это, и что на самом деле они довольствуются сверхчувственным необусловленным, которое не исключает, а включает в себя понятийную детерминацию и реальное внутреннее разнообразие.
Теперь мы переходим к другой предпосылке, заявленной Гегелем, – выделению сознания из тотальности в противоречие сплошной оппозиции. Если ссылка на вожделенный Абсолют – это приманка специально для тех, кто любит протаскивать в науку мистику своей эмоциональной жизни, то предпосылка о полном разъединении сознания – это то непременное условие, при котором только диалектический метод может осмелиться делать свои неслыханные навязывания публике, поскольку без этой предпосылки ни у кого не хватит терпения даже выслушать их. Это, однако, резко контрастирует с возвышенным отсутствием предпосылок у метода, что, по правде говоря, является его единственным правом. Когда Гегель в Сочинениях I, с. 172—177, под заголовком «Необходимость философии», объясняет раздвоенность сознания исторически как застывание в мертвых противоположностях, которые когда-то были жизнеспособны, это возможно только потому, что он в первую очередь путает и смешивает оппозицию и противоречие; Из других учений Гегеля ясно, что разъединение может означать только запутывание рассудка в противоречиях, из которых он не видит выхода, одним словом, в антиномиях, и то, что теперь фактически должно составлять предпосылку диалектики, есть гегелевское утверждение, «что антиномия обнаруживается во всех предметах всякого рода, во всех представлениях, понятиях и идеях» (Werke VI, стр. 103), что во всем этом «противоречие существенно и необходимо» (Werke VI, стр. 102). Это утверждение столь же ново и своеобразно для Гегеля, как и то, для чего оно призвано служить предпосылкой. В историческом введении мы видели, что все философы объявляли противоречие не чем иным, как существенным и необходимым, но скорее невозможным как для мышления, так и для бытия; мы видели, как диалектика греков состояла в основном в исправлении понятий путем применения предложения противоречия в качестве критерия ложности; Мы даже видели, что Аристотель ясно показывает, как и почему любая попытка мыслить вопреки предложению о противоречии отменяет себя, если только она не основана на непонимании вопроса.
Гегель нисколько не озабочен этим доказательством, и ему нечего сказать по поводу фундаментальных законов тысячелетий, кроме того, что, во-первых, предложение об исключенном третьем, примененное к противоположным противоположностям, дает бессмыслицу (Сочинения IV, с. 67; VI, с. 238—239), что, однако, ни в коем случае не является нападением на это предложение, как думает Гегель, поскольку уже Аристотель (De interpret. c. 7. 17b, 20) прямо заявляет, что и почему то же самое относится только к противоречивым противоположностям; во-вторых, что все три закона мышления не дают никакого нового содержания (Werke IV, pp. 33—37; VI, p. 231) и делают знание лишь на волос богаче или ведут его дальше, чем оно есть, в чем также никто еще не сомневался (кроме Фихте), поскольку законы мышления чисто формальны и, конечно, из чисто формального нельзя вывести никакого материала; в-третьих, и наконец, он заверяет (Werke IV, p. 68):
«Что же касается утверждения, что противоречие не существует, что оно не есть сущее, то нам нет нужды утруждать себя подобным заверением»; но даже говорить, что противоречие не может быть мыслимо, «нелепо» (Werke VI, стр. 242).
Конечно, можно мыслить задачу, поставленную в словах, – одновременно предицировать и отрицать одну и ту же вещь в одном и том же отношении, но таким образом не мыслится само противоречие, а мыслится только задача мыслить противоречие. Нам, однако, будет достаточно того, что сам Гегель признает (Сочинения I, стр. 188 и далее), что рассудок не может его мыслить, ибо мы рассматриваем здесь предпосылку, которая должна привести нас сначала к разуму и диалектике, т. е. которая имеет отношение только к рассудку. Но даже если интеллект не может мыслить противоречие, он все же может убедить себя в существовании противоречия, будь то в природе чувственного мира или в природе объективных понятий, и этого действительно было бы достаточно для признания реальности противоречия и для антиномического разъединения сознания. Если же предположить, что это так, то, поскольку невозможность мыслить противоречие никогда не может быть изменена признанием его существования, из этого, очевидно, не следует ничего, кроме гетерогенности, несоответствия или нетождественности бытия и мышления, которая допускает, что противоречие, хотя и немыслимое, все же может быть, что поэтому мышление не в состоянии постичь ту часть бытия, которая поражена противоречием, и если, как хотел бы сказать Гегель, все поражено тем, что мышление вообще не может постичь бытие, поскольку последнее абсолютно нелогично. Из такого рассогласования сознания не следует ничего дальнейшего; мышление должно было бы полностью отказаться от познания бытия. Но такое окончательное отрицательное следствие, такая полная отставка требует поистине героического мужества и силы, которыми обладают только сильные и самоотверженные духи. Менее последовательный, более слабый, тщеславный ум, считающийся со своими субъективными желаниями, всегда будет пытаться избежать этого отчаяния мышления в себе, и одним из таких выходов для восстановления тождества мышления и бытия является, например, тщеславие мыслить противоречие.
Таким образом, но только таким образом, «разъединение может стать источником потребности в философии» (Werke I, p. 172), но ни в коем случае не через принудительную необходимость мышления, а через бессилие выдержать состояние отчаяния и тщетную веру в то, что такое урезание разума до невозможности признания недостойно меня. Отсюда проистекает желание и стремление иметь возможность мыслить предполагаемое противоречие, желание порождает волю, а тщеславие воображения в конце концов принимает волю за поступок (что слишком часто случается даже в этической сфере). Как и везде у предшественников (Канта, Якоби, Фихте, Шеллинга), там, где рассудок объявил себя банкротом, имя «разум» должно помочь, чтобы, казалось бы, продвинуться вперед и достичь того, чего, как всем известно, рассудок достичь не может.
Это соображение также разрешает возможный случай, когда противоречивое понятие гегелевского Абсолюта должно иметь существование; следовательно, оно должно оставаться не менее чуждым для мысли.
В следующей главе мы рассмотрим средства, с помощью которых Гегель пытается подкрепить свое доселе неслыханное утверждение о том, что противоречие есть во всем и во всех.
5. Противоречия
Мы не можем осветить каждый отрывок из всего цикла работ Гегеля, где утверждается существование противоречия; наше рассмотрение может ограничиться лишь классификацией софизмов, призванных продемонстрировать это, и объяснением их на примерах. Поскольку данная глава является лишь продолжением предыдущей и касается существования утверждаемых Гегелем противоречий в той мере, в какой она призвана служить диалектике и разуму как предпосылке их появления, мы все же вправе на протяжении всей этой главы требовать от диалектика, чтобы он занял в своем рассмотрении позицию понимания и позволил молчать своему божественному разуму, который официально еще не существует.
1. Выдвигается предпосылка или ставится требование или задача, которую слушатель считает возможным принять как внешне безобидную, не понимая, что в ней уже содержится противоречие. Конечно, затем легко развить противоречие в явном виде из последствий этого признания, после чего слушатель, естественно, должен поверить, что развитые противоречия лежат в природе рассматриваемых понятий. Так обстоит дело, например, с элеатскими софизмами о движении, восхваляемыми Гегелем, где делается противоречивая предпосылка, что непрерывное может быть выражено дискретным, тогда как они более неоднородны, чем меры и фунты, которые также не могут быть выражены смешанным образом (ср. Schelling, Werke I, 1, pp. 285—286). Другой пример – абсолют. Гегель даже признает, как мы видели выше, что желание постичь абсолют в сознании – это противоречие; тем не менее, он придает значение противоречиям, которые вытекают из этой противоречивой предпосылки, из попытки сделать невозможное возможным! Это настолько важно для дальнейшего изложения, что мы хотим остановиться на этом на мгновение.
Хорошо известно старое утверждение, что в абсолюте, если понимать это слово в смысле неопределенного бесконечного, исчезают все различия. Конечно, пока детерминация сохраняет определенность, в которой она существует, она не абсолютна; но если детерминации действительно находятся в Абсолюте, они утратили свою определенность и отношения, в которых они существовали, и поэтому стали недействительными для мышления. Таким образом, в этой неопределенности абсолюта все детерминации поглощены; как небытие они, следовательно, также безразличны, подобно тому как в ночи (как Гегель описывает абсолют в Сочинениях I, с. 177) все кошки черные. «Ибо неопределенное – ничто для понимания и кончается небытием» (Сочинения I, с. 179); «ибо где нет детерминированности, там невозможно и познание» (Сочинения VI, с. 76). Если не хочется успокаивать себя Якоби тем, что он «держится за это представление о бесцветном небытии как энтузиаст» (Werke I, стр. 251), борется против всякой множественности фиксированных определений и «погружает все конечное в бесконечное», т. е. Я спрашиваю, хочет ли кто-то, как Гегель, требовать, чтобы в этой ночи абсолютной неопределенности различались противоположности, то есть детерминации, чтобы детерминация в ее полном уничтожении сохраняла в то же время тотальность? Если мы хотим потребовать, чтобы этот абсолют, который как нечто абсолютно неопределимое есть абсолютное ничто для мышления и познания, был тем не менее не только чем-то, но даже совокупностью всего существующего и как нечто существующее был бесконечен, то мы ставим перед собой целый ряд невозможных, самопротиворечивых задач и не должны удивляться тому, что все попытки их решения могут двигаться только в противоречиях. Но скорее следует спросить, чем оправдывается абсолютизация определений, и здесь становится очевидным, что для этого не может быть приведено никаких научных мотивов, а только вышеупомянутая мистическая эмоциональная тоска по абсолюту, который сам себя неправильно понимает. Но насколько абсолютизация понятий неоправданна для мышления в целом, настолько же она, естественно, безуспешна для расширения знания, настолько же бесполезно предложение, что в абсолюте исчезают все различия. Гегель полностью признает этот недостаток абсолюта своих предшественников, но вместо того, чтобы тем самым полностью отказаться от него, он стремится придать ценность бесценному, заполнив его пустоту богатством противоречия, при этом он воображает, что сохраняет все преимущества прежнего абсолюта и устраняет его недостатки – жаль только, что противоречие, которое при этом совершается, делает обе стороны одинаково иллюзорными.6
2. Тождество различных или противоположных понятий достигается путем абсолютизации их различия или противоположности. В этом и во всех последующих пунктах речь идет, по сути, о доказательстве тождества двух понятий, различие которых допускает каждое из них; ведь при доказательстве того, что различные понятия тождественны, желаемое противоречие естественно возникает. Но какое значение может иметь противоречие, которое тождество понятий породило абсолютизацией, мы только что обсудили; только этим доказывается, что противоречие имеет место. Тем не менее, по всей строгости, это единственный способ доказательства тождества, который полностью соответствует духу диалектики; ибо поскольку противоречие не может быть постигнуто пониманием, но только разумом, а рефлексия лишь постольку, поскольку она имеет отношение к Абсолюту (Сочинения I, стр. 182), и только через это отношение «разум» (Сочинения I, стр. 178), то только противоречие, связанное с Абсолютом, противоречие, погруженное в Абсолют, может быть объединено и постигнуто; «в этом соединении» (через разум) «оба существуют одновременно» (противоположности); «ибо противоположное и тем самым ограниченное есть тем самым» (соединение) «связанное с абсолютным. Но оно существует не само по себе, а лишь постольку, поскольку оно позиционируется в абсолюте, то есть как тождество» (Werke I, с. 179). Не различие вообще есть тождество, а только абсолютное различие – уже не тождество (Werke VI, pp. 170—172; IV, p. 32), а абсолютное тождество; различия тождественны не как конечные определения, а как бесконечные, неопределенные определения, как непостижимые понятия (Werke I, p. 284). Это полностью соответствует §85 «Энциклопедии» (Сочинения VI, с. 163—164), в котором все моменты, которые должны быть пройдены в логике, постулируются как предикаты или определения Абсолюта. Абсолют есть бытие, абсолют есть небытие, абсолют есть становление и т. д. – Но если это погружение определений в абсолют является единственным средством, которое диалектика может действительно использовать для определения понятий, то это бросает своеобразный свет на все утверждение, что во всем есть противоречия; ведь все эти предполагаемые противоречия возникают только через необоснованную абсолютизацию в связи с невозможным требованием одновременного упразднения и сохранения детерминированности и конечности определений. Но этим утверждением, как мы знаем, отпадает единственная предпосылка, при которой диалектика может осмелиться внедриться в науку. Разумеется, диалектика не способна реализовать даже этот свой идеал, ибо никто не может смириться с абсолютизацией таких детерминаций, которые находятся на низком уровне абстракции и ближе к чувственному восприятию.
Только в случае таких понятий, которые по своему высокому уровню абстракции настолько удалены от непосредственного восприятия, что слово кажется сопровождаемым лишь темным, схематичным остатком восприятия, не вполне покрывающим результат абстракции, только там такие уловки имеют некоторую перспективу на успех [нахождение признания – wp]. Но в случае с понятиями, более близкими к полному восприятию, этот идеал диалектики должен быть оставлен и заменен всевозможными другими приспособлениями, которые должны быть рассмотрены немедленно, но все они тем легче просматриваются, чем ближе человек подходит к твердой почве воображения, вот почему диалектический метод не прижился почти нигде, кроме логики.
Начало логики, где речь идет о чистом бытии и небытии, может служить примером отождествления через абсолютизацию. «Каждое из двух есть в той же мере неопределенное» (Абсолютное) (Werke III, стр. 91), они «абсолютно различны» (Werke VI, стр. 172), но именно потому, что различие абсолютно, оно «не подлежит утверждению» (Werke III, стр. 91, «невыразимо» (Werke VI, стр. 172).
«Если мы вообще говорим о различии, то тем самым имеем два, каждое из которых имеет цель, не находящуюся в другом. Однако бытие есть только то, что абсолютно неопределенно, и та же неопределенность есть также небытие. Поэтому различие между ними есть лишь намеченное различие, совершенно абстрактное различие, которое не есть различие» (Werke VI, с. 170).
На это мы должны ответить: Ничто не оправдывает представления бытия и небытия как детерминированных; ведь бытие – это полностью детерминированная детерминация, равно как и небытие – отрицание чего-то. Предположим, однако, что оба они абсолютно неопределимы и их различие не может быть обозначено мышлением, тогда они были бы уже не двумя понятиями для мышления, а одним с двумя синонимичными словесными обозначениями, которые можно было бы безразлично менять местами повсюду. Тот, кто отвергает это следствие, должен отвергнуть и утверждение, из которого оно непосредственно следует.
В случае с понятиями более низкого уровня абстракции для целей Гегеля обычно достаточно абсолютизировать их в отношении их важнейшей стороны или отношения, либо расширить или перепрыгнуть границы определения в любом направлении таким образом, чтобы определение перестало быть тем, чем оно должно быть и оставаться в соответствии со своим определением. Пословицы, процитированные в Сочинениях VI, с. 155—156, также следует понимать таким образом, хотя в их чрезмерно краткой версии есть нечто парадоксальное, но люди никогда не поймут их так, как если бы в них содержалось противоречие. Наслаждение и боль находятся здесь. Оба имеют количественный предел в своем росте, где они становятся качественно различными, удовольствие – болью, боль – анестезией, в то время как вниз оба ведут к нулевой точке ощущений; но это поведение не может быть объяснено физиологически и уж тем более диалектически, по крайней мере, оно не может служить опорой для диалектики.
Теперь мы переходим к диалектическим уловкам подчиненного рода, которых диалектика должна стыдиться не только перед здравым смыслом, но и перед самой собой, поскольку только когда она работает с абсолютизированными или непостижимыми понятиями, она является истинным разумом в гегелевском смысле и возвышается над пониманием.
3. Отношения, в которых или согласно которым два понятия тождественны и различны, скрыты. То, что понятия, связанные с разными словами, в определенных отношениях различны, показать достаточно легко, но то, что они всегда должны быть одинаковыми в определенных отношениях, следует из того, что всегда можно указать более высокий род, к которому они принадлежат как общие виды, даже если это в конечном счете род «понятие». Если теперь размыть эти отношения и представить понятия только как тождественные и различные в одно и то же время, то этим сокрытием создается видимость противоречия там, где его вообще нет; ведь пропозиция противоречия, согласно формулировке Аристотеля, прямо предполагает положение и отрицание в одном и том же отношении. В качестве примера можно привести термины «равный» и «неравный» (Сочинения IV, с. 42—43):
«Именно то, что противоречие и растворение призваны удерживать от них, а именно то, что нечто равно другому в одном отношении, но неравно в другом, – это разделение равенства и неравенства есть их уничтожение. Ибо и то и другое есть определения различия» (должно, вероятно, означать: сравнения); «они есть отношения друг к другу» (? должно, вероятно, означать: между другими) «быть одним тем, чем не является другое; равное не есть неравное, а неравное не есть равное; и оба имеют по существу (?) это отношение и помимо него никакого смысла (?!?); как определения различия каждое есть то, что оно есть, в отличие от другого. Но благодаря их безразличию (?) друг к другу равенство только (?) относится к самому себе, неравенство же является отдельным рассмотрением и размышлением для самого себя; таким образом, каждое из них равно самому себе; различие исчезло (?!?), поскольку у них нет детерминации друг к другу (?), или каждое из них тем самым является только (?) равенством.»
Если мы полностью проигнорируем тот факт, что, хотя равенство и неравенство являются отношениями между другими, безразличными к ним, в общем случае A и B, здесь создается искусственная путаница путем внезапной подмены самих A и B терминами «равенство» и «неравенство» и, более того, утверждения этой произвольной подмены как «существенной» для них, давайте примем это спокойно и посмотрим, что Гегель выдвигает вкратце:
«Равное не есть неравное и неравное не есть равное, но равное есть равное, а неравное есть неравное согласно пропозициям противоречия и тождества, т. е. каждое из двух отлично от другого или по отношению к другому, но равно по отношению к самому себе».
Чем теперь мотивируется вывод: «Различие исчезло, так как они не имеют определенности по отношению друг к другу; или же каждое из них есть только равенство?» Ясно сказано, что каждое из них имеет равенство только по отношению к самому себе, ясно сказано, что их отношение или определенность по отношению друг к другу есть различие, как же Гегель может ожидать, что после нескольких строк пробела кто-то примет его утверждение, что они не имеют определенности по отношению друг к другу, что различие исчезло! Оно исчезло только в том случае, если его забыть, или, поскольку это невозможно после пяти строк, если сознательно ослепить себя против другого отношения, если скрыть его. Разве это не величайшая из мыслимых односторонностей интеллекта – желать видеть только одно из двух сопоставляемых отношений между двумя понятиями и действовать так, как будто другого в мире не существует, и делать выводы из этой односторонней слепоты, а в другой раз проделать то же самое с другим отношением? Но так односторонен не здравый ум, который всегда рассматривает отношения вместе, а только разум, который, вынужденный спуститься со своей высоты абсолюта на землю, чтобы сделать свой голос услышанным, должен использовать для своих целей такие софизмы, с помощью которых он опускается гораздо ниже уровня понимания, которое он порицает. – Это сокрытие отношений, в которых понятия равны и различны, а также вышеупомянутое уничтожение отношений, в которых понятия существуют, и расширение их за их пределы, являются, по отдельности и в сочетании, главными средствами диалектики для создания противоречий в понятиях, которые не дошли до последнего предела абстракции.
4. Понятия отношения ставятся в связь с другими понятиями отношения, причем с такими понятиями отношения, что понятия отношения, которые теперь должны быть предицированы им, сами противопоставляются им, так что кажется, что они сами в себе противоречат друг другу. Уже в предыдущем примере (равное и неравное) это средство сыграло подчиненную роль в увеличении путаницы; но там оно не было главным; в своей чистоте оно, однако, появляется в примере с терминами «тождество» и «различие». Рациональные мыслители говорят (Сочинения IV, стр. 33):
«Тождество не есть различие, но тождество и различие различны». Они не видят, что тем самым сами говорят, что тождество есть различие; ведь они говорят, что тождество отлично от различия; поскольку это в то же время следует признать природой тождества, то она заключается в том, что тождество не внешнее, а само по себе, по самой своей природе, быть различным».
Прежде всего, следует отметить, что понятия отношения не примыкают (имманентно) к вещам, подобным другим, а существуют только и исключительно в референтной мысли, хотя в смысле применимости их рода и природы к референтным вещам они зависят от определенного качества последних, которое, однако, само не составляет понятия отношения. Гегель прямо признает это в отношении «равного и неравного» (Werke IV, с. 41):
«Равнозначно ли нечто другому нечто или нет, не касается ни того, ни другого; каждое из них относится только к самому себе» (даже не относится), «является в себе и для себя тем, что оно есть; тождество или нетождество как равенство или неравенство – это рассмотрение третьей стороны, которая лежит вне их».
Я не знаю, как должны различаться «неравенство и различие»; но равенство (в логическом, а не математическом смысле) и тождество различаются только в том случае, если из трех видов тождества, которые указывает Аристотель, имеется в виду только последнее, которое исключает большинство рассматриваемых вещей и делает их едиными, чего не делает равенство. Разница в том, что в случае равенства две вещи связаны друг с другом, а в случае тождества одна вещь связана сама с собой; но связь при всех обстоятельствах остается деятельностью третьей стороны, которая лежит вне обеих. Более того, следует заметить, что об этом последнем виде (тождество по числу) нельзя говорить там, где, несомненно, присутствуют две вещи или понятия; в таком случае – а в нашем примере это именно так – тождество и одинаковость абсолютно эквивалентны различию и неравенству. Если, следовательно, ясно, что тождество и различие здесь, как и равенство и неравенство, являются отношениями, которые могут возникнуть только в референтной мысли внешнего третьего лица, которое их соотносит, то есть что эти понятия отношения являются внешними по отношению к референту, тогда уже нельзя утверждать, что референты имеют это отношение в себе и не внешне, а по существу и в своей природе, поскольку оно скорее является продуктом пассивных вещей и активного субъекта, соотносящего их друг с другом. Будет ли отношение, как только субъект выберет сравнительное отношение, тождеством или различием, это, однако, зависит уже не от произвола субъекта, а от природы соотносимых, а именно от того, таковы ли они, что их можно безразлично для субъекта обменивать друг с другом или нет (что Гегель забыл подчеркнуть в случае равенства и неравенства). Однако остается верным, что «каждое из них есть и остается само по себе тем, что оно есть», и со своей стороны нисколько не озабочено другим, так что при всех обстоятельствах отношение не есть нечто внутреннее и существенное для него, но нечто внешнее, ничто не лежит в его природе, но нечто субъективно определяемое. Этого уже достаточно, чтобы опровергнуть гегелевский софизм, основанный на противоположной предпосылке. Однако необходимо принять во внимание и следующее. Если понятие отношения предицируется единичному понятию, то это всегда неактуальный способ выражения, способ выражения, который имеет практическое преимущество краткости и еще никогда не подвергал здравый ум опасности непонимания. В строгом смысле слова, однако, по крайней мере два понятия принадлежат к одному отношению, и это отношение не принадлежит ни одному, ни другому исключительно, но стоит между ними и выражает отношение, в котором мысль рассматривает оба. Но если положение обоих в отношении безразлично, так что их можно менять местами по желанию (как, например, факторы в продукте), то исчезает всякий соблазн односторонней предикации. Поэтому логически правильным является выражение, которое Гегель также использует в начале цитируемого отрывка: «А и В различны», но не «А отлично от В». Отношение не принадлежит ни одному, ни другому, а только обоим одновременно как целому, в том смысле, что оно как внешний закон витает между ними и образует их идеальную связь. Например, А и В – два; не А есть два с В или по отношению к В, не А имеет в себе двуединство по отношению к В, но только А и В в целом мыслимы как одно и поставлены во внешнее отношение быть сосчитанными, получая отношение два. Так же как было бы неверно, поскольку А и В – два, утверждать, что А имеет двойственность в себе, так же неверно, поскольку А и В – разные, утверждать, что А имеет различие в себе. Как неверно было бы в первом случае стремиться найти противоречие в том, что А, которое только одно, имеет в себе двойственность, так неверно будет и во втором случае, если случайно для общего знака А подставить термин «тождество», найти противоречие в том, что тождество имеет в себе различие. Этот софизм также имеет свое конечное основание опять-таки в гораздо большей односторонности, чем та, в которой повинен рассудок; ибо рассудок не забывает противопоставлять понятие отношения, с одной стороны, сумме референтов, с другой – целому, а диалектика разделяет референты и ставит на одну сторону свободно плавающее отношение как приличествующее [äußerliche – wp] свойство.
5. В таких понятиях отношения, в которых два референта занимают разное положение и не подлежат взаимозаменяемости, как, например, один и много, причина и следствие, выше и ниже (Сочинения IV, стр. 70), отец и сын (там же.), в которых поэтому отношение полно только тогда, когда поняты обе его стороны, причем одна сторона отношения вообще не может быть понята и постигнута сама по себе иначе, как при молчаливом дополнении полного отношения другой стороной, в таких понятиях отношения нераздельная координатная сопричастность мыслится диалектикой так, как если бы, при рассмотрении одного, другое, В созерцании другого одно подчинено ему (постигнуто под ним), и необходимость в мышлении одной стороны отношения представлять ее как отношение к предполагаемой и молчаливо дополняемой другой стороне трактуется так, будто одна сторона имеет другую в себе или носит ее в себе, тогда как она лишь предполагает ее вне себя и может быть постигнута только одновременно с ней, и только одновременно с ней возникает в мысли. Если же две стороны отношения противоположны, то такое искажение создает впечатление, что каждая сторона несет свою противоположность в себе или имеет свою противоположность в себе, что, конечно, является противоречием. Возьмем пример причины и следствия (Сочинения IV, стр. 226):
«Причина является причиной лишь постольку, поскольку она производит следствие, а причина есть не что иное, как эта решимость иметь следствие, а следствие есть не что иное, как эта решимость иметь причину. В причине как таковой заключается» (выражение «заключается» двусмысленно) «ее следствие, а в следствии – причина; если бы причина еще не действовала, она не была бы причиной; – а следствие, если его причина исчезла» (т. е. из мысли), «уже не следствие, а безразличная реальность».
Из всего этого следует не больше и не меньше, как то, что понятия «причина» и «следствие» не могут быть разделены в мысли и только в своем неразрывном единстве образуют полную и единую связь (причинность), но из этого не следует, что причина и следствие тождественны; напротив, тот факт, что они являются необходимыми сторонами связи и что ни одна из них не достаточна сама по себе, но нуждается в другой и только в ней находит свое дополнение, только еще более подчеркивает их различие; Ведь если бы они были тождественны, если бы одно было в то же время другим, то оно не нуждалось бы в них, а имело бы достаточно само по себе, как, например, равенство. например, равенство. Гегель ищет в причине только постоянные условия, но закрывает глаза на переменные. Соответственно, он видит связанные друг с другом как причина и следствие только в дискретных вещах или объектах (Werke IV, pp. 227—228), а не в их изменчивых непрерывных состояниях или действиях, которые могут стоять друг к другу только во временном отношении «до и после», что существенно для причинности. Далее он объявляет «недопустимым применение отношения причинности к отношениям физической органической и духовной жизни» (Werke IV, стр. 229) и видит причинность в области неорганической природы, которая, таким образом, остается одна, в сохранении живой силы или в самоподобии кванта движения (Werke IV, стр. 228). Но даже при этих предпосылках утверждение Гегеля о тождестве содержания причины и следствия (Werke IV, стр. 226 и 227) все равно будет ложным, ибо именно изменение формы живой силы, которая остается неизменной как квант (в ударе, тепле, электричестве, химии и т. д.), задаваемый причинностью в каждый момент, есть действительное содержание участков природного процесса, связанных друг с другом как причина и следствие и темпорально сопряженных, и оно именно иное в следствии, чем в причине. Для полноты изложения это замечание не могло быть опущено в выбранном примере, так же как в заключение я хочу отметить, что необоснованная категория взаимного действия (не путать с механическим понятием противодействия, вытекающим из относительности движения), которую Гегель объявляет высшим выражением причинности, правильно критикуется Шопенгауэром (Welt als Wille und Vorstellung, третье издание, т. I, с. 544—549), хотя в этой критике он вменяет Канту взгляды, которых у последнего вовсе не было. То, что остается от взаимодействия, не является ни специальной категорией, ни даже приложением полной категории причинности, но абстрактно отделенными каузальными частичными отношениями.
Этот софизм тоже в конечном счете основан на произвольной односторонности, которая сама себя наказывает ошибкой. Рассудок схватывает обе стороны отношения как целое, бок о бок, но диалектика хочет рассматривать каждую сторону отдельно и надолго закрывать глаза на другую; но поскольку заблуждение, что это возможно, заставляет другую сторону невольно вновь появляться перед взглядом, возникает ошибка, что эта другая сторона содержится в рассматриваемой.
6. Тождество, возникающее из сравнения, подчинено единству, возникающему из объединения, сочетания или соединения частей в целое. Смешение тождества и единства – это, однако, злоупотребление, которое начинается уже с Шеллинга; но это смешение понятий, обозначаемых разными словами, которые не могут быть неправильно истолкованы, ни в коем случае не оправдано. Тождество в немецком «Dieselbigkeit» или «Dasselbigkeit» в корне совпадает с аристотелевским термином tanton. Если исключить аристотелевский tanton, который как раз и имеет самое строгое значение (как в «тождестве личности»), то получаются соответствующие немецкие слова «Einerleiheit» и «Gleichheit». Это все логические отношения; но совсем другое дело – реальное отношение единства, союза, связанности, общности, независимо от того, являются ли части, входящие в них, вещами или понятиями. Ясно, что если использовать «тождество» либо в его истинном смысле, либо в том, к которому оно не относится, то в выводах должны обнаружиться безнадежные ошибки. —
Примером может служить связь между субъектом и предикатом в суждении. Гегель правильно объясняет их отношение в Сочинениях VI, стр. 331, §170 как отношение конкретного и абстрактного, в том смысле, что субъект богаче и содержит предикат только как одну из своих многочисленных определенностей, а предикат шире и всеобъемлющее, по крайней мере по одному отношению своей определенности, и включает в себя много других, помимо данного субъекта. Это отношение, что субъект – это такая идея, от которой можно абстрагировать детерминацию, которую содержит предикат, это отношение выражается копулой в связи с положением частей предложения и не более того. Если мы хотим говорить о чем-то, в чем субъект и предикат тождественны, то Гегель правильно говорит, что «одно только детерминированное содержание предиката составляет тождество обоих», если под субъектом понимать не просто общее содержание слова, функционирующего в качестве субъекта, а весь субъект, как он содержится в объективных фактах конкретного случая, представленного суждением (например, в предложении: «Тарелка разбита» субъект «тарелка» мыслится как уже разбитая). Таким образом, они тождественны только в определенном содержании предиката, но ни в чем другом. Но теперь Гегель продолжает в §171:
«Субъект, предикат и детерминированное содержание или тождество сначала „устанавливаются“ в самом суждении в их отношении как различные» (да!) «распадающиеся» (нет!). (Именно здесь начинается путаница между различием и разделением, тождеством и единством). «Сами по себе, т.е. согласно понятию, они, однако, тождественны, в том, что» (теперь следовало бы ожидать обоснования этого нового утверждения, противоречащего предыдущему) «конкретная тотальность субъекта есть это, не быть какой-то неопределенной множественностью, а только единичностью, конкретным и общим в тождестве, и именно это единство есть предикат».
В этом предложении вместо ожидаемого обоснования и объяснения этого странного утверждения происходит лишь повторение того же самого, но таким образом, что смешение слова «тождество» с «единством» не только несомненно из контекста, но даже откровенно выражено в следующих словах. Итак, субъект и предикат отнюдь не являются несовместимыми противоположностями, поскольку они отчасти тождественны и субъект отличается от предиката лишь в той мере, в какой он богаче последнего и содержит определения, которых лишен предикат; поэтому оба они вполне и без противоречия могут быть объединены в единство, и противоречие в них можно найти только в том случае, если совершить противоречие, сделав их тождественными и в том, в чем они не тождественны, а различны. Это противоречие, однако, возникает, когда понятие тождества подчиняется их единству, в которое они естественным образом входят как тотальность. Из копулы «есть» Гегель не смог бы вывести иллюзорное основание для тотального тождества субъекта и предиката ни через исследование понятия «бытие», ни через исследование понятия «копула», ибо и то и другое не имеет никакого отношения к понятию «тождественное установление». Поэтому без только что раскрытого софизма Гегелю не удалось бы найти достаточную очевидную причину, по которой суждение как таковое должно быть противоречием в его общей форме (Werke V, стр. 74). Для полноты картины я упомяну еще один момент, который Гегель умело использовал для усиления видимости с другой стороны. А именно, можно представить себе случай, когда все число субъектов, подпадающих под данный предикат, сводится к одному, который, разумеется, должен быть данным. В этом случае субъект и предикат находятся на одном уровне абстракции, последний ни в коем случае не шире или более общий, чем субъект, скорее единственный объект, который соответствует данному предикату, это тот же объект, который соответствует данному субъекту; оба они идентичны, поскольку служат для обозначения объекта, и поэтому могут меняться местами по своему усмотрению. В данном случае, который внешне характеризуется проверкой того, допустимо ли чередование субъекта и предиката, копула, таким образом, является синонимом отождествления, но, в свою очередь, лишь случайным. Другая особенность этого случая заключается в том, что сказуемое в единственном числе обычно является существительным с определенным артиклем, так что, встречая предложение, в котором сказуемое само по себе имеет определенный артикль, человек по праву привыкает воспринимать это предложение как отождествление субъекта со сказуемым. Гегель использует это, выражая общую форму пропозиции так: «Особенное есть общее, или субъект есть предикат». Однако эта форма выражения недопустима, если ее хотят использовать для подобных обманов; она должна звучать так: «частное есть общее (имеет общее, то, что также свойственно нескольким) или субъект есть … (следует за предикатом)»; ибо обычное суждение звучит не так: «роза есть – красная», а так: «роза есть – красная». В этом исправленном варианте исчезает точка, которая создавала впечатление, что в этом предложении идентифицируются его части. Для Гегеля, однако, очень удобно представлять копулу как отождествление (Сочинения VI, с. 327), которым она вовсе не является, а может стать только благодаря случайным обстоятельствам; ведь теперь у него всегда под рукой последнее, никогда не подводившее, хотя и самое слабое средство показать противоречие в каждом утверждении, в каждом предложении, что различное (содержание субъекта и содержание предиката) устанавливается тождественно.
Таким образом, мы узнали следующие способы создания видимости противоречия:
1. Выдвигается предпосылка, задание или требование, которое слушатель принимает как внешне безобидное, но которое уже содержит противоречие.
2. отождествление различных или противоположных понятий происходит путем их абсолютизации в тех отношениях, в которых они различаются или противопоставляются.
3. Отношения, в которых два понятия тождественны и различны, скрываются, и лишь утверждается, что они тождественны и различны одновременно.
4. Понятие отношения ставится в связь с другим понятием отношения таким образом, что понятие отношения, которое теперь предицируется им, само противопоставляется ему, так что кажется, что они имеют собственное противоречие в самих себе.
5. В отношении, две стороны которого не взаимозаменяемы и мыслимы только рядом, отношение интерпретируется так, как если бы одно имело другое (свое противоречие) в себе и носило его в себе.
6. Понятие единства подчинено понятию тождества, и с этой точки зрения копула трактуется как знак отождествления различных частей предложения.
Таковы основные типы софизмов, которые Гегель использует для искусственного создания противоречий там, где их нет, не претендуя на их исчерпание. В целом эти софизмы лишь пытаются доказать противоречия в определенных понятиях или комбинациях понятий и при этом молчаливо предполагают, что реальность должна соответствовать этим понятиям. Однако такая предпосылка допустима лишь с той точки зрения, что и логическое мышление, и реальность свободны от противоречий и подчиняются одним и тем же логическим законам; с другой стороны, она недопустима, если рациональное мышление обязательно порождает противоречия в самом себе, как это предполагает Гегель. Ведь если бы мышление было внутренне противоречивым, мы не смогли бы прийти к выводу о том, свободна ли реальность от противоречий или нет, поскольку даже свободная от противоречий реальность была бы немедленно насыщена противоречиями нашим противоречивым мышлением, и мы никогда не смогли бы узнать, исходят ли наблюдаемые противоречия из реальности или из нашего мышления. Только если встать на точку зрения рационального, не противоречивого мышления, можно считать попытку поиска и распознавания противоречий в реальности не совсем безуспешной. Эту процедуру применяли также различные гегельянцы (например, Карл Розенкранц в своей «Wissenschaft der logischen Idee», т. I, с. 300—315; т. II, с. 306—352), а также настоящий диалектик Юлиус Бахензен (см. мои «Philosophische Fragen der Gegenwart», № XII). Все без исключения эти попытки сводятся к тщетному стремлению насильственно раздуть реальные противоположности, конфликты или столкновения, в которых нет ничего противоречивого, до противоречий (см. раздел 7 ниже: «Диалектический прогресс»).
Гегелевская школа уже давно должна была убедить себя в том, что навязывание признания противоречия как чего-то реального и необходимого как в бытии, так и в мышлении является почти непреодолимым препятствием для принятия и распространения гегелевской диалектики. Поэтому он сосредоточил свое внимание на различении двух видов противоречия, одного, который интеллект справедливо отвергает как абсурд и рассматривает как характеристику не истины, и другого, который, как предполагается, свободен от этого абсурда и представляет собой рациональную форму мысли и бытия. Едва ли можно взять в руки сочинения гегелевской школы, начиная со второй человеческой эпохи после смерти Гегеля, и не встретить в них эмфатического выражения необходимого различия между этими двумя видами противоречия. Можно было бы подумать, что для таких защитников гегелевской диалектики нет ничего более насущного, чем точное разграничение этих двух видов противоречия и точное указание признаков, по которым каждый из этих видов должен быть отличим от другого. Однако такого разграничения и определения можно тщетно искать во всей гегельянской литературе. Как только речь заходит о более точном определении предполагаемого различия между двумя видами противоречия, господа отступают за туманные фразы, заимствованные из гегелевской фразеологии понимания и разума. Это вполне естественно, ведь существует только одно определение противоречия, а не два, и никто еще не попытался показать, что и как это одно определение распадается на две разновидности и как получается, что одна из них якобы представляет абсурд, а другая – высшую истину. При более внимательном рассмотрении приведенных примеров все сводится к тому, что только один вид противоречия, а именно абсурд, соответствует определению противоречия, в то время как второй вид противоречия, который, как предполагается, составляет внутреннее ядро реальности, просто представляет собой противоположности, конфликты или столкновения, в которых отсутствуют самые существенные характеристики определения противоречия.
То, что Гегель называет растворением противоречия, есть не что иное, как реальное растворение, заключающееся в уничтожении видимости, порождающей противоречие, а скорее санкционирование и вложение противоречия, якобы задуманного в его единстве, в новое понятие, которое должно представлять как его уничтожение, так и продолжение его существования. Нас не должно обманывать слово «растворение». Конечно, достаточно часто случается, что даже без пристрастия диалектика, для которого противоречие – манна в пустыне понимания, мы верим, что столкнемся с противоречиями в вещах или в понятиях, именно потому, что человек подвержен ошибкам, и противоречивые следствия очень легко вытекают из ошибочных предпосылок, но тогда возникшее противоречие всегда будет представлять собой верный признак неверного пути, который призывает и помогает нам повернуть назад, пересмотреть и исправить предпосылки и выводы. Если требуемая связь между двумя понятиями становится непостижимой, потому что одно из них содержит полностью или частично то же содержание, что и другое, но в отрицательной форме, это свидетельствует о том, что одно из двух понятий (или оба) либо слишком широкое, либо слишком узкое, либо одновременно слишком широкое с одной стороны и слишком узкое с другой. Если, например, одно понятие остается неизменным, а другое расширяется, то теперь они соотносятся как конкретное с абстрактным или как вид с родом, и отрицание одного вида означает лишь положение другого вида того же рода (например, «бессознательное воображение» является противоречием, если «воображение» и «становление сознательным» тождественны, но если первое шире второго, то бессознательное воображение есть лишь тот вид воображения, который не становится сознательным. Ср. Антропология Канта §5). Корректировка понятий может происходить либо путем искусного экспериментирования, когда человек временно успокаивается новым предположением, пока не столкнется с новыми противоречиями, либо она состоит в систематическом контроле над приобретением понятий. Что бы ни думал Гегель о природе понятия, он все же признает, что мы приходим к нему только путем абстракции от чувственного представления (Werke VI, §1); контроль над приобретением понятия должен быть поэтому исправлением либо процесса абстракции и индукции, либо основы опыта, на которой развивается понятие; последнее, в свою очередь, может состоять либо в расширении и дополнении основы опыта путем нового опыта, либо в устранении ложного опыта, то есть таких суждений, которые являются ошибочными. То есть тех суждений, которые были ошибочно приняты за опыт, не являясь им на самом деле. Эта процедура не только является самой благословенно успешной в науке на сегодняшний день, но и определяет действия человека во всех жизненных ситуациях в каждый момент времени. Принципы диалектики упраздняют эту процедуру, ибо если противоречие не может быть устранено нигде и никак, то все наши попытки устранить его тщетны, а попытки исправить концепцию с этой целью бесполезны и глупы во всех отношениях и с любой точки зрения. Диалектика, таким образом, предстает как разновидность ленивого разума, который предпочитает всецело поглотить противоречие, а не заниматься постепенным его разложением и доказывать его существование как ложной видимости.
Комфорт такой манеры, безусловно, является сильным импульсом броситься в объятия диалектики для тех, кого пугают противоречия, с которыми они сталкиваются, и кто знает, не испытывал ли уже Платон время от времени тайное желание сделать это. Этот импульс праздности и комфорта, конечно, действует вместе с рассмотренными выше импульсами (тоска по абсолютному, бегство от скептицизма из слабости и тщеславия), увеличивая силу желания и тем самым опасность тщеславия, когда человек принимает мышление – желая получить противоречие для мышления – за способность. Но если предложение о противоречии раз и навсегда и для всех точек зрения (а значит, и для интеллекта) лишено своей обоснованности как признака ошибки благодаря утверждению, что противоречие есть во всем и во всех и делает все тем, что оно есть, то вместе с ним падает возможность науки и человеческого общения в целом. Например, метод математики, который всегда считался самым незыблемым, рушится в один момент как основанный исключительно на законе противоречия, и диалектике пришлось бы сначала показать возможность создания новой математики по своему методу, которая тем не менее дает те же самые результаты. В качестве другого примера представьте диалектика в качестве обвиняемого на уголовном процессе, который защищается только противоречиями; кто из присяжных захочет его оправдать? Если я услышу в разговоре слово «Гектор» и спрошу: «Гектор – человек или собака?» – предполагая, что он должен быть одним из двух, – и получу от диалектика ответ: «Гектор не является ни человеком, ни собакой, потому что он и человек, и собака, и ни человек, ни собака». Не объявят ли все ответившего безумцем, и не будет ли этот ответ столь же чисто формальным и пустым по содержанию, как и ответ: «Гектор есть Гектор»? Если диалектик хочет пройти по доске или по льду и размышляет, понесет ли его доска или лед или нет, выдержит ли она или сломается, то действительно ли он ответит себе диалектическим синтезом этой альтернативы, или же он скорее внутренне не задумается над презренным предложением противоречия: «Держать – не ломать, а ломать – не держать; если там держит, я иду, если там ломает, я остаюсь?» Одним словом, диалектик не может жить, он должен сломать себе шею и ноги в первый же день или, если фортуна будет к нему благосклонна, быть запертым в сумасшедшем доме и умереть там от голода, – если он не перестанет быть диалектиком и практически не признает и не подчинится тому, что теоретически ему претит. Выше уже было показано, насколько непоследовательным было бы стремление диалектика избежать этих последствий, ограничив отмену закона противоречия определенными областями; Необходимо утверждать, что дух диалектики требует противоречия как существенного и необходимого во всех областях мысли и бытия, и что наряду с этой необходимой предпосылкой, с которой диалектика сама по себе стоит или падает, противоположное заверение, что предложение противоречия должно также сохранять свою силу везде, должно быть проигнорировано как просто невозможное и абсурдное.
Поэтому во всех областях науки и жизни несомненно, что
1. противоречивые утверждения ложны и
2. противоречивые утверждения могут быть истинными, но могут быть и ложными; в любом случае они удовлетворяют чисто формальному критерию истинности.
Но истинны они или ложны по своему содержанию, для этого диалектика уже не имеет никакого общезначимого критерия (как логика понимания имеет для ложности содержания противоречия против опыта), а только субъективную уверенность в том, нахожу ли я, что ход объективного разума, который я наблюдаю в своем мозгу, согласуется с этими утверждениями или нет, без того, чтобы я мог далее указать, почему и почему объективный разум, которым я обладаю, берет этот ход или нет. Итак, является ли истиной величайший вздор, который может придумать шутник, или самая дикая идея, которая когда-либо овладевала безумцем, или нет, у диалектика нет для этого критерия, поскольку и то и другое противоречиво, и оба претендуют на то, чтобы постичь единство этого противоречия, но он должен видеть, согласуется ли это с его субъективным выводом или нет. С другой стороны, все человеческие мысли и действия до сих пор, которые, что бы ни возражал Гегель, основаны исключительно на поддержании пропозиции противоречия, также стоят и падают вместе с ней. Но формальный критерий диалектика одним махом объявляет все это ложным.
Чем, спрашиваю я диалектика, отмена пропозиции противоречия отличается от патологической фиксированной идеи? Врач распознает последнюю по тому, что больной держится за противоречивое утверждение, занимающее первое место в его интересах, и, если у него достаточно ума и образования, защищает его против возражений психически здоровых людей с величайшей изобретательностью и всеми софистическими искусствами. Разве все это не относится к диалектику? Может ли психиатр сомневаться в том, куда отнести этот своеобразный исторический феномен?
Таким образом, в конце этой главы мы вернулись к началу предыдущей в отмене пропозиции противоречия, которая там рассматривалась больше по ее внутреннему обоснованию, здесь – по ее внешнему положению и последствиям.
Если подвести итоги этих двух глав, то они будут следующими: Легитимация диалектического метода колеблется между попыткой оправдаться перед разумом и утверждением о безусловном отсутствии предпосылок. Под предпосылками диалектики можно понимать
1. Абсолют и
2. что все существующее пронизано противоречием.
Если бы эти предпосылки были истинными сами по себе, они ни в коем случае не привели бы к диалектике, а только к скептицизму и отчаянию мысли как таковой. Но обе они сами по себе не истинны.
Абсолют в гегелевском смысле не только ничто для мышления, но и невозможность; мучиться им может только мистическая эмоциональная тоска, которая уже никогда не сможет стать предпосылкой для научных принципов. Существование противоречий доказывается отчасти софизмами, недостойными разума и по своей односторонности стоящими ниже уровня понимания, отчасти отождествлением различных и противоположных понятий путем неоправданной абсолютизации, при которой они якобы исчезают и существуют одновременно; короче говоря, противоречие обнаруживается только там, где оно уже было совершено. Таким образом, предполагаемые предпосылки, которые должны служить для того, чтобы сделать диалектику доступной для интеллекта, оказываются не только совершенно непригодными для этой цели и не имеющими никакого обоснования, но и сами по себе неистинными. Диалектика должна отказаться от них и полностью и открыто признаться в отсутствии своих предпосылок, в чем она признает свою беспочвенность и объективную необоснованность, основанную только на ее собственной субъективной уверенности, так что, отвергнутая и исключенная из науки, она остается со своими принципами, отменяющими все основы познания в науке и жизни, лишь странным историческим явлением с характером патологической фиксированной идеи.
(Тот, кто хочет представить диалектику Гегеля, стремясь сделать ее популярной и понятной, должен отказаться от жесткой беспредпосылочности рациональной точки зрения и обратиться к пониманию, пытаясь сделать ее правдоподобной. Чем строже придерживаются этого направления, тем более плоскими и плоскими становятся рассуждения [аргументы – wp], тем более никчемными результаты, которым все больше не хватает той мистической глубины и силы. Тем не менее, диалектика не может полностью отказаться от позиции разума, к которому нет абсолютно никакого пути, ведущего от понимания, если она все еще хочет сохранить что-либо особенное в качестве метода; она не может, следовательно, избежать противоречия, которое лежит в понятии этого метода, если только она открыто и честно не откажется от себя и не вернется к дедукции и индукции, чего, однако, не произошло, если, как Куно Фишер, заменить слово «диалектический метод» на слово «метод развития»).
6. Текучесть понятий
В предыдущей главе мы рассмотрели утверждение Гегеля о том, что все пронизано противоречиями и что понимание все больше запутывается и путается в этих противоречиях, до форума понимания, на который диалектик был вынужден последовать за нами, поскольку это полное запутывание понимания в противоречиях должно служить лишь предпосылкой для восхождения к точке зрения разума. Теперь давайте, со своей стороны, добровольно последуем за диалектиком на точку зрения разума, в той мере, в какой она определяется как «бесконечное мышление», и рассмотрим, как отсюда опосредована и представлена отмена основных законов мышления.
Выше мы видели, что бесконечное мышление следует понимать как неопределенное мышление или как текучесть понятий в противоположность твердости понятий для рассудка. Для рассудка тоже существует неопределенное, но как покоящееся, неподвижное, исключающее детерминированное во всех отношениях. Неопределенность рассудка неопределенна не в том смысле, что она удерживает детерминацию от самой себя, а в том, что она разжижает ее, то есть непрерывно и постоянно изменяет. Если бы это изменение было не непрерывным, а прерывистым, то термин «неопределенность» не был бы применим в неограниченном смысле; но поскольку понятие ни в один момент не является тем же самым, что и в предыдущий, то неопределенность абсолютна, и, следовательно, только мышление является разумом.
С точки зрения понимания, попытка упразднить три закона мышления направлена непосредственно и наиболее резко против пропозиции противоречия (мы видели, как совершенно безуспешно); с точки зрения разума, упразднение направлено непосредственно и наиболее резко против пропозиции тождества, и с полным успехом. Прежде всего мы должны прояснить смысл пропозиции тождества.
Обычно она выражается так: «A = A» или «A есть A». Обе формы могут быть неверно истолкованы. Знак равенства говорит слишком мало, поскольку он не включает в себя действительный и самый строгий вид тождества, исключающий большинство по числу; он лишь отражает мое двойное мышление об определении A и объявляет обе пропозиции равными, не говоря (и это как раз главное), что моему двойному мышлению соответствует только один объект (объектом может быть также понятие, определение или идея). Другое выражение «А есть А» совершенно корректно, если копула «есть» воспринимается здесь как знак идентификации. Однако мы знаем, что изначально она не имеет такого значения, а принимает его лишь иногда и случайно, поэтому мы уже должны знать, что имеется в виду, иначе предложение «A есть A» также может быть неправильно понято.
Согласно чистому смыслу копулы, она говорит лишь о том, что А может быть предикатом А, и Гегель справедливо высмеивает это, поскольку такая пропозиция была бы совершенно тавтологичной и никчемной, и она справедливо противопоставляется пропозиции «А есть В» как единственной сущностной вещи. Но если понимать здесь копулу так, что она обозначает тождественное, и пропозиция теперь звучит так: «А тождественно А», или «А тождественно самому себе»; и если при этом заметить, что «тождественное» понимается здесь как тождество по числу, то мы действительно значительно приблизились к истине, но все еще недостаточно определили смысл пропозиции, если она не поставлена в правильное отношение к времени. Если относить предложение к одному и тому же моменту, то это просто определение тождества и ничего более; тогда это чисто аналитическое предложение, из которого нельзя извлечь ничего, кроме понимания этого понятия, но это не закон, поскольку в нем нет синтеза. Если же его все же представляют как закон, то он тавтологичен и бесполезен, а также является предметом насмешек. Синтез появляется в пропозиции и делает ее утверждением о природе объектов и законом только тогда, когда она выходит за пределы момента и относится ко времени, но не только к ограниченному времени, но и ко всему времени, или, что то же самое, когда она возвышается над временем и получает вечную силу: Тогда пропозиция гласит: «А вечно тождественно самому себе», и когда бы А ни вошло во время, оно всегда будет А и ничем иным. Это логический закон инерции, для которого физический закон инерции является лишь специальным приложением. Он гласит, что детерминация A никогда не может измениться, что она может быть отнята от вещи или дана ей, а также что к ней может быть добавлена детерминация B или, если она делима, от нее может быть отнята часть, что таким образом общая пропозиция может быть изменена и превращена в нечто иное, чем A, но тем не менее детерминация A не изменяется сама и не изменяется как детерминация того, что пропозиционируется или не пропозиционируется, в том смысле, что вместо нее пропозиционируется только другая. Таким образом, пропозиция тождества содержит синтетическое утверждение, таким образом, она всегда сознательно или бессознательно понималась интеллектом, и таким образом, действительно, весь мир мыслил в соответствии с этим законом. Однако это также и чистое отрицание рационального, неопределенного мышления, которое, в противоречии с этим логическим законом инерции, утверждает, что всякое определение по своей природе постоянно и непрерывно изменяется. Таким образом, то, что диалектике не удалось бы сделать с точки зрения разума: отмена фундаментальных законов, ей прекрасно удается сделать с точки зрения разума или текучих понятий, которые она сама же и создала; что, разумеется, неудивительно. Но давайте посмотрим, как организована работа мысли при принятии этой точки зрения. —
Если мы предположим, что A – это terminus medius умозаключения, то A в умозаключении понимается дважды, а именно в два разных, последовательных момента. Согласно предположению понимания, А вечно тождественно самому себе, следовательно, и в последовательных моментах умозаключения; согласно предположению разума, однако, понятие постоянно (то есть в каждый момент) изменяется, поэтому в нижней пропозиции оно также иное, чем в верхней пропозиции. Теперь, если верхняя пропозиция верна для понятия A, как оно есть в верхней пропозиции, а нижняя пропозиция верна для понятия A, как оно есть в нижней пропозиции (а это необходимо предположить), то вывод становится невозможным, или, если он все же будет осуществлен, он будет ложным, поскольку процедура вывода основана на неприменимой здесь пресуппозиции, что значение terminus medius одинаково в верхней и нижней пропозициях. Таким образом, бесконечное или текучее мышление как таковое должно либо отказаться от всякого рассуждения, либо, если оно рассуждает, все его выводы должны быть ложными. Если же необходимо сделать правильный вывод, то текучесть понятия (немыслящее мышление) должна быть приостановлена на время процесса рассуждения, и столько же времени должен действовать закон понимания тождества. Эта приостановка бесконечного мышления, конечно, должна повторяться так часто, как только необходимо сделать вывод.
Но на этом дело не кончается, ибо вывод был здесь лишь самым кратким примером требования тождества понятия, но это требование столь же необходимо для всякого прогресса в мышлении, ибо всякий прогресс, будь то аналогия, индукция или какая-либо другая процедура, основан на предположении, что слово, повторяющееся раньше и позже, обозначает раньше и позже одно и то же понятийное определение, и что это определение тождественно здесь и там. Следовательно, на каждом этапе мышления, то есть до тех пор, пока человек вообще мыслит, текучесть понятия должна быть приостановлена и заменена фиксированной идентичностью понимания, то есть, другими словами: нельзя мыслить текучими понятиями, а бесконечное мышление таковым не является.
Остается, однако, вопрос, можно ли, исходя из предположения, что природа понятия постоянно меняется, субъективной силой приостановить эту природу понятия и заменить ее фиксированным тождеством понимания. На этот вопрос следует ответить решительно отрицательно. Если это я изменяю понятие, я могу также оставить его неизменным в его собственной фиксированной идентичности; но если это само понятие изменяется, а я только пятое колесо в этом процессе, как мне начать прерывать естественное непрерывное изменение понятия и сохранить его на некоторое время в фиксированной идентичности, – где мне найти фиксированную точку, за которую я могу ухватиться в этом непрерывном изменении, где dos moi pou sto [Дай мне точку. … – wp] в этом panta rei [все течет – wp], в котором любая точка зрения, которую я пытаюсь принять, движется вместе с ним по своей природе? Это как если бы я хотел измерить скорость движения мира в пустом пространстве. В самом деле, у меня нет никаких средств даже воспринять изменение, происходящее с понятием A под моими руками; ведь для этого я должен был бы иметь понятие A, во-первых, как изменившееся (A1) и, во-вторых, как оставшееся тождественным (A), рядом, чтобы сравнить их; но откуда я возьму то, что осталось тождественным, если я даже не знаю, что A1) – это изменившееся? Таким образом, субъект даже не осознает, что понятие меняется, потому что по тому же закону меняется и применяемая мера; у субъекта не только нет силы и сопротивления, чтобы парализовать естественную силу изменения понятия, но он не может даже представить себе интерес или желание к нему, потому что он никогда не испытывает ничего, связанного с изменением понятия, потому что он никогда не может узнать, осталось ли понятие тем же самым или стало другим. Поэтому для эго, при условии, что природа понятия постоянно меняется, невозможно временно приостановить этот процесс самодвижения в каком-либо отношении, и поскольку только при этом условии возможно продолжение мышления, это условие отменяет всякую возможность мышления, как разумного, так и рационального. Действительно, бесконечное или рациональное мышление не может постичь конечное или рациональное мышление, несмотря на его уверения в обратном, в большей степени, чем последнее может постичь первое; ибо оно уничтожает возможность последнего и должно, следовательно, отрицать его.
Таков результат, если мы вслед за диалектиком перейдем на почву разума или бесконечного мышления. В главе «Разум и понимание» мы уже не могли не коснуться той двойственности диалектической или негативно-рассудочной деятельности, которая возникает в результате колебаний между отсутствием у метода предпосылок и его оправданием предпосылками. Мы уже видели там, что одна сторона диалектической деятельности имеет умопостигаемую (конечную) природу, другая – рациональную (бесконечную), и что они, соответственно, противоположным образом соотносятся с фундаментальными законами. В этой и предыдущей главе эта двойственность была объяснена, и мы увидели, как рациональная сторона диалектики нигде не может доказать то, что она хочет доказать, в то время как рассудочная (беспредпосылочная) ее сторона отменяет возможность всякого и любого мышления.
7. Диалектический прогресс
В этой главе мы должны рассмотреть, как диалектические противоположности соотносятся друг с другом и как из их единства или тождества может быть получено новое понятие.
Различные учебники логики отнюдь не сходятся во мнении относительно типов оппозиций, и даже у Аристотеля эта глава не до конца ясна. Я полагаю, что эта неопределенность возникает отчасти из-за неполноты деления, отчасти из-за неспособности признать постепенное опосредование и переход одного вида в другой.
Понятие различия более широкое и общее, чем понятие контраста; каждый контраст – это различие, но не каждое различие – это контраст. В частности, не называется контрастом то различие, которое слишком мало, которое лежит в слишком узких пределах, особенно когда эти пределы еще способны расширяться в том же направлении. Видно, что даже с этой точки зрения понятие «контраст» имеет столь же мало фиксированных границ, как и понятие «кластер». Давайте вместе с Аристотелем сначала проведем различие между противоположностями, которые находятся в одном роде, и теми, которые находятся в разных родах. Последние принято называть состязательными, но мы можем выделить три типа:
1. частнопротиворечивые без нового положения,
2. позитивно противоречивые без привации, как противоположности красного цвета, напр.
1. «не красный» (не имея в виду ничего другого, кроме красного),
2. «не красный» (но, например, широкоплечий),
3. «широкоплечий» (по отношению к красному, но без явного отрицания красного).
По отношению к роду, которому они противопоставлены, все эти три типа = 0, но только те, которые явно отрицают свою противоположность, образуют противоречие, когда они объединяются (я не говорю отождествляются) со своей противоположностью. Никто не может быть одновременно красным и не красным, но красным и широкоплечим. Поэтому (более того, совершенно бесполезно) злоупотреблять словом «не», которое имеет значение только в связи с копулой (или временем, включающим копулу), для создания отрицательного понятия бесконечного объема, например, если понимать под «не красным» сумму всех других возможных понятий, то есть бесконечное определение. Таким образом, «не красный» имеет значение лишь постольку, поскольку связь, устанавливаемая с копулой, принимается как данность, и тогда оно означает простое лишение красного цвета, но никогда – нечто положительное само по себе.
Если мы перейдем к оппозиции внутри одного рода, то обнаружим 4. простую оппозицию и 5. противоположную оппозицию или противоположность. Два вида одного рода находятся в простой оппозиции, если они не отменяют друг друга при объединении; в последнем случае оппозиция становится противоположной. Простые противоположности образуют, например, «длина и ширина, или ширина и высота» как виды измерения, «красный и желтый» как виды цвета, «вычитание и деление» как виды вычисления; противоположные же противоположности образуют «высота и глубина, красный и зеленый, умножение и деление»; ибо эти два отменяют друг друга и сводятся к 0 вертикального измерения, цвета, операции вычисления. В первом и третьем примерах нулевая точка (точка отсчета) становится результатом, во втором – бесцветным светом. Аристотель объясняет (Метафизика X, 4, начало) энантион [контраст, противоположность – wp] как то, что наиболее удалено друг от друга в пределах одного рода. Но сам он не вполне уверен в своем определении; ведь он допускает, что хотя между некоторыми энантионами может существовать неопределенное число промежуточных звеньев, через которые опосредуется odos eis allela, такие промежуточные звенья встречаются не во всех, а только в тех, где происходит постепенный переход. Во многих случаях расстояние между видами не может быть определено количественно; но даже там, где такая постепенная градация возможна, то есть где мы можем говорить о крайних видах внутри рода, эти крайние противоположности отнюдь не обязательно являются противоположностями (например, крайние высокие и низкие тона в тональном ряду или крайние размеры в породах собак). Поэтому необходимо добавить еще одну характеристику, чтобы обозначить крайности как противоположные противоположности. С другой стороны, существуют противоположности, которые не являются крайними в градуированном ряду; следовательно, другая добавленная характеристика должна быть сама по себе достаточной для установления противоположностей без необходимости характеристики крайностей. Тренделенбург особенно подчеркивает направление деятельности и требует, чтобы направления, в которых существуют противоположности или результатами которых они являются, были противоположными. Там, где направление вообще играет роль, это, конечно, правильно, так как противоположные направления деятельности приводят к аннулированию; но есть противоположности и без таких противоположных направлений, например, комплементарные лучи цвета, которые не отличаются ничем, кроме скорости. Таким образом, на самом деле взаимная отмена остается единственной характеристикой противоположности, которая применима везде, если только не выбирать ложные примеры (такие как свет и тьма, из которых последняя является лишь изъяном первой. Простой контраст течет вместе с «положительной противоречивостью без явной привации» из-за предела понятия рода, который не может быть фиксирован; как ради этой текучести предела, так и ввиду общепринятого использования языка, я счел, что не нужно лишать его названия «контраст», которое некоторые логики могли бы оспорить. Кстати, для нашей цели важно лишь полное прояснение терминов, а не их названий.
Соединение двух простых или положительных противоречивых противоположностей без лишения не дает противоречия; в апельсине красный и желтый полностью сохраняются, они смешиваются, но не мешают друг другу. Объединение же противоположных противоположностей является противоречием, если требуется, чтобы они сохранялись в процессе; ибо в том случае, если результатом его является их уничтожение, одновременно требуется сохранение и уничтожение, что является противоречием. Я не могу сказать: «Этот луч света одновременно и красный, и зеленый», ибо он либо красный, либо зеленый, либо бесцветный, но в последнем случае ни красный, ни зеленый; я могу только сказать без противоречия: «Этот луч света показывает сочетание красного и зеленого». Поскольку результат +A и -A = 0, их сочетание само по себе есть не что иное, как противоречие; оно таково лишь в том случае, если с ним связано требование, позволяющее им существовать в сочетании как то, чем они были. Теперь, поскольку Гегель при рассмотрении контраста имеет дело только с противоположным контрастом (Сочинения IV, с. 48f) (положительного и отрицательного), мы видим, как следует понимать его утверждение, что этот контраст «есть установленное противоречие» (Сочинения IV, с. 57—58); только благодаря этому возникает противоречие, что он выдвигает противоречивое требование сохранить контрарности в уничтожающем их соединении. Отсюда ясно, насколько безошибочно Гегель постоянно чередует понятия контраста и противоречия, которые он, естественно, использует для демонстрации противоречия. Это чередование подкрепляется еще и тем, что он привык постоянно менять точку зрения субъективного мышления и реальности. Ведь в субъективном мышлении противоположности продолжают существовать рядом, не отменяя друг друга, а в реальности они отменяют друг друга, не продолжая существовать рядом. Если мы теперь объединим обе точки зрения таким образом, что абстрактное знание об отмене противоположностей в реальности будет в то же время рассматриваться как фактическая отмена того же самого в мышлении, или в том смысле, что сосуществование только мыслимых противоположностей в мышлении будет представлено как доказательство их фактического сосуществования в реальности, несмотря на их отмену в том же самом, то, конечно, мы получим искомое противоречие.
Для нас важно то, что признает сам Гегель (Сочинения IV, с. 53): «Противоположности отменяют друг друга в их соединении (+ y – y = 0». Непонятно, однако, что сразу после этого Гегель помещает +y – y = y и +y – y = 2y. Если и +y, и y – это y, если и красный, и зеленый – это цвет, то это означает лишь то, что противоположности имеют общий род (Гегель говорит: «тождественное отношение») друг с другом, видами которого они являются; но никто никогда не утверждал, что род возникает из соединения двух видов, общее – из соединения двух частностей, и это насмешка над всем здравым мышлением, как можно осмелиться записать это утверждение в голой математической форме +y – y = y. Другое утверждение более простительно: +y – y = 2y; оно вытекает из того, что Гегель рассматривает +y и -y как «ординаты по разные стороны оси», «где каждая есть существование, безразличное к этому пределу и к своей противоположности» (Werke IV, стр. 54), т. е. что он абстрагируется от знака. что он абстрагируется от знака и просто складывает безразличные длины, каждая из которых = y (ни +y, ни -y), задавая таким образом y + y = 2y, но теперь забывает об этом абстрагировании от противоположности знака и снова вставляет знаки в уравнение, что, конечно, делает его бессмыслицей. Пример сделает это еще более наглядным. Определим площадь кривой, заданной уравнением координат и проходящей несимметрично через различные поля системы осей. Сначала мы вычислим площади кривой, лежащие на каждом поле системы осей, с точным учетом знаков, но затем, если неправильно сложим отрезки +F и -F1, так что в результате задачи получится F + F1. Возможно, Гегель имел в виду нечто подобное, но в случае с отрезками площади еще яснее, чем в случае с отрезками линии, что знаки должны быть отброшены перед сложением как то, что сослужило свою службу в другом месте, но теперь больше не пригодится и будет только мешать решению. Поэтому остается старая истина, что единственным результатом, который дают +y и -y при сложении, является 0.
Каждое определение способно иметь простую или положительную противоречивую противоположность, частное противоречие только в том случае, если оно само не состоит уже из частного, а противоположное – только при определенных обстоятельствах, для которых нельзя дать никаких общезначимых характеристик. Аристотель уже знал об этом и отмечает, что величина не имеет противоположности, как и все относительное, например, двойка или тройка. Вопрос о том, есть ли у определения противоположность и какая именно, не вытекает из самих понятий, а требует особого знания вопроса, которое носит явно интуитивный, а не дискурсивно-рефлексивный характер.
Дело осложняется еще и тем, что противоположные термины редко встречаются в чистом виде, а обычно смешиваются с другими терминами, которые либо вообще не противопоставляются, либо положительно противопоставляются друг другу без всякого ущемления. Например, две силы, действующие в косом направлении на одну и ту же точку, можно представить как состоящие из двух компонентов силы каждый, один из которых лежит на диагонали параллелограмма сил, а другой – перпендикулярен этой диагонали; только компоненты, перпендикулярные диагонали, противоположно направлены и аннулируют друг друга до нуля, а компоненты, лежащие на диагонали, имеют одинаковое направление и просто складываются. Или же красное и зеленое стекло таковы, что, будучи поставленными вместе, выглядят как черное, то есть солнце видно лишь смутно; в этом случае они противоположны по цвету, который при соединении отменяет друг друга до нуля, но также могут быть простыми противоположностями в виде выгравированных геометрических фигур (например, круга и квадрата), которые не отменяют друг друга при взгляде на солнце, а накладываются. Но даже если нет примеси таких сходных или простых противоположных определений к противоположным противоположным определениям, результат реального совпадения может быть отличным от нуля, а именно если один из противоположных элементов имеет количественный перевес над другим. Если сила A + n встретится с противоположно направленной силой -A, то останется результирующая +n, именно потому, что +A и -A аннулируют друг друга до нуля. Отсюда видно, что противоположность, понимаемая в ее чистоте и количественной эквивалентности, никогда не может иметь результат, отличный от нуля, и что любой другой результат может возникнуть только в результате качественных или количественных отклонений реальности от понятия чистой противоположности. Если называть встречу реальных противоположностей в одной и той же точке «оппозицией» (столкновением или конфликтом), то сведение к нулю свидетельствует о том, что встретились противоположности равной силы; всякий же положительный результат оппозиции показывает, что в них присутствовали компоненты, не соответствующие понятию противоположности.
Диалектический метод хочет, с одной стороны, иметь противоположности, чтобы вывести из них противоречие, как это уже было показано, путем одновременного уничтожения и продолжения существования, а с другой стороны, он хочет иметь положительный остаток, который остается в результате конфликта противоположностей, чтобы через него сделать возможным диалектический прогресс. Из сказанного ясно, что достичь объединения этих двух целей можно только в том случае, если он выбирает примеры, в которых противоречивые компоненты смешиваются с другими, но оставляет это смешение незамеченным и делает вид, что положительный результат получается из конфликта самих противоречивых положений. Насколько несостоятельно утверждение, что столкновение противоположностей, то есть реальное противоречие, содержит логическое противоречие, настолько же несостоятельно и другое утверждение, что положительный результат, а вместе с ним и диалектический прогресс, может возникнуть из мнимого противоречия противоположностей. Примесь других компонентов к противоположному противоречию, из которой только и может возникнуть положительный результат столкновения, имеет гораздо меньше отношения к противоречию, чем противоположное противоречие, к которому они примешиваются.
Что касается, в частности, Гегеля, то, прежде всего, следует констатировать, что, согласно принципам и правилам диалектического метода, диалектически противоположное означает только противоположную противоположность или противоположность. Об этом свидетельствует как частое употребление слова противоположность (например, превращение в свою противоположность), так и отождествление противоположности вообще с противоположностью положительного и отрицательного, а также прямые и открытые заявления Мишле, самого чистого представителя гегелевской философии в наши дни, в его полемике против Тренделенбурга («Gedanke», vol. 1), а также высказывание Гегеля (Werke VI, стр. 151, §81): «Диалектический момент есть самоотрицание таких конечных определений и их переход в свои противоположности». Если, таким образом, у меня есть детерминация А, то сначала развивается такая деятельность, посредством которой она отменяется (но это единственное отрицание, результатом которого является 0 или приватив А), но это не решается, движение, однажды приведенное в движение (согласно закону инерции, очевидно, в прежнем направлении, так как в точке 0 нет причины менять направление) устремляется за точку 0 в другую сторону и, согласно общему закону всякого колебательного или волнообразного движения, не встречая сопротивления, приходит в покой только тогда, когда пройдет то же расстояние или путь (=А) на отрицательной стороне, что и на положительной, т. е. когда доставит результат -А. Т.е. когда он достигнет результата -A. Если, таким образом, результатом единичного отрицания было частное, то результатом двойного отрицания или отрицающей деятельности является отрицание; но так как частное представляет собой частное-противоречие, а отрицание – противоположную оппозицию, то ясно, что диалектика, которая не удовлетворяется самоотменой детерминаций, но которая, кроме того, требует продолжения в противоположное (отрицательное), хочет оперировать только с противоположной оппозицией.
Кроме того, настолько очевидно, что из детерминации и ее простого отрицания не может быть выработано ничего нового, что, в сущности, не упускается и причина этого. Еще меньше, однако, чем в оппозиции «привативное – противоречивое», диалектика нуждается в оппозиции «простое – положительное – противоречивое»; Ибо, помимо того, что обе они в реальном единстве противоположностей не представляют никакого противоречия, чем прежде всего и занимается диалектика, для их устранения достаточно того факта, что существует бесконечная возможность простых и положительных противоречивых противоположностей к определению, ни одна из которых ни в чем не опережает другую, так что при определении ее простые или даже положительные противоречивые противоположности и ее частные противоречивые противоположности отнюдь не являются полностью определенными, поскольку существует только одна из каждого вида. Но диалектика, которая хочет показать, как детерминация переходит в свою противоположность (в единственном числе), может иметь в виду только те виды противоположностей, которые определены в своей единичной принадлежности. При бесконечной возможности положительных противоположностей выбор может решить только произвол или тайная цель, но никак не логика. В графическом изображении, где линии +A и -A символизируют контрарность, +A и 0 – частнопротиворечивую оппозицию, бесконечно много положительных и неконтрарных противоположностей представлены бесконечно многими возможными угловыми направлениями лучей, исходящих из точки 0, которые выходят за пределы протяженности +A.
Диалектика, таким образом, утверждает, что свойство понятия – колебаться между двумя противоположными определениями (+А и -А). Что такое +А, мы знаем, и что такое -А – тоже, но что представляет собой понятие на пути между +А и -А, может знать только Бог. Для этого нет слов, и нигде Гегель не описал и даже не доказал словами эти бесконечно многочисленные, постепенно опосредующие друг друга стадии перехода, но и для него переход от одной противоположности к другой всегда происходит скачками, в том смысле, что тождество двух подделывается каким-то софизмом; и это притворство логического отношения тождества предполагается применить к доказательству реального движения перехода! Если признать, что истина понятия состоит не в том, чтобы быть +А или -А, а в том, чтобы быть реальным переходом от +А к -А и наоборот, то нетрудно, в случае таких определений, обозначающих состояния, между которыми представление знает реальный переход, похвалить последнее как понятие, развившееся диалектически из противоположностей (например, становление как переход от ничто, или, вернее, небытия к бытию). Но и здесь диалектический ритм сбивается, ибо всегда получаются две новые детерминации, а именно переход от +А к -А и переход от -А к +А, одну из которых (в приведенном примере – уход из жизни) диалектика должна произвольно игнорировать и отбрасывать по ходу дела, если она не хочет раздробить себя до неисчислимости. Но лишь в редких случаях логические детерминации являются такими состояниями, между которыми существуют реальные переходы. Обычно диалектика довольствуется тем, что представляет новое понятие, которое должно быть получено, как реальное единство (союз) противоположностей. Но по какому праву диалектика утверждает единство противоположностей? «Переход» – это нечто отличное от «единства», как и «тождество»! Но как мы уже видели ранее, что Гегель меняет единство на тождество, так и здесь он меняет тождество (полученное с помощью софизмов) на единство. Конечно, Гегель также не может избежать того, чтобы при переходе видеть обе стороны как позиционированные и обе как непозиционированные, как того требует диалектический принцип. Нам может быть достаточно того, что переход нигде не доказывается, но в свою очередь также основывается только на доказательстве тождества. Но если мы действительно признаем, что диалектик обоснованно соединяет противоположности в реальное единство, то что же получается в результате этого соединения? Да ничего! 0, в котором аннулированы противоположности, но нет новой концепции! Это конец диалектического момента, и диалектический прогресс от диалектических противоположностей через их единство невозможен!
Нас мало интересует, действительно ли у Гегеля все противоположности противоположны, не являются ли они скорее отчасти также частно-противоречивыми (например, бытие и ничто, конечное и бесконечное, мера и безмерное), отчасти трояко или положительно противоречивыми (например, основание и бытие, понятие и действительность); ведь мы хотели рассмотреть только принципы диалектического метода и то, что из них следует, а не их применение у Гегеля. Но стоит отметить, что не все детерминации имеют противоположности, поскольку диалектический метод применим к ним с самого начала. Стоит также отметить, что во всех попытках оперировать диалектикой сохранялось смешение различных видов противоположностей.
Из критики этой главы становится ясно, насколько безнадежными должны быть попытки всех тех, кто воображает, что может устранить противоречия из принципов гегелевской диалектики и оперировать простым «единством противоположностей» вместо «тождества противоположностей», и тем самым прийти к какому-то логическому прогрессу. Даже если бы им удалось исключить из своего философствования все другие виды противоположностей (кроме противоположных) как бесполезные, то все равно от единства противоположностей, каким бы тесным оно ни было, нельзя было бы добиться никакого прогресса в познании, поскольку истинный результат – это только ноль общего рода этих противоположностей и ничего положительного вообще. Именно в этом тщетном стремлении и двигался Шеллинг, особенно в начале XIX века, в своем единстве идеального. В его единстве идеального и реального, или субъективного и объективного, в более позднее время то же самое повторил Куно Фишер, который, хотя и утверждает в теории своего метода, что одно и то же предполагает противоречие, тем не менее в своей практической обработке гегелевской логики демонстрирует стремление по возможности везде свести тождество противоречивых элементов к единству противоположностей, чтобы тем самым фактически избежать всех упреков в неприемлемых противоречиях и сделать диалектическую систему категорий логики понимания более правдоподобной. После вышесказанного очевидно, что даже при такой реорганизации метода, несмотря на красиво звучащее название «метод развития», все кажущиеся продвижения от единства противоположностей к новому понятию могут черпать свое содержание и расположение только из предшествующего эмпирического знания, и что таким образом не может быть дано даже рациональное выведение низших понятий из высших (полученных ранее путем индукции), поскольку соединение действительно противоположных противоположностей всегда обрывает продвижение.
8. Диалектический метод и эмпиризм
«Истинное может быть познано различными способами, а способы познания должны рассматриваться лишь как формы. Так, однако, можно познать истинное через опыт, но этот опыт есть только форма». (Сочинения VI, стр. 53)
Эмпиризм может быть полностью удовлетворен этой уступкой Гегеля. Ведь то, что Гегель называет главным недостатком эмпиризма и причиной его неадекватности – то, что он является «конечной» (Werke VI, p. 53) формой познания, – это то, чем эмпиризм по праву гордится, поскольку бесконечная форма – это не форма, бесконечное познание – это уже не познание, как мы видели выше. Другие возражения Гегеля против эмпиризма совершенно ничтожны. Неверно, что он «отрицает познаваемость и детерминированность сверхчувственного» (Werke VI, p. 80), поскольку выводит сверхчувственное из разумного; он отрицает только абсолютное в гегелевском понимании как «детерминированное небытие бессмысленности», и это справедливо. Неверно, что эмпиризм – «учение о несвободе», поскольку «разумное есть и остается для него данностью» (Werke VI, p. 83); ведь если он исходит из разумного, то из этого отнюдь не следует, что его результатом не может быть упразднение разумного. Но если бы это было не так, то является ли свобода объектом науки или истина? О том, можно ли объединить эти два понятия, можно судить только по результату, но отсутствие свободы никогда не может быть упреком для науки, если она только истинна. Неверно, что эмпиризм «не имеет права спрашивать, разумно ли разумное само по себе и в какой мере» (Werke VI, p. 83); ведь каждый имеет право спрашивать и исследовать, но не утверждать безосновательно, как утверждает Гегель. – «Теперь, поскольку восприятие должно оставаться основой того, что считается истиной, всеобщность и необходимость» (реализация которых, согласно Сочинениям VI, стр. 81, возможна только благодаря опыту; таким образом, появляется сам опыт) «как нечто необоснованное» (таким образом, только фундамент каждого здания был бы обоснован!) «как субъективная случайность, простая привычка, содержание которой может быть того или иного рода» (Сочинения VI, стр. 84).
«Основной обман научного эмпиризма всегда заключается в том, что он использует метафизические категории материи, силы, единого, многого, общего и бесконечного и т. д. и, кроме того, продолжает следовать за нитью этих категорий, тем самым предполагая и применяя формы рассуждения, не осознавая, что таким образом он сам содержит и практикует метафизику и использует эти категории и их связи совершенно некритично и бессознательно».
Эти упреки нисколько не затрагивают эмпиризма в его принципах, но только в его одностороннем применении к внешней природе, тогда как полная система эмпиризма обязана исследовать и установить силы и законы психической деятельности так же, как и силы и законы внешнего процесса природы (ибо, как говорит Шеллинг, мысль есть также опыт), откуда категории и формы рассуждения возникают так же, как параллелограмм сил и т. д., и, кроме того, из этого следует, что субъективной случайности так же мало, как и объективной, но что субъективная деятельность ума подчиняется той же неумолимой необходимости и столь же неумолимым законам природы. и далее следует, что субъективных случайностей так же мало, как и объективных, но что субъективная деятельность разума подчиняется тем же неумолимым необходимостям и столь же неискоренимым законам природы, как, например, механика твердых тел. Если, следовательно, некоторые эмпирики применяли формы мысли некритически, бессознательно, то упрек относится к ним, но не к эмпиризму, который скорее обязан осознать эти формы мысли как часть эмпирической психологии с самой тщательной критикой». —
Слово «эмпиризм» обозначает одновременно систему и метод, с помощью которого эта система строится, и характеризует и то и другое только по их исходной точке, или фундаменту, на котором они покоятся, потому что этим фундаментом (опытом) фактически характеризуется и тип строительства, и здание, но не в том смысле, что фундамент уже является целым. Эмпиризм как метод, основанный на опыте, тождественен индуктивному методу; к фундаменту опыта добавляются многообразные виды индукции, которые уже не опыт, а мышление; эмпиризм поэтому не исключает мышление, а включает его, но он не имеет ничего общего с бесконечным мышлением диалектики. Опыт – это единственно возможный способ прийти к содержанию; ибо мистическая концепция – это индивидуальная редкость и непередаваема; из простой формальности, однако, нельзя прийти к материальности, и даже чистая формальность не может быть дана науке в качестве содержания иначе, как через опыт. Но чтобы перейти от опыта, который всегда единичен, к науке, которая должна быть общей, опять-таки нет другого средства, кроме индукции; ведь это как раз и есть восхождение от частных истин к общим. Если философия так долго стремилась сделать своими те ослепительные доказательства, которые дает метод математики, то она не учитывала, что математика дедуцируема только потому, что является чисто формальной наукой, а философия – такая материальная наука, что ее материя есть не что иное, как все, из чего следует, что дедукция никогда не может быть методом познания для философии, а самое большее – только методом передачи того, что индуктивно познано; Ибо все должно быть выведено из принципов, но сами принципы, как знал уже Аристотель, могут быть познаны только индуктивно.
Поскольку речь здесь идет не о методе обучения, а о методе познания, индукция действительно является единственно возможным методом, хотя индуктивный метод, безусловно, является более превосходным, более легким для восприятия, более приятным и более убедительным для передачи того, что известно. На каких именно областях опыта должна быть сосредоточена индукция, на внутренних ли, как хотел бы Шеллинг, или, как хотел бы эмпиризм в более узком смысле, на внутренних и внешних одновременно, чтобы получить как можно более широкую основу, здесь не столь важно, но последнее никогда не может быть вредным, и, по крайней мере, чем шире основа, тем она надежнее.
Где же теперь место диалектическому методу, какие познаваемые вещи он должен признавать, которые не признает эмпиризм? Диалектика объявляет себя абсолютной наукой, а свои результаты – результатами чистого мышления, не зависящими ни от какого опыта. Это утверждение можно поддерживать только в том случае, если диалектика действительно идет своим путем, отдельно от эмпиризма, но не в том случае, если она, как это, по общему признанию, происходит, ежеминутно останавливаясь, поглощает содержание эмпирических наук, которое она находит пригодным для уст, и этими углями и водой заправляет локомотив концепции, который не сдвинется ни на шаг без развивающейся из него силы. Тренделенбург очень хорошо выражает эту альтернативу словами («Логические исследования», т. 1, с. 82:
«Опыт может быть воспринят только путем разрыва имманентной связи понятия, производящего от самого себя. Или же диалектическое развитие независимо и определяется только из самого себя, и тогда оно действительно должно знать все из самого себя. Пусть диалектика выбирает, мы не видим третьей возможности».
Диалектика, разумеется, как и всегда, видит эту третью возможность в единстве обеих сторон альтернативы, что и должно быть ее истиной в первую очередь. Гегель выражает это так (Сочинения VI, стр. 20):
«Они» (эмпирические науки) «тем самым подготавливают то содержание конкретного, которое может быть взято в философию… Усвоение этого содержания, при котором все еще цепляющаяся непосредственность и данность (?) отменяется мышлением, есть в то же время развитие мышления из самого себя».
«Это» (развитие себя) «есть, с одной стороны, только вбирание содержания и его представленных определений, и в то же время дает ему форму, чтобы возникнуть свободно в смысле первоначальной мысли только по необходимости самой вещи». (Сочинения VI, с. 18—19)
Мишле («Gedanke», т. 1, с. 120) дает следующие пояснения:
«Считаете ли вы, таким образом, что компиляция и упорядочение опыта – это все еще философия?» (Никто никогда этого не утверждал. Но Мишле забывает, что эмпиризм включает в себя мышление, поскольку он исходит из опыта путем индукции). «Путем индукции эмпирические науки приходят к общим положениям» (так и есть?), «которые, однако, как исходящие из отдельных воззрений, также разделяют их случайность» (во-первых, в воззрениях нет ничего случайного, а только необходимое; во-вторых, однако, если бы в них и была случайность, то она была бы устранена индукцией, путем продвижения к общему). «Бесконечный материал опыта никогда не исчерпывается» (да это и не нужно, если исчерпать только силы и законы, а их число не велико), «на пути простого опыта, следовательно, необходимость» (?) «и организация к тотальности недостижимы» (это одинаково недостижимо для всех методов, если понимать под тотальностью все, что существует в каждый момент, но это достижимо для эмпиризма, и только для эмпиризма, если под ним понимать только совокупность действенных моментов и характер их действенности). «Только если начать с общего» (да, откуда же его взять, если не из конкретного посредством абстракции и индукции?), «и это развивается в частности через свое собственное движение, может возникнуть полнота, может возникнуть целое знание» (эмпиризм давно знает, что дедукция из уже признанного общего может дополнить и завершить эмпирию в особых случаях, когда конкретное недоступно опыту, но это возможно только в том случае, если общее уже достаточно подкреплено предыдущим опытом, и тогда эта дедукция служит не развитию науки, а только знанию). «Конечно, смело приступать к такому предприятию, когда опыт еще находится в зачаточном состоянии и не приобрел достаточного объема, ибо тогда отсутствуют субстраты для философских понятий» (здесь открыто признается, что философия зависит от опыта и его объема), «Если, следовательно, опыт является, с одной стороны, проверкой философской дедукции» (здесь условие быстро сводится к проверке или просто арифметической проверке умозрения), «в том смысле, что последний может быть правильным только в связи с фактами, а не сбивая их с толку» (отсюда ясно, что истина должна быть узнаваема и из фактов, так как иначе они не могли бы служить для ее доказательства), «с другой стороны, диалектика есть регулятор фактов» (должно означать: Регулятор выводов из фактов, ибо сами факты в подлинном смысле этого слова не могут быть никем регулируемы).
Таким образом, в этом объяснении единство обеих сторон сводится к утверждению, что эмпиризм является доказательством дедукции, а последняя – регулятивом первой. На первое следует ответить, что если эмпиризм может доказывать, то он уже обладает истиной и делает другие методы излишними; на второе – что опыт, конечно, нуждается в рассуждении, но никогда в диалектическом, а только в индуктивном, чтобы выделить общие истины, уже имплицитно содержащиеся в нем, и в эмпиризме он также обладает ими. Поэтому единство обеих сторон (эмпиризма и диалектики, которая рождает свое содержание изнутри себя) – это ветер. Кто поверит методу, что он развивает свои результаты исключительно из самого себя, если он утверждает, что должен на каждом шагу включать в себя содержание эмпирической науки и зависеть от соответствующей точки зрения и объема эмпирической науки? Утверждение: «Ассимиляция содержания является в то же время развитием мышления из самого себя» можно проиллюстрировать следующим разговором:
А: «О, пожалуйста, мистер Б, который час?»
Б: «Разве вы не знаете?»
А: «Извините, я не могу вам сказать, пока что».
Б: (смотрит на часы) «Сейчас только половина четвертого».
А: «Спасибо, кстати, я и так это знал!»
В предыдущих главах мы видели, что диалектика вообще ничего не может, ни понимать, ни мыслить, ни прогрессировать, ни распознавать, ни общаться; поэтому она погибла бы от своего небытия еще до первого вздоха, если бы не заимствовала чужие перья, чтобы украсить себя. Поэтому открытое признание приема содержания опыта изобретателем диалектики – это, в конце концов, искусный трюк. Но что диалектика делает с полученным содержанием? В лучшем случае она ничего с ним не делает и довольствуется приятным сознанием, что развила его в то же время из чистой мысли; но чаще всего она портит его через привитые к нему противоречия, через произвольно измененные отношения и значения слов, часто до неузнаваемости. В области логики, где понятия более абстрактны, чем где бы то ни было, усвоение эмпирического содержания часто сводится лишь к конкретизации в противоположность абстракции, т. е. к повторению пути, пройденного интеллектом при получении этих понятий путем абстрагирования от представлений. (См. «Логические исследования» Тренделенбурга, т. 1, с. 83—84. Любопытно, что Мишле в «Мысли», т.!, с. 200, где он приводит выдержку из аргументации Тренделенбурга, признает, «что секрет диалектического метода заключается в искусстве, с помощью которого первоначальная абстракция возвращается назад», и т. д.).) Поскольку каждое понятие указывает на свое происхождение, на следующее более богатое определение, из которого оно возникло, и субъект чувствует пустоту, преобладающую в абстрактном разделении по отношению к темноте возникающего более полного представления, возникает стремление вернуться от скуки и односторонности, которые есть у каждой абстракции, к полной цветущей жизни представления, для чего необходимо определенное дополнение. Так выясняется, что лежит в основе якобы самодвижущегося инстинкта понятия. Кстати, гегелевская «Логика» ни в коем случае не продвигается в этом направлении, и даже если представить себе работу, выполненную в этом смысле, ее ценность придется оценить гораздо ниже, чем ценность такой работы, которая, отталкиваясь от реального мира представления, точно представляет генезис логически важных абстракций; ведь последняя была бы оригиналом, а первая – лишь его прикрученной реверсией. Последняя, однако, в то же время предлагала бы продвижение в восходящем направлении, которое начинается с широкой основы опыта и поэтому может быть только дополнено индуктивным методом.
Я завершаю эту главу словами Шеллинга (Werke I, 7, pp. 64—65)
«Именно эту божественную связь всех вещей, именно этот зародыш жизни, который заперт в оболочке конечности и который один только пружинит и движет ею, эмпиризм также стремится выявить. Он проникает туда, где сознает, что делает, или, руководствуясь счастливым инстинктом, от путаницы к единству, не признавая непосредственно существующего, но всячески стремясь отделить несущественное, чтобы прийти к существенному. Если бы она когда-нибудь полностью и повсеместно достигла этой цели, ее противопоставление философии, а вместе с ней и сама философия как отдельная сфера или вид науки, исчезли бы. Тогда действительно существовало бы только одно знание; все абстракции растворились бы в непосредственном дружеском созерцании; высшее снова стало бы игрой и наслаждением простоты, самое трудное – легким, самое бессмысленное – самым чувственным, и человек снова мог бы свободно и радостно читать в книге самой природы, язык которой давно уже стал для него непонятным из-за языковой путаницы абстракций и ложных теорий».
III. Как Гегель пришел к своему методу.
Всякое новое в философии проистекает из мистически задуманной идеи, составляющей стержень системы, и из своеобразия личности изобретателя, с одной стороны, и из сиюминутной точки зрения обращающейся философии и движущих ею интересов – с другой. Стержень гегелевской системы, положение, устанавливающее ее историческое положение и значение, состоит в том, что идея есть все и, кроме идеи, ничто, что идея есть субстанция, предмет и т. д., что мир не содержит ничего, кроме логических идей, и что нет ни самостоятельной нелогической, ни темной первоосновы, немыслимого бытия, которое есть только существующее (как логическое, так и нелогическое), но что все исчерпывается мышлением. Если бы помимо мышления допускалось только одно мыслящее существо, то это было бы нечто помимо мышления, так как мышление было бы тогда только его деятельностью; поэтому из этого взгляда, полагающего, что мир исчерпывается одной своей, а именно логической или интеллектуальной стороной, вытекало, что само мышление должно мыслить само себя, т. е. что сама идея осуществляет мышление. Через это устранение субъекта из процесса мышления, или, что то же самое, через это выдвижение идеи в качестве мыслящего субъекта, было дано самодвижение понятия, и действительно, поскольку в этом процессе оно не может следовать ничему другому, кроме своей природы, данной как его природа, из которой в свою очередь вытекает непрерывная текучесть и неопределенность (по гегелевской терминологии, бесконечность) мышления. Текучесть или неопределенность самодвижущегося понятия, однако, равносильна отмене пропозиции тождества и тем самым косвенно пропозиции противоречия; противоречие тем самым постулируется как существующее, и субъективное мышление должно отказаться от всякого познания, если оно не перейдет к мысли о возможности мыслить единство противоречия, в существование которого оно уже верит.
Логическое как пустой формальный принцип, помещенный исключительно на себя, не могло бы произвести из себя никакого содержания и не могло бы породить из себя никакого процесса, если бы не обладало способностью противопоставлять себя своей противоположности, чтобы получить из противоречия этой противоположности импульс к синтетическому преодолению противоречия посредством рационального мышления-вместе-тезиса-и-антитезиса. Логический тезис – это абстрактно-логическая, рациональная деятельность логического; противоречивый антитезис – это относительно нелогическая деятельность логического; наконец, синтез – это его абсолютно логическая или рациональная деятельность. Как отсутствие абсолютного субъекта деятельности или абсолютной субстанции, стоящей за логическим, заставляет само логическое вступать в самодвижение, если речь идет о процессе, так и отсутствие нелогического принципа, согласованного с логическим, заставляет логическое постоянно выводить нелогическое, абсолютно необходимое для логического процесса, из себя и снова брать его в себя, чтобы установить его заново (ср. «NeuKantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus», третье издание, стр. 247—253; «Kategorienlehre», стр. X – XII; «Die deutsche Ästhetik seit Kant», стр. 118—120 и 109—110.
Таким образом, предпосылки диалектического метода вытекают из принципа системы; но из него следует еще большее. Принцип гласит, что мировой процесс есть не что иное, как самодвижение понятия, и что в идеальном начале этого процесса понятие не имело никакой другой предпосылки, кроме самого себя; поэтому оказывается, что априорное воспроизведение этого процесса должно быть возможно до индивидуального сознания, поскольку ему дана та же самая предпосылка, которая там господствовала. Сознание не может скрыть от себя, что процесс, воспроизводимый на этой предпосылке (понятие и ничего более), будет мало похож на временный генезис мира, но это может только укрепить надежду на успех, поскольку теперь речь идет о вечном генезисе, то есть о процессе, который может быть осуществлен той же вечной идеей во мне, что и везде, в этот момент, как и в любое другое время. Таким образом, как зритель, я созерцаю в себе разворачивающийся образ этого вечного генезиса, процесс мышления, который есть ход самой вещи, объективное мышление, в котором самодвижущееся понятие переходит сначала в свою противоположность и из противоречия противоречий в новое более высокое и богатое определение; ибо куда же должно сначала перетекать понятие, если не в свою противоположность, и как оно должно выйти за пределы противоречия, как не через единство?
В «Феноменологии духа» по-прежнему достаточно ясно, что на самом деле меняется не самость, а лишь объект, через который сознание пытается представить самость, что импульс к диалектическому прогрессу лежит в неадекватности соответствующего объекта той самости, которую он представляет, и в ощущении философом этой неадекватности и в его стремлении к более адекватному, и в том, что различные, отчасти противоречивые формы объекта не находятся одновременно в сознании и потому не могут привести к противоречиям, а сменяют друг друга во времени, будь то фазы в эпистемологическом развитии индивида или эпохи в культурно-историческом развитии человечества. Однако после того, как в конце «Феноменологии духа» достигнута стадия самоосмысляющегося понятия, возникает новая задача – вернуться в «Логике» от самосуществующего понятия к миру реальности. Поскольку это должно произойти через разворачивание логических возможностей самих по себе, отпадают и познавательная движущая сила субъективного мышления как импульс диалектического движения, и временная последовательность понятийных противоположностей; понятие как бы должно черпать импульс диалектического прогресса из самого себя, а вневременное вечное единство противоположностей приводит к противоречию.
Для Шеллинга диалектика, свободная от противоречий, была лишь вторичным средством выявления и развития интеллектуального взгляда; для него противоречие заключалось не в диалектике, а в попытке постичь через непосредственный взгляд на сознание то, что должно лежать до и вне всякого сознания как генетический prius сознания. Это противоречие присуще всему чистому рационализму, суть которого состоит в требовании немедленного, аподиктически определенного знания метафизического Я; ведь такого знания можно ожидать не от умозаключений из опыта, который может дать лишь вероятные гипотезы, а только от интеллектуального созерцания, в котором видимое, видимое и видимое сливаются в одно. Интеллектуальное восприятие у Шеллинга – не общее достояние всех людей, а особый дар избранных; Гегель хочет возвысить его до общего достояния, превратив из наглядной в понятийную форму и передав результат диалектически, а не «выстрелив из пушки». В «Феноменологии духа» завершенный интеллектуальный вид достигается только в конце, где абсолютное понятие познает себя и признает себя абсолютным духом, чтобы затем эксплицировать себя в своих моментах в логике. Но диалектическое опосредование, ведущее к этой цели, является лишь кажущимся, поскольку тождество мыслящего понятия с его объективными образованиями должно присутствовать для сознания уже с самого начала диалектического процесса, чтобы в конце возникнуть для познания. Противоречие рассудочного представления как сознательного не отменяется диалектическим понятийным опосредствованием, а существует с начала и до конца пути опосредствования на каждой его ступени; даже если оно еще умеет скрывать свою сущность как противоречие рассудочного представления на низшей и средней ступенях, оно все же дает о себе знать как существующее противоречие на каждой из них и выступает теперь как имманентное противоречие диалектического опосредствования. Таким образом, последовательно реализуемый чистый рационализм или панлогизм заставляет диалектику противоречия действовать в трех направлениях. С генетической точки зрения, если «само» есть не что иное, как логический принцип и не находит рядом с собой никакого нелогического принципа, то, чтобы прийти к процессу из спокойствия самодостаточности, оно должно вывести нелогическое из себя и тем самым противоречить своей собственной сущности. Развертывание противоположных моментов логической идеи в чистом бытии-в-себе обусловливает их вневременное, вечное единство и тем самым раздувает их различие и противоположность в противоречие. Наконец, противоречие, заключающееся в требовании сознательного интеллектуального взгляда, не устраняется понятийным диалектическим опосредованием, а лишь распределяется по всем стадиям диалектического процесса и скрывает свою истинную природу. В генетическом развертывании логической идеи в реальный мир, как и в ее чистом бытии-в-себе, противоречие так же неизбежно для чистого рационализма, как и в восхождении сознательного познания от чувственности к абсолютному духу. Эти противоречия были имманентны всем рационалистическим системам от Платона до Шеллинга, но они пытались закрыть на них глаза. Гегелю принадлежит заслуга того, что он открыто объяснил это следствие панлогизма и с мужеством отчаяния признал, что с точки зрения чистого рационализма истина не должна исключать из себя противоречие, а должна включать его в себя.7
Таким образом, диалектический метод вытекает, по большому счету, из принципа гегелевской системы, который здесь не подлежит критике. И здесь он проявляет себя в чистом виде: не понимание должно запутаться в противоречиях, а бесконечно текучее мышление самодвижущегося понятия, которое отменяет законы мышления. Здесь хорошо видно, что попытки всеми возможными способами запутать рассудочное мышление в противоречиях – это лишь стремление этой актуальной и более чистой формы метода добиться признания в мире, пусть даже путем уступок в чистоте его духа и возвышенности его беспредпосылочности.
Это посредничество, так сказать, с земным теперь поддерживалось, а в какой-то степени и более тесно определялось тем, что было модно в философии того времени, причем под модой я понимаю ту внешнюю принадлежность, которая плывет по течению и не основана на необходимом ходе развития материи. Но в то время было модно придавать чрезмерное, даже положительное значение антиномиям Канта; со времен Фихте было модно рассматривать так называемую дедукцию категорий как основной объект теоретической философии; было модно философствовать в триадическом ритме тезиса, антитезиса и синтеза; Модно было верить в оправданность разума для постулирования всевозможных непонятных и необоснованных утверждений не только в практическом, но даже в теоретическом плане и неверно понимать трансцендентальный взгляд Шеллинга; модно было писать на непонятном жаргоне, недостойном ясности немецкого языка, и выдавать неясность мысли за глубину; модно было не брать значение слов из очищенного языка, а произвольно менять его (например, «тождество» у Шеллинга). Наконец, модно было и напыщенно представлять философию как науку об абсолютном и абсолютную науку, не задумываясь ни о чем ясном. Что же удивляться, если Гегель, как дитя своего времени, не счел нужным зарубить топором эти гнилые стволы, а предпочел воспользоваться возможностью построить опорные балки для своего метода из этого привычного для публики материала! Что удивительного, если он не счел нужным вернуться к языку образованной немецкой прозы, а предпочел замаскировать под покровом непонятности общепринятой тарабарщины ту софистическую псевдодиалектику и антиномическое зеркальное фехтование, с помощью которых он должен был пытаться доказать разуму существование противоречия!
На рубеже веков в философии и мысли, как и незадолго до этого в поэзии и эмоциях, наступил своеобразный период Sturm und Drang. Олимп абсолютной истины должен был штурмоваться с титанической жестокостью и поспешностью, и все же в то время, как и во все времена, у них были только строительные блоки, чтобы наваливаться друг на друга. Последней, самой дерзкой, саморазрушительной попыткой тщетного штурма небес является гегелевская диалектика, которая думает, что может обхватить вселенную одной хваткой, а на самом деле лишь прижимает к груди призраки собственного воображения. Это было время самого бурного возбуждения, когда умы набрасывались друг на друга и в безумной погоне каждый стремился превзойти в величии своего великого предшественника; в такое время, когда мысль уже находится в состоянии болезненного перевозбуждения и отчасти приняла нездоровое направление, становятся объяснимыми аберрации, которые иначе кажутся почти непостижимыми. Сразу после Канта, Фихте и Шеллинга должно было появиться что-то необычное, чтобы привлечь внимание публики, которая была одновременно перевозбуждена и измучена – и действительно, диалектический метод был достаточно ослепительным с его возмутительными требованиями и средствами. Но он также давал изобретателю несколько небольших побочных преимуществ, которые должны были делать его все более и более дорогим для него, когда он их достигал. Она избавляла его от хлопотливой, часто почти отчаянной задачи избегать всяких противоречий в своей системе мысли; напротив, она позволяла ему, при столь легко выполнимом условии никогда не быть без противоречий, работать над ней в полную силу, утверждать и доказывать все, что он пожелает, а именно: просто уверять, что таков ход объективного разума, каким он его видит; Таким образом, это было столь же удобное средство, каким когда-либо располагал любой философ, чтобы доказать свои мистические первоначальные концепции в очевидно научной манере; это был способ жать, не посеяв, и плащ скромности для величайших амбиций, поскольку он, казалось бы, оставляет индивидуального субъекта вне игры, и все же первому зрителю этого объективного хода разума позволялось претендовать на славу абсолютного метода и абсолютного содержания в одно и то же время. Каким образом все вышеупомянутые моменты сработали в сознании Гегеля, через что впервые пробудилось убеждение, а что было добавлено позже, как далеко зашло всестороннее убеждение в правильности представленного учения, были ли и где у него сомнения в правильности оного, и насколько они были сильны – решение этих вопросов, вероятно, выходит за рамки сегодняшнего читателя его работ.
Я еще раз напомню здесь то, что уже говорил в предисловии: я признаю необходимое место в развитии философии для основных принципов и главных результатов гегелевской философии – помимо способа их получения – и я далек от того, чтобы недооценивать заслуги Гегеля (только не его метод) в учении о праве, эстетике, философии религии, философии истории и истории философии. Но в той мере, в какой он не воздерживался от диалектического рассмотрения этих предметов в их собственном смысле, он повсюду вносил двусмысленность и путаницу, делал простое сложным и устранял из своего решения неясное и проблематичное.
IV. Резюме и заключение.
Там, где диалектика появляется до Гегеля, она связана с фундаментальными законами мышления и состоит, по сути, в умелом использовании возникновения противоречия как критерия ложности, чтобы приблизиться к истине путем совершенствования ложных понятий и предпосылок, порождающих противоречие. Но из гегелевского принципа, что ничего не существует, кроме понятия, и что нет иного процесса, кроме саморастворения понятия, вечно изменчивого, из этого принципа вытекает новый вид диалектики, вечный генезис абсолюта, воспроизводимый в сознании. Эта диалектика отменяет фундаментальные законы и приписывает себе, в противоположность определенному мышлению понимания по только что отвергнутым законам, способность неопределенного мышления, разум, помещая, таким образом, в каждой душе две способности, мыслящие по противоречивым законам, каждая из которых объявляет другую ложной, хотя все разумные существа не могут найти в себе ничего из того разума, который предполагается как раз объективным и наиболее общим в противоположность чисто субъективным определениям понимания. Эта диалектика лишена предпосылок и легитимации, ибо она должна отвергнуть как ложное любое рассуждение, обоснование или предпосылку, основанную на логике понимания, которую она объявляет ложной. Она опирается исключительно на свою собственную уверенность. Она утверждает, что развивает все исключительно из себя, но признает, что это развитие из себя есть в то же время, на каждом шагу, усвоение содержания эмпирической науки, которое она по-своему развращает, но за пределы которого она никогда не выходит. Неопределенное мышление делает невозможным всякий прогресс в мышлении, ибо всякий такой прогресс требует фиксированного тождества определений, обозначаемых одним и тем же словом в различные моменты их возникновения, т. е. приостановки текучести понятия; но эта приостановка также невозможна, ибо текучесть понятия лишает субъекта не только фиксированной точки сопротивления трансформации понятия, но даже всякой меры для восприятия тождества или изменения. Чтобы выйти из колебания понятия между двумя противоположностями (contrariis, – все понятия, не имеющие contrarium, вообще не могут рассматриваться диалектикой), диалектика подчиняет логическое отношение тождества реальному отношению единства, но тем самым не получает никакого иного результата, кроме 0 рода; только добавляя противоречивое требование, чтобы противоположности также сохранялись в единстве, которое их разрушает, она создает противоречие, невозможное, как результат вместо ничего. Оно утверждает, что способно в силу своего позитивного разума осуществлять мышление противоречия, деятельность, которая была бы глубоко мистической, непосредственной для других и непостижимой для самого практикующего. Это утверждение является самонадеянностью, путающей воление с реализацией, и относится к психиатрической категории фиксированной идеи, так же как текучесть понятия представляет собой полет идей маньяка.
До этого момента диалектика была верна себе; но, с самого начала отчаявшись в возможности принятия другими людьми прежних инструментов, она совершает непоследовательность, делая попытку, которую сама же и отвергает, оправдать себя с помощью предпосылок, лежащих вне ее. Обе предпосылки – абсолют и пронизанность всего сущего противоречием – если бы они были истинными сами по себе, ни в коем случае не привели бы к диалектике, а только к скептицизму и отчаянию мысли в самой себе. Но оба они сами по себе неистинны. Для рассудка абсолют, как нечто не имеющее определения и отношения, есть не только ничто, но и нечто невозможное для мышления, которое он должен отрицать; только мистическая эмоциональная тоска может терзать себя этим непониманием, но такая тоска никогда не может служить для обоснования научных принципов. Всеобщее существование противоречия, однако, опирается на демонстрации, которые могут показать противоречие только там, где они его совершили, то есть там, где они сами его ввели. Таким образом, снисходя до уступок, чтобы оправдаться перед разумом, диалектика терпит двойное поражение: она не может доказать то, что претендует на доказательство, и при этом оказывается неверной себе и своему духу. После этой бесполезной наготы остается вышеупомянутый результат, что диалектический метод – это патологическое помрачение ума, которое, полагаясь исключительно на собственную уверенность в своей истинности, не только высмеивает все предыдущие теоретические и практические достижения человечества, отменяя фундаментальный закон здравого мышления, в котором сомневались на протяжении тысячелетий, но и уничтожает всякую возможность мышления вообще, а значит, и жизни.
Настоящая диалектика Юлиуса Бахнсена, которую я излагал и оценивал в других работах («NeuKantianismus etc.» стр. 223—231; «Philosophische Fragen der Gegenwart», стр. 261—298), здесь не место, поскольку она представляет собой не метод научного познания, а конституцию бытия и его процессов, которая, по мнению Бахнсена, должна быть познана индуктивно из опыта. Все остальные попытки после Гегеля создать идиосинкразическую диалектику являются лишь переходными формами между аристотелевской и гегелевской диалектиками или их смешением с дополнениями или без дополнений из настоящей диалектики Бахнсена (см. «Критические прогулки по современной философии», с. 149—150, 154—177).
LITERATUR – Eduard von Hartmann, Über die dialektische Methode, Bad Sachsa 1910.
Рудольф Хайм (1821 – 1901)
Гегель и его время
Логика.
В прошлой лекции я уже не смог удержаться от нескольких намеков на то, как изменилась форма «Логики» Гегеля по сравнению с первоначальным проектом 1900 года. Теперь, в связи с большим трудом по логике, настало время охарактеризовать эти изменения более резко и полно, а также объяснить их причины и значение. Почти ни один камень не остался незамеченным – таково впечатление от первого сравнения. Две науки превратились в одну, логика и метафизика стали просто логикой. Эта логика содержит большую часть того, что содержала первоначальная метафизика, и она содержит бесконечно больше, чем первоначальная логика. Вспомним из рукописи 1800 года заголовки: «Отношение», «Соотношение», «Пропорция», «Система принципов», «Метафизика объективности» и «Метафизика субъективности». Три части «Науки логики» озаглавлены: «Бытие», «Сущность», «Понятие». Позднейшая логика не отстает от ранней в первых частях. Однако и в них детерминации не только увеличились, но и перешли в иной порядок; то, что в них выступало в качестве основного деления, превратилось в подразделение, и наоборот. Распознать старое в новом становится еще сложнее в последующих разделах. Везде старое соотносится с новым, как первые зачатки органической жизни с полностью развитой и многообразно структурированной организацией.
Богатый опыт мысли, существенное внутреннее развитие лежат посередине между двумя работами. Когда Гегель теперь взялся за разработку логики, он делал это с совершенно иных точек зрения, с часто иными целями, овладевая гораздо более богатым материалом, чем в начале своей философской карьеры. Отсюда – бесчисленные различия между двумя редакциями в деталях, отсюда – решающие и фундаментальные различия.
В восхождении к идее абсолютного духа – таков был первоначальный план системы – необходимо было, во-первых, постичь истинное познание, а во-вторых, доказать, что это познание объективно существует в форме абсолютного духа. Таким образом, весь путь до этого момента распадался на две части. Согласно основной идее системы, развитие, проходящее через эти две части, было задано не чем иным, как единым абсолютным духом, вырабатывающим свою собственную идею. Однако в изложении постоянно происходило колебание между акцентированием момента субъективной рефлексии и объективной рефлексией, содержащейся в самих детерминациях. В соответствии с этим различием логика, в частности, отличалась от метафизики. В ней форма абсолютного духа возникала благодаря нашему мышлению, а содержание абсолютного духа начинало закрепляться в ней благодаря саморефлексии.
Однако это представление, противоречащее основной идее, привело к кризису. С помощью этой фундаментальной идеи Гегель выступил против субъективистского философствования своих предшественников. Настоящая философия начинается только там, где прекращается противостояние между субъективным мышлением и объективным определением. Все чисто субъективные формы и способы взгляда на вещи имеют свое основание исключительно в природе человеческого сознания, а эта природа, в свою очередь, может быть понята только с позиции абсолютного духа. С этой высшей, наиболее ясной точки зрения Гегель подверг критике различные способы поведения сознания. В «Феноменологии» он подверг критике эмпирическое сознание и сознание кантовской и фихтеанской философии. В этой работе он также критиковал себя за все те определения и повороты своей первоначальной логики и метафизики, которые не согласовывались с фундаментальной идеей системы. Все колебания, даже видимость колебаний, относительно того, мыслится ли в философской мысли только субъективное отношение или сама вещь, должны были исчезнуть раз и навсегда, поскольку феноменология представила философское сознание как сознание тождества бытия и мышления. Таким образом, Гринце между логикой и метафизикой рушится. Логика как таковая есть в то же время метафизика, а метафизика – в той же мере логика. Гегель подчеркивает этот тождественный характер своей теперь уже «Науки логики» в явной ссылке на феноменологию. Летом 1806 года он уже объединил феноменологию и логику в одной лекции под названием «спекулятивная философия», рассматривая последнюю как введение к первой и переходя непосредственно от понятия абсолютного знания, конечного результата феноменологии, к понятию чистого бытия, исходному понятию логики. В «Феноменологии», как и в своем великом логическом труде, он мотивирует этот переход и указывает, как задумана эта преемственность. В конце «Феноменологии» мы достигли такой формы сознания, для которой оппозиция бытия и знания больше не существует. Разум и объективность, субъект и объект, идентичны. Таким образом, разум теперь подготовил для себя «элемент знания», из которого он уже никогда не выйдет. В этом элементе знания «моменты духа распространяются теперь в форме простоты, которая знает свой объект как саму себя». Чистая наука, или логика, «содержит мысль в той мере, в какой она есть вещь в себе, или вещь в себе в той мере, в какой она есть чистая мысль». Философия Канта, как утверждается в другом месте, была озабочена трансцендентальной ценностью детерминаций мысли, то есть их отношением к субъективности и пограничным определением этого субъективного по отношению к самому себе. Рассмотрение этого отношения теперь осталось позади; через феноменологию оно было снято и урегулировано. Поэтому интерес теперь может быть сосредоточен на содержании детерминаций мышления. Таким образом, логика или система форм мышления становится в то же время системой объективных мыслей. Логика, освобожденная от своих субъективных ограничений, сама по себе становится реабилитированной метафизикой. Занимаясь в своих первых двух частях определением бытия и сущности, она фактически занимает место старой онтологии, а также охватывает всю остальную метафизику, сущностные характеристики мышления в понятиях души, мира и Бога.
Однако так же, как система получила новое начало в феноменологии, она получила и новое завершение в описании того, как абсолютный дух постигает себя в искусстве, религии и науке. Этот новый вывод оказал на логику не меньшее влияние, чем новое начало. Если последняя очистила фундаментальную науку от видимости трансцендентальных отношений, то вторая очистила ее от определений, относящихся скорее к сфере конкретного, чем к сфере логического духа.
Уже в первом проекте Гегель позволил всей идеальности абсолютного духа появиться в конце «Метафизики», оставив для остальных частей системы лишь представление его реальности в природе и морали. На вопрос, правильно ли это или неправильно, можно ответить только исходя из смысла самой системы, а из этого и из той двусмысленности, которую имеют в этой системе понятия реального, следует, что старый порядок может быть рассмотрен как столь же правильный, как и новый. Как бы то ни было! Раз учение о душе заняло место в психологии, учение о высшем существе – в философии религии, то неизбежно было исключить эти, по старому обычаю, специфически метафизические темы из логики и в деле первого конституирования абсолютного духа не предполагать ничего, что выходило бы за пределы общей «идеи» этого духа.
Но такое сужение и сокращение логико-метафизической части системы с лихвой компенсировалось с другой стороны. По форме и содержанию другие части вобрали в себя многое из того, что первоначально принадлежало ей: в свою очередь, она была десятикратно обогащена сокровищами натурфилософии и духовной философии. После многочисленных и все более глубоких занятий конкретными науками Гегель вернулся к логике. Он принес с собой ту же пользу, которую грамматик или лексикограф извлекает из длительного чтения писателей. Реальные дисциплины снабдили его богатой коллекцией примеров логического. В области природы и реального разума он обнаружил ряд доселе не замечаемых мыслительных определений. Как этимологическая, так и синтаксическая часть логики расширилась для него. Ни та, ни другая не могли расширяться, не корректируя себя одновременно. Правила этой грамматики мысли, определения этого лексикона идей увеличились и стали более строгими, лучше организованными и более тонкими. Поэтому мы видим, что порядок категорий здесь изменился. Здесь мы снова видим ряд промежуточных этапов, вставленных между определениями исходной логики. Например, то, что первоначально было синонимом отношения причинности, теперь разделено по разным главам: в частности, речь идет о причине и следствии, о силе и ее проявлении, о внутреннем и внешнем. Другие определения полностью отсутствовали в ранней логике. Только в «Философии природы» Гегель проанализировал логико-диалектическую природу механизма, химического процесса и процесса жизни, причем сделал это очень подробно. Теперь эти и другие споры перекочевали в логику, чтобы занять центральное место в качестве связующих звеньев между категориями, которые раньше были плотно сгруппированы. Другие категории, которыми новая логика богаче старой, обязаны своим происхождением еще одному источнику. Источнику, из которого наш философ уже давно привык черпать. Его внимание ко всей реальности имело, помимо измерения широты, еще и измерение глубины. Он искал реальность общей мысли в настоящем природной и духовной жизни: не меньше он искал ее во временном ходе и историческом прошлом мысли. Он вернулся к логике после тщательного изучения истории философии. Все, что когда-либо появлялось в истории как существенная мысль, должно быть классифицировано как органическое звено в мире мысли. Уже в первом проекте философия Вольффа-Лейбница и Канта-Фихте дала значительный материал для метафизики. Если теперь мы встретимся с категориями «абсолютного безразличия» или «абсолюта» с его «атрибутами и способом», если мы увидим «единое и пустоту», рассматриваемую в особых подразделениях, или видимость в противоположность сущности, то мы не преминем, даже не будучи прямо указанными, признать, что это мысли Шеллинга и Спинозы, ведущие точки зрения атомизма и скептицизма, которые новая логика критикует, признавая их объективное обоснование в познавательном саморазвитии духа.
Но критика в высшем смысле слова этой логики предпочтительно направлена на одну из ранних систем. Начиная с йенского периода, Гегель признал необходимым явное обсуждение философии рефлексии. Это обсуждение, первоначально проводившееся в специальных трактатах, уже перетекло в систематическую форму в «Феноменологии». Теперь оно проникает в логику, которая по своей сути была ориентирована на «Критику чистого разума». Опровергающее суждение кантианства пронизывает «Науку логики» от одного конца до другого. Оно относится к Канту так же, как первый крупный трактат Канта относился к Вольфу и Юму. Гегель видит в Канте, как Кант видел в Юме, своего предшественника; по его мнению, большая заслуга критики разума в том, что она обратила внимание на имманентную диалектическую природу разума. Однако по этой самой причине истинная критика разума может состоять только в самокритике разума. Опасность и ошибка заключаются не в том, что разум становится трансцендентальным, а в том, что он робко отходит от своего собственного содержания и фиксирует себя в трансцендентальных отношениях. Критику чистого разума нужно лишь довести до конца. Тогда ее негативный результат превращается в позитивный: критика разума трансформируется в систему разума.
И далее. Подобно спору с критикой, наука логики также имеет в своей основе спор с философией романтизма. По сути, она есть не что иное, как систематизация этих споров. Только она придает антиромантическому манифесту в предисловии к «Феноменологии» полное значение научного акта. То, чего феноменология достигает только благодаря своей методологической форме, она достигает благодаря самой материи, поскольку полностью поглощена обоснованием этой формы. Прошло то время, говорится в предисловии к «Логике», когда речь шла прежде всего о приобретении и утверждении нового философского принципа в его неразвитой интенсивности: отныне речь идет о развитии этого принципа в науку. К науке: и именно логика описывается как квинтэссенция и conditio sine qua non [основная предпосылка – wp] всей научной работы. Это именно чистая репрезентация метода, презираемого и игнорируемого романтической философией. Если в «Феноменологии» уже было отдано должное этой научности, то это было сделано для того, чтобы в конце вернуться к точке зрения Шеллинга. В логике эта точка зрения является отправной точкой для того, чтобы на этом пути создать содержание, о котором система тождества не имеет ни малейшего представления. Напротив, эта система с ее отсутствием метода и хозяйством, основанным исключительно на займах и кредитах, с ее грубым и лысым формализмом, благородной поверхностностью и остроумным безмыслием, подвергается нападкам по всем пунктам. Воздушные фигуры философии Шеллинга меркнут перед резко очерченными положениями этой логики. Более того, сам ее принцип остается позади на полпути, как преодоленный и прочно закрепившийся в подчиненной области мира мысли. Шеллинг так и не достиг того места, где эта логика применима. Но именно в этой логике Гегель обычно ищет суть своей и всей истинной философии.
Наконец, этот сильный акцент, который логическое произведение делает на предмете, которым занимается, связан с новым представлением о задаче всякого философского изложения и новым чувством литературной формы. Гегель лишь с трудом научился излагать свои мысли так, чтобы они были понятны другим. Феноменология», названная «Первой частью системы», должна была вызвать опасения, будет ли то, что она должна была представить, хоть сколько-нибудь доступно. Согласно первоначальному замыслу, три последующие и оригинальные части целого должны были быть представлены под названием «Вторая часть»: Логика, Философия природы и Философия разума должны были быть опубликованы вместе. Если бы этот план был реализован без паузы, было бы невозможно дать «Логике» ту тщательную и скрупулезную обработку, которую она получила сейчас. Нам пришлось бы читать всю философию Гегеля как вторую часть «Феноменологии», на языке, столь же громоздком и напряженном, как тот, что характерен для этой работы.
То, что она отличается, стало плодом преподавания Гегеля в Нюрнбергской гимназии. Схоластическая форма, которая в «Феноменологии» была затушевана поэтическим изображением различных уровней сознания и мрачной образностью выражения, в «Логике» намеренно выходит на первый план. Из стиля логики исчезли все жеманства, вся вычурность и скованность. Намерение состоит в том, чтобы говорить как можно более ясно и схоластично. Любая прямая конкуренция с поэтическими произведениями была сознательно оставлена. То затаенное и беспокойное продвижение от этапа к этапу, которое утомляет читателя феноменологии, больше не встречается в логике. Здесь везде есть точки остановки и разрезы. Нам предлагается не «круглая вещь», как однажды выразился Гегель по более позднему поводу, а вещь в том виде, в каком она может быть схвачена. Повсюду делаются самые желанные уступки рефлексии, разуму, который впервые приучает нас к «спекулятивному» и «диалектическому» мышлению, разуму, к которому Гегель вынужден был снисходительно относиться в своих учениках. Повсюду читатель руководствуется предварительными классификациями, обзорами и резюме. Глазу помогают цифры и буквы, а глазу – понимание. В многочисленных примечаниях устраняются возможные недоразумения и возражения, освещаются противоположные точки зрения и причины, понятие подводится к идее, идея – к понятию. Действительно, это различие между текстом и примечаниями является важнейшей характеристикой формальной природы логики. Этапы сознания в феноменологии были непосредственно одновременно и эпохами истории; логические и конкретные определения были непосредственно связаны с характеристиками отношения, в котором сознание стоит к своему объекту. Все это сплеталось в плотную ткань, в которую убеждение вплеталось одновременно с пониманием. Формы логики также имеют историческое существование. По словам Гегеля, они сами по себе «освобождены от всякой чувственной конкретности», но именно поэтому они не в меньшей степени являются силами, на которых «зиждется развитие всей природной и духовной жизни». В соответствии со стилем феноменологии, теперь было бы оправданно вплести описание этой конкретной жизни непосредственно в определение этих абстрактных сущностей. Логика, по своему содержанию – мы увидим это сами – гораздо более тонкое и обманчивое переплетение мысли и реальности, тем не менее, везде демонстрирует определенное стремление избежать видимости подобной путаницы. Как правило, эти конкретные фигуры добавляются здесь в пояснительной и образцовой манере к абстрактному развитию; они не составляют единого текста с последним, но формируют аннотационный текст рядом с основным. Наконец, немалой похвалой для «Науки логики» является то, что дидактическая и литературная мудрость ее автора сумела найти баланс с философским и художественным замыслом целого. Мастер-строитель понимал, как сделать свое здание пригодным для использования по назначению, именно сделав его красивым. Его дидактическое искусство идет рука об руку с архитектурным. Логика не поддается пониманию, потому что она демонстрирует величайшую закономерность и симметрию как в целом, так и в деталях своей структуры.
Я не могу не ассоциировать ее характер с новым местом, которому она обязана своим появлением. В Нюрнберге Гегель был окружен зданиями и скульптурами немецкого искусства. Дух тех мастеров, которые наряду с увлечением великой идеей умели сохранять терпение для художественного воплощения зачастую микроскопических деталей, невольно накладывает свой отпечаток на сознание. Гегель работал в более твердом материале, чем Адам Крафт и Петер Фишер. Его логика и одновременно возникающая энциклопедия – это произведения, которые дух современного немецкого мыслителя создал, как бы соревнуясь с мастерством средневековья.
Все эти характеристики новой логики, однако, ставят нас перед своеобразной трудностью. Первоначально мы видели, что система Гегеля выросла из стремления к жизни и реальности, из юношеского идеала мира как прекрасного космоса. Работа рефлексии лишила этот идеал всей свежести, всей полноты и красок юности. Убежденность в том, что мы все же имеем дело со старыми мотивами и старым идеалом в логике в его нынешнем виде, могла только укрепиться благодаря постоянному наблюдению за происходившими метаморфозами. Но трудно распознать первоначальный тип системы сквозь схоластические морщины, образовавшиеся на ее физиономии. То, что было мягким и податливым, окостенело, а на сердцевине образовалась многослойная оболочка; чем больше система философски совершенствовалась, тем больше она теряла свое простое содержание – восприятие и чувство. Мы должны видеть логику полностью, как она предстает перед нами. С другой стороны, мы должны собрать всю силу памяти и всю силу зрения, чтобы не позволить человеческому чувству ускользнуть от философского мнения, а реальному ядру – от формы.
Давайте сначала подойдем к общему определению, что эта Логика в Одном есть в то же время метафизика. Определения, составляющие ее содержание, называют, с одной стороны, «чистыми сущностями» – с другой, говорят, что они представляют собой «чистое знание во всем объеме его развития», или что это «понятие понимающей мысли», возникающее в ходе логики. Согласно Гегелю, необходимые формы и собственные детерминации мышления – это «содержание и сама высшая истина». Как бесконечная форма, логическая идея имеет в качестве своего содержания саму себя. Согласно введению, в логике ищут содержание, субстанциальное бытие, отличное от абстрактных форм. Логический разум, однако, сам является «тем существенным и реальным, что удерживает в себе все абстрактные определения и является их твердым, абсолютно конкретным единством». Эта конгруэнтность знания и сущности, формы и содержания была объяснена нам ранее из преемственности логики с феноменологией. Логика в этой позиции является лишь расширением и реализацией заложенной в ней позиции абсолютного знания.
Мы уже анализировали эту точку зрения и ее доказательства. Поэтому смысл и ошибка, содержащиеся в отождествлении логического и метафизического содержания, уже ясны нам отсюда. Это самая абстрактная формулировка тенденции нашего философа постигать реальность в мышлении как таковом, иметь нечто большее, чем просто «лишенные реальности мысли-вещи» в своей озабоченности чистой мыслью. Однако стоит обратить внимание на эту тенденцию в области логики. Здесь она должна проявить себя фактически и систематически. То, что феноменология хочет доказать субъективным способом, логика хочет доказать объективным способом. Как же философу это удается и как ему это удается, если он всерьез занялся этим субъективно-объективным, абстрактным и в то же время реалистичным мышлением?











