Читать онлайн Шалопаи
- Автор: Семён Данилюк
- Жанр: Современная русская литература
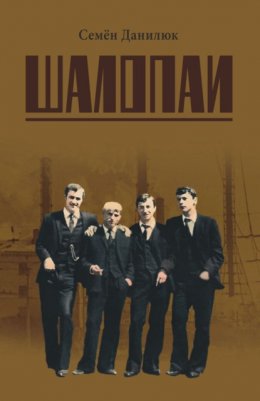
© Данилюк С. А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Роман о том, как все начиналось
Семен Данилюк – известный писатель, пишущий остросюжетную прозу. До того как стать профессиональным писателем, он много лет проработал в системе МВД и не понаслышке знает то, о чём пишет. Данилюк в своей жизни побывал и оперуполномоченным, и начальником следственного отдела, а также занимался юриспруденцией как наукой, исследовал уголовное право, уголовный процесс, криминологию; кандидат юридических наук, доцент.
Поэтому он очень точен и в описаниях того, как совершаются преступления и как их расследуют.
Всё это есть и в его новом романе «Шалопаи», но, как мы увидим далее, содержание романа гораздо шире его детективной составляющей.
Литературный дебют Данилюка с повестью «Выезд на место происшествия», опубликованной под псевдонимом Всеволод Данилов, состоялся в 1988 году, когда писатель еще работал следователем. Профессиональные навыки легли в основу романа «Милицейская сага». После ухода из органов МВД он работал начальником управления ТЭК в крупном российском банке. Этот опыт тоже пригодился писателю и отразился в романе «Банк», вышедшем в 2000 году под псевдонимом «Всеволод Данилов», в романе «Бизнес-класс» (лауреат литературного конкурса «Жизнь состоявшихся людей» – общественная организация «Открытая Россия», 2003 г.) и др. Лучшие криминальные детективы писателя собраны в сборнике повестей и рассказов «Убить после смерти» (2009, удостоен литературной премии имени А. И. Куприна «Гранатовый браслет» Московской городской организации СП России «Лучшая книга 2008–2010»), «Законник» (2019) и «Следопыт Бероев» (2022). Повести последнего сборника объединены фигурой главного героя, Олега Бероева, прототипом которого послужил кинооператор, егерь и путешественник Александр Петрович Галаджев.
А еще у Данилюка есть документальная повесть «Константинов крест» (2017), посвященная трагической судьбе первого президента Эстонской Республики Константина Пятса (он упоминается и в новом романе).
Должен ответственно заявить, что роман «Шалопаи» – это лучшее, что до сих пор написал Данилюк. Основное действие книги разворачивается в 1980-е и в начале 90-х годов в родной писателю Твери, которая в советское время называлась Калинином, а эпилог переносит нас в февраль 2022 года, в самый канун начала широкомасштабных боевых действий российской армии на Украине. Как мне представляется, взгляд писателя на эпоху 80 – начала 90-х годов из 2022 года, да еще из «прекрасного далека» – с китайского острова Хайнань, является вполне оправданным. Именно тогда начался процесс, который в итоге привел к нынешней эпохе в российской истории.
В романе Данилюка хорошо показано, как постепенно в Советском Союзе под лозунгом перестройки события раскручивались с нарастающей скоростью и, в конце концов, сделавшись необратимыми и неуправляемыми, привели к последствиям, которых вроде бы никто не хотел и уж точно не ожидал.
Советская застойная стабильность постепенно разрушалась, а жизнь основной массы населения становилась все хуже и хуже. Только вот у архитекторов перестройки и у ее прорабов, как это показано в романе, не было никакого продуманного плана действий, а была только спонтанная реакция на происходящие события, волна которых захлестнула их самих. В итоге перестройка и реформы конца 80 – начала 90-х годов привели к нынешней ситуации глубокого недоверия и к демократии, и западным либеральным ценностям, и к рыночной экономике в целом, а экономика России пережила новое огосударствление. Как справедливо замечает писатель, «призывы к свободе хороши на сытый желудок, когда накормлен сам и семья».
Сейчас наблюдается повышенный интерес к эпохе 80-х и 90-х годов, в том числе со стороны молодежи, т. е. тех людей, которые тогда еще не жили или даже не родились. Свидетельство этого интереса – неожиданный успех, в том числе среди молодого поколения, несмотря на его довольно скромные художественные достоинства, сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) – творения родившегося в 1979 году режиссера Жоры Крыжовникова – о подростковых криминальных группировках в Казани второй половины 80-х годов. Столь же велик был успех документального сериала «Предатели» (2024) режиссера Ивана Макарова, посвященного критике политики Бориса Ельцина в 90-е годы и набравшего миллионы просмотров в Интернете. Люди ищут ответ на вопрос, что происходило с СССР и Россией в те годы, можно ли было избежать последующего разворовывания страны или всё в её развитии было предопределено. И ответы писателя на многие вопросы о той эпохе читатели найдут в романе «Шалопаи». Данилюк прекрасно показывает, почему не удалась перестройка и связанные с ней и с последующим правлением Бориса Ельцина демократические и рыночные реформы. Расхожая фраза: «Революции делают романтики, а плоды пожинают негодяи» – полностью применима к горбачёвско-ельцинской эпохе. Беда была в том, что управляли процессом и получили наибольшие выгоды от него выходцы из прежней партийно-хозяйственной номенклатуры, яркие образы которых запечатлены в «Шалопаях». Причем самые циничные и ушлые, зачастую сросшиеся с криминалом, который особенно вольготно чувствовал себя в конце 80-х и в 90-е годы. В результате широкие предпринимательские массы оказались выдавлены из экономической жизни страны. И, может быть, еще более важным фактором оказалось то, что силовые структуры в новой России остались прежние, советские – и МВД, и КГБ, и прокуратура, а также суды, с кадрами, проникнутыми глубоким недоверием и к демократии, и к рынку.
Великолепно выписаны три главных героя романа, три новых друга-мушкетера, наделенных автобиографическими чертами: Алька Поплагуев, Оська Граневич и Данька Клыш. Они представляют творческую интеллигенцию (Алька), научно-техническую интеллигенцию (Оська) и силовые структуры (Данька).
Жизненный путь главных героев прослежен от советских третьеклашек первой половины 70-х до вполне состоявшихся каждый в своей области личностей в 2022 году. Через образы главных героев писатель демонстрирует, как воспринимались перемены разными социальными слоями советского общества. Все три мушкетера написаны симпатично и привлекательно, хотя, конечно, не сусально. А ностальгия, присутствующая в романе, скрашивает неприглядные моменты прошлого. По мнению писателя, «корень всего – вырождение внутреннее, пассионарное, когда отмирает жизнетворное начало. Последний шанс встряхнуть нацию был в восьмидесятых – начале девяностых». Может быть, сейчас молодежь это интуитивно чувствует. И одной из причин того, что не исполнились мечтания героев книги, Данилюк считает то, что так и не состоялся суд над КПСС: «Да, суд, открытие архивов, стыд кромешный на весь мир!.. Это как кровопускание. Быть может, очистило бы кровь. Рабскую кровь! Побоялись, отшатнулись. Да ещё и передушили предпринимателей, что по кооперативам начинали. Как до того – нэпманов. А без собственности человек – тот же раб. Не за что насмерть стоять. А раб – всегда завистник. Мечтает украсть ловчее, чем сосед. И чтоб пайка от хозяина побольше и желательно – на халяву. И куда его за халявой ни помани, пойдёт не раздумывая». А в результате «выскребается всякая жизнетворная бактерия, всякая водоросль. Остаётся дистиллированная вода, в которой, как известно, жизни нет. Нет жизни – нет страны!»
Но все-таки роман не оставляет по прочтении чувства пессимизма. Жизнестойкость, внутренняя свобода и порядочность главных героев оставляют надежду на будущее, хотя все трое к концу повествования и оказываются за пределами так горячо любимой ими Родины.
К несомненным достоинствам романа «Шалопаи» относится то, что ни один персонаж в нем не изображен только белыми или только черными красками. В романе нет чисто отрицательных и чисто положительных героев, и все персонажи представляют собой достаточно сложные характеры. При этом сущность героев часто выявляется только к концу повествования, и они оказываются совсем не теми, кем кажутся сначала. Например, писателю очень удался образ прокурора Поплагуева – его страшное прошлое и людоедские убеждения раскрываются только к концу повествования. А так он выглядит просто старым служакой, недалеким, но усердным и по-своему честным. В то же время Данилюк не наделяет своих героев послезнанием, которым сам обладает сейчас. И, понятно, никто из них, как и читатели романа, не знают, а как именно надо было осуществлять преобразования, чтобы они принесли пользу подавляющему большинству населения России, а не кучке олигархов и чиновников. Герои романа ничего не знают о том, чем обернется происходящее с ними и со страной. Они говорят и мыслят так, как мыслили люди того времени, как, вероятно, мыслил в то время и сам писатель. Хорошо показано, что то, что во времена перестройки смотрелось как энтузиазм народных масс, оказалось иллюзией и ушло в песок.
Большинство действующих лиц на протяжении повествования претерпевают существенную эволюцию и порой в конце повествования смотрятся более привлекательно, чем в начале. Характерный пример здесь – Робик Баулин, бывший фарцовщик и комсомольский функционер, ставший крупным банкиром, уже в двухтысячные попавший в тюрьму и вынужденный эмигрировать. К концу романа этот образ становится менее циничным и отталкивающим, более человечным. При всей собирательности образа Робика одним из его очевидных прототипов является Михаил Ходорковский.
Может быть, единственным образом в романе, начисто лишенным отрицательных черт, является трагический образ графа Мещерского, одного из первых советских предпринимателей, постоянно преследуемого властями и гибнущего от рук бандитов. Не важно, что судьба его основного прототипа – друга Владимира Высоцкого золотопромышленника Вадима Туманова – сложилась гораздо счастливее. Данилюк очень хорошо демонстрирует обреченность почти всех персонажей, которые поднялись с перестройкой. В романе показано, что из кооператоров выжили лишь те, у кого была поистине волчья хватка.
В «Шалопаях» есть и другие узнаваемые герои конца 80 – начала 90-х. Например, в образе двукратного олимпийского чемпиона по классической борьбе в тяжелом весе Борейко, критикующего коммунистическую власть на митингах и ставшего членом межрегиональной депутатской группы, легко узнается знаменитый штангист-тяжеловес, олимпийский чемпион Юрий Власов, активно участвовавший в политической жизни конца 80 – середины 90-х годов.
В романе Данилюка никто из персонажей не кажется лишним, каждый представляет определенный социальный тип, каждый на своем месте, у каждого своя роль в сюжете.
«Шалопаи» читаются легко, буквально на одном дыхании. В романе присутствуют детективные истории и связанные с ними тайны, которые, как и полагается, находят свою разгадку к концу повествования. Все эти истории сами по себе очень интересные и вполне к месту, однако, сюжет держится не на них, а на эволюции времени и героев. Поэтому роман Данилюка является детективом лишь в той степени, в какой можно назвать детективами «Братьев Карамазовых» или «Преступление и наказание» Достоевского.
20.05.2024
Борис Соколов
Остров Хайнань. 2022 год
«А пряхи продолжают прясть,
А пряхи вещие молчат.
О, дайте мне ещё хоть раз
Сыграть и миг игры продлить…
Прядут, не поднимая глаз,
И перекусывают нить».
А. П. Тимофеевский
Стар я! Как же я стар! И не тем, сколько пережил, а тем, сколько из пережитого позабыл. Мы – это то, что хранит наша память. С возрастом память подтаивает, будто лёд в конце зимы. А старость потихоньку, воровски обкусывает истонченные льдинки с краев, как мы сами мамины коржи в детстве. И вот уж то, что выглядело монолитом, покрывается трещинками. Свежие воспоминания забивают старые, заталкивают их в глубины сознания, будто на переполненной бельевой полке. Стираются фамилии, события. Целые пласты твоей жизни затёрты в углу, безнадёжно затерянные. Бывает, впрочем, память что-то цепанёт и не отпускает… Вот как сейчас. Уж вторые сутки не даёт покоя кустарник, что отделяет пляж от ресторанной зоны. То ли глаз заслезился от морской синевы, то ли мысли причудливо наложились на экзотический пейзаж, но что-то этот ровненький, подстриженный под полубокс кустарник напоминал.
С багровыми пупырчатыми листьями, колючим стволом и ядовито-жёлтыми цветами. Никогда прежде не виданный, он неизъяснимо тревожит, будоража какие-то смутные, очень важные воспоминания.
Кондиционер булькает, как закипающая вода в чайнике.
Не могу заснуть. Бессонница. Тоже, кстати, плата за долголетие.
Говорят, если человек засыпает с мыслями о будущем, он живет. Если вспоминает прошлое, – доживает.
Дожитие мое!
Накинув халат, выхожу на лоджию.
Шестнадцатиэтажный треугольный отель из тонированного стекла, подобный утёсу, клыком вгрызся в прибрежную полосу. Внизу, всего в паре сотен метров от отеля, плещется Южно-Китайское море. Переменчивое, как сами китайцы. Ранняя волна требовательно колотит лапой по пустынному берегу и порыкивает оголодавшей собакой у миски. Утро едва проступило из сумерек. Над морем разносятся гортанные кошачьи вопли. То кричат в клочковатом тумане чайки.
А взгляд будто сам по себе всё тянется к манящему сочному кустарнику. Притягивающему сладковатым запахом, что доносит морской ветерок. Что-то совсем подзабытое, что ломится в память. Мучительно, до потрескивания в голове, силюсь припомнить.
Бесполезно. Возвращаюсь. Ложусь. И – о, блаженство! Наконец-то забываюсь.
После завтрака, часам к десяти, побережье преображается.
Умиротворенная, успокоившаяся волна лениво лижет песчаную косу. Пляж заполнился загорающими. Впрочем, загорали далеко не все. Вялятся на солнце десятка два россиян в шезлонгах да несколько немок, раскинувшихся на спинах топлес. Увесистые, обугленные груди свисают по потным бокам, будто подтаявшие коровьи лепёшки. Зато белые, как сметана, китайцы, в панамах, опоясавшись широченными оранжевыми кругами, носятся мандаринками по песку, забегают по плечи в море и резко приседают с отчаянными визгами, в восторге от собственной удали.
С удивлением вижу необычную молодую пару, держащуюся в стороне от остальных. Девушку, броскую, в стильном брючном костюме, заметил несколько дней назад в ресторане. Вентиляторы шмелями вились над её головкой, волнуя каштановые пряди. Хороша. И была бы восхитительна, если бы не заметное прихрамывание. Но даже оно не уменьшало внимания к ней. Подойти, впрочем, не решались, – попытки заигрывания пресекались холодным взглядом. И вдруг вчера, уже когда сам я пошел к выходу, к ней робко подсел парнишка – инвалид с костылём. Круглоголовый, лопоухий, сутулый. Если бы не костыль, – совершенно неприметный. Пунцовея от собственной дерзости, торопливо заговорил.
Досматривать сцену не стал, – шансов у бедолаги не было никаких.
И вот теперь надменная красавица лежит на животе. Длинные, долгие ноги зарыты в песок. Вчерашний лопоухий юнец нависает над нею, заботливо передвигая вслед за солнцем пёстрый зонтик. Что-то бесконечно говорит, будто воркует. Она отвечает, и оба беззаботно и, кажется, счастливо хохочут. Бывает же такое! Наконец, девушка приподнимает головку. Озирается, убеждаясь, что никого нет поблизости, рывком принимает упор лёжа и, будто дурачась, ползет к воде. Парень, опережая, выдёргивает из песка тросточку, суетливо подаёт. Опершись на неё, девушка делает прыжок, ещё. И так подбитой птицей запрыгивает в воду. У неё нет ступни. На месте ступни – култышка. Инвалид-кавалер хватает костыль и, ловко вытанцовывая правым бедром, бросается к багрово-жёлтому кустарнику, отрывает цветочную ветвь и, размахивая ею, будто факелом, спешит с подарком к спутнице. По дороге от избытка чувств надкусил.
И в то же мгновение – ощущение сладковатого вкуса во рту и долгожданная вспышка в голове! Я аж задохнулся. Ну конечно же – акация! Дом 2 Шёлка!
Глава 1. Шкодники
Кусты жёлтой акации, косматые, разлапистые, жирной ломаной линией протянулись через двор, меж жилым домом и сараями, в беспорядке налепленными вдоль длиннющего дощатого забора.
В сороковые – пятидесятые в сараях мастерили голубятни, хранили дрова для квартирных печей, сушили и ворошили сено, на зиму запасали соленья и квашеную капусту, держали кур, голубей, даже коров.
В шестидесятые быт потихоньку менялся. Устанавливались газовые плиты. Покупались новомодные холодильники «Север». Из зимних форточек исчезли авоськи с промороженным мясом и синюшными курами. В сараях в опустевшие коровьи стойла стали загонять мотоциклы: «Ковровец», «Иж», «Ява»; мопеды. Неизменными оставались лишь заросли акации. Зимой промороженные, придавленные снегом, знобкие и неприкаянные. Но с началом весны ветки отсыревали, оттаивали, наливались силой. Завязывались клейкие почки. К маю двор окатывало сладким дурманом, – почки лопались и раскрывались желтыми благоухающими бутончиками. Бутончики торчали на плодоножке, будто миньонки на цоколе. Изголодавшейся за зиму без витаминов ребятне завязь эта казалась необыкновенно вкусной. На бутончики набрасывались, жадно обгладывали. Обкусанные плодоножки семечной шелухой обсыпали последние ломти ноздреватого снега.
Подотъевшись, принимались за игры. По разбитому асфальту с грохотом носились самокаты с рулевой доской, прикрученной проволочными петлями. Из-под подшипника разлеталось ледяное крошево. Затевались игры: штандер, городки, расшибец, стукан, пристеночек. В подвалах – казаки-разбойники.
Ближе к лету, по суху, возобновлялась главная дворовая забава – волейбол. Играли через сетку с утра и до темноты. Сначала мелюзга из второй смены. После обеда возвращалась из школы первая – постарше. К вечеру после работы на площадку выходили «взрослые» – в сатиновых шароварах на резиночках, в тарксинках, сандалиях, полукедах. Подтягивались поподъездно и очереди ждали, бывало, часами.
Таких могучих, довоенной постройки домов в областном центре было всего два. Два соседа – Дом Шёлка и Дом Искож, или Кребза, – незатейливо поименованные в честь крупнейших производств городского химкомбината. Длиннющие, красного кирпича пяти-шестиэтажные махины, без лифтов, каждая из трех составленных корпусов, растянулись одна за другой вдоль улицы Вольного Новгорода, будто развернутые пунцовые гармони. Сама улица, узкая и прямая, напоминала сучковатый ствол, – сучками выглядели крыши деревянных домов по обочинам трамвайных путей. В начале шестидесятых сучки обрубили – посносили частные дома, а проезжую часть расширили. И улица, обратившаяся в проспект, стала выглядеть длинной толстой жердью, увенчанной массивным набалдашником – площадью Московской заставы.
На площади, по соседству с райкомом партии и райисполкомом, возвышался принадлежащий комбинату Дворец культуры имени народовольца Степана Халтурина, ёмко именуемый в просторечьи – Хлам. Здесь, в центре досуга, кипела жизнь: кружки, секции, филиал музыкальной школы. В субботу-воскресенье – премьеры фильмов, концерты столичных артистов, вечером долгожданное – танцы.
По выходным молодняк со всей округи стягивался к Хламу. Вдоль изгороди Мичуринского, яблоневого сада текли ручейки с Большой и Малой Самары; со стороны Волги, огибая следственный изолятор, сочилась Красная Горка, по проспекту Вольного Новгорода добирались «центровые» – горсадовские. С ними, из отдалённых районов, – пролетарские, заволжские. По мосту через Волгу переходили затверецкие.
А вот для кребзовцев кратчайшая дорога к Хламу пролегала через соседний, примыкавший к Дворцу культуры шёлковский двор. Вернее – «пролегала бы». Но никто не рисковал ходить напрямую.
Шелковских боялись. Сочетание ли планет, повышенная ли активность солнца, с особой силой ударявшего в волейбольный пятак посреди двора, иные ли неизъяснимые астрономические явления тому причиной, но, по воспоминаниям старожилов, первые послевоенные поколения шелковиков выдались на редкость крутыми и неуступчивыми. Даже на волейбольные матчи выходили с бритвой в кармане или с ножом за голенищем.
Меж двумя домами, вдоль «маневровой» одноколейки, протекала заболоченная, умирающая речушка. Именовалась она не иначе как Березина и охранялась с тщательностью государственной границы. Всякая попытка кребзовцев перейти Березину, а тем паче – пересечь территорию соседнего двора приравнивалась суровыми шелковиками к объявлению войны. Дабы не допустить «осквернения» родимой земли, выставлялись казачьи заставы, – на крыши дровяных сараев, обращенных к Искожу, отправляли дежурить «мелкоту». Завидев скопление врага у Березины, «мелкие» били набат. На гул обрезанной рельсины все, кто был на улице, летели к месту прорыва и выстраивались в редут. Не поспев на большую войну, сыновья фронтовиков «довоёвывали» во дворах.
Подстать послевоенным поколениям оказались и потомки. Во всяком случае, народный суд, размещенный в десятом подъезде дома, сажал всё больше своих, дворовых. И так разохотился, что со временем изрядно проредил мужское население от шестнадцати до двадцати пяти.
Но, видно, переусердствовал нарсуд, погорячился, подрубил сук, на котором сидел, – в семидесятых был он выдворен в пригород, в трёхэтажное здание, по соседству с райпрокуратурой, загсом и мастерской по производству гробов. А освободившиеся площади заняла другая, сопредельная с криминалом структура – овощной магазин.
В кабинет же председателя суда, заново перепланированный под двухкомнатную квартирку, въехала некая могучих статей дама: Фаина Африкановна Литвинова – с двумя дочками: Светкой и Сонечкой.
На общую беду, Фаина Африкановна оказалась обладательницей не только выдающегося бюста, но и редкого организаторского темперамента. И, что уж вовсе некстати, – страстным цветоводом-любителем.
Сразу после вселения сплотила она вокруг себя дворовых старушек и домохозяек и в течение лета насадила вдоль кустов акации грядки флоксов и георгинов. А затем, разохотившись, посягнула на святое. К концу августа, когда двор съехался после школьных каникул, на месте запылённого волейбольного «пятачка» благоухали три огромные клумбы, заботливо подбитые белым кирпичиком.
С этого, по всеобщему мнению, и началось падение могучего шёлковского двора. Будто почувствовав червоточинку, активизировалось подросшее, небитое поколение кребзовцев. Уже со следующей весны группками по три-пять человек с независимым видом, хоть и боязливо озираясь, принялись они просачиваться в Хлам через недоступные прежде шелковские пределы.
А вот в самом Шёлке к середине семидесятых преемственность поколений оказалась нарушенной. Особенно после того как принялись энергично освобождать подвалы, а вслед за тем – расселять коммуналки и передавать квартиры семьям комбинатовских ИТР. Инженерские дети росли пижонами. Вопросами суверенитета и незыблемости дворовых границ не озабочивались. Охотились за записями Битлов; смутно, с придыханием говорили о запретном: о Фрейде, Солженицине и неслыханном прежде – гомосексуализме. На школьных переменах всё больше обсуждалось, с каким мылом лучше натягивать обуженные брюки, позже – из какого бархата клинья годятся для клешей.
Правда, подросли пятнадцатилетние дружки – Боб Меншутин по кличке Кибальчиш и начинающий гоп-стопник Шура Лапин. Хранитель прежних традиций Кибальчиш верховодил «мелкотой». Как в седую старину, расставлял патрульные наряды вдоль Березины, принимал рапорты, навешивал за усердие орденские планки из Военторга, а для особо отличившихся мальчишей самолично вырезал звёздочки из консервных банок и вручал на плацу – в беседке. Старая, с петушком на маковке беседка, дворовая Повесть временных лет, стояла, испещрённая датами и фамилиями. Звёздочка из консервной банки, вручённая в святыне, ценилась среди пацанья как звезда Героя.
Низкорослый, сбитый, будто пачка сливочного масла, Меншутин рядом с переростком Лапой смотрелся бульдогом, трущимся подле массивного ротвейлера. Но, несмотря на преимущество Лапы в статях, ни в чем ему не уступал. Драки меж ними, с соплями и кровью, если уж начинались, то не прекращались, пока мужики-доминошники не растащат за ноги, – по двое на один башмак. Зато когда надвигалась внешняя угроза, Лапа и Кибальчиш вставали бок о бок богатырской заставой.
Сразу после первого «прорыва» Меньшутин и Лапин отловили посреди двора с полдесятка кребзовских и – отмутузили.
Но, должно быть, отмутузили недостаточно убедительно.
Потому что через два дня из Искожа на Шелк двинулась могучая армада – человек тридцать. Они еще не пересекли Березину, как двор стремительно опустел. Лишь за акацией в предвкушении жестокой битвы притаились с обломками кирпичин друзья – третьеклашки Данилка Клыш, Алька Поплагуев и Оська Граневич.
Но никакой битвы не случилось. К тому времени, как докатилось кребзовское войско до дворовой беседки, разбежались перетрусившие мальчиши по квартирам, чердакам да подвалам. Лапу, накануне взломавшего часовую мастерскую, доставили приводом в инспекцию по делам несовершеннолетних. Так что навстречу варягам встал единственный человек – Боб Меншутин.
– Не бывать тому, шоб вражья сила топтала родимую землю, – объявил Боб, гордый, как Кибальчиш.
Избивали его здесь же, прямо у беседки, в песочнице.
Его били, он вставал. Били – вставал. Не помышляя о защите и, должно быть, ничего не соображая. Потому что кровавыми, шершавыми от прилипшего песка губищами продолжал бормотать: «Не пущу!»
Впрочем, никто его и не спрашивал. И уже перед самым уходом младший из кребзовских – десятилетний Петька Загоруйко, по кличке Кальмар, достал острый складной нож и демонстративно срезал с беседки длинный перечень имен, дат, фамилий, – многолетнюю дворовую летопись. А на свежевыструганном месте вырезал ёмкое русское слово – единственное, которое писал без ошибок. После чего вихляющей походкой потрусил вслед за остальными.
И только тогда, бессильно кося вслед злым взглядом, зарыдал униженный Кибальчиш. А за кустами, вслед ему, завторил Данька Клыш.
Заслышав плач, Боб крутнул головой, сцыкнул кровавую слюну:
– Шо скулите, пацаньё? Ништяк! Красную Горку поднимем, Малую Самару подтянем. Поквитаемся!
Но поквитаться не удалось. Потому что как раз вышел первый реальный срок Шуре Лапину, – угодил-таки за решетку, попавшись на уличном гоп-стопе. А семью Меншутиных – будто в насмешку – переселили из подвала в коммуналку в соседнем, кребзовском доме. Вместе с родителями на вражескую территорию перебрался и последний защитник цитадели Кибальчиш. Грозного, неприступного шелковского двора более не существовало.
И тогда на тропу войны ступили малолетки – Алька Поплагуев, Оська Граневич и Данька Клыш. «Мстя» была объявлена той, кого сочли главным виновником дворового унижения, – Фаине Африкановне Литвиновой.
Под вечер, пристреляв рогатки и набрав камней, устроились на подоконнике квартиры Клышей, выходившей на цветник. Попасть в сумерках в стебли роскошных флоксов и георгинов оказалось непросто. Но росли они кучно. Да и снарядов не жалели. Разошлись часа через два, когда с работы вернулась Данькина мать, Нина Николаевна, – инструктор горкома партии.
Наутро двор залили горловые раскаты. Нечесаная Фаина Африкановна в шелковом, расписанном драконами халате бродила меж пострелянных любимцев, то и дело склоняясь над очередным скошенным бутоном и заново заливаясь неутешным басом. Рядышком тихо подвывала ее любимица Сонечка. Старшая дочь, рыжеволосая Светка, поблескивала живыми глазками в сторонке, рядышком с одноклассницей – Наташкой Павелецкой. Происходящее доставляло ей видимое удовольствие.
Трое шкодников были тут же.
– Под самую печенку дали, – азартно объявил Алька.
С дерзким торжеством встретил он взгляд грозной Литвиновой, на всякий случай отступив подальше.
Но удирать не пришлось. Посмотрев сквозь него, Фаина Африкановна прошла в подъезд, поддерживаемая дворовыми старушками. Вели ее бережно, словно мать, получившую похоронки.
Народу скопилось густо.
Задержались спешившие в школу подружки-старшеклассницы: Любочка Повалий, о которой всезнающий Алька с придыханием сообщил, что уже «гуляет», и татарочка Зулия Мустафина, пухленькая и нежная, как зефиринка. Возле Зулии тёрся её воздыхатель – голубятник, мотогонщик и яхтсмен Фома Тиновицкий. Круглолицый, веснушчатый. Когда Фома засматривался на Зулию, губы его сами собой растягивались в улыбку, веснушки расползались в разные стороны и, казалось, беззвучно постукивают одна о другую. Фома зачитывался книгами про путешественников, штудировал карты и атласы и страстно мечтал стать знаменитым путешественником. Как Тур Хейердал или хотя бы Сенкевич.
Отец Зулии дворник Харис, опершись о метлу, постукивал деревянной култышкой на шлейках. Харис тоже был мечтатель, – он мечтал о богатом женихе для дочери. Выбор Зулии Харис не одобрял.
Как и прочие дворники, жил он с семьёй в служебном подвальчике. Единственное оконце, ниже уровня земли, выходило в приямку, огороженную железной решеткой. Из этого окошка Харис частенько наблюдал две пары ног: полосатые кегельки дочери и брезентовые, бахромящиеся брюки Фомы. Бахрома эта унижала эстетическое самосознание Хариса. Зачем бедной татарской семье нужен зять с бахромой на брюках? – рассуждал он.
Правда, о Тиновицком-старшем – мастере по ремонту котлов, говорили, что зарабатывает «круто». Но Харис не верил: если зарабатываешь, почему не хватает на брюки без бахромы для сына. А раз не хватает на брюки, откуда возьмутся деньги на калым? Потому, когда смущенная Зулия привела Фому домой, Харис ухажёра выпроводил без затей.
У дальнего, двенадцатого подъезда топтались одноклассники малолетних шкодников – лизал петушок на палочке тихонький Боря Першуткин – в бархатных, канареечных галифе, сшитых из сценарной портьеры матерью – театральным портным, и дылда Паша Велькин – с бидоном кваса и шнурованным футбольным мячом под мышкой.
К троице меж тем подбежала оживлённая Светка.
– Что? Допрыгались, оболтусы? Мама сказала, что вам это с рук не сойдёт, – с ходу залепила она.
– Чем докажешь, что мы? – огрызнулся Алька.
– А чего хитрого? Кто ржавую селёдку нам в почтовый ящик засунул? Хотя бы посмотрел, во что заворачиваешь, простофиля!.. На, забирай свою вонючку, – Светка бросила на асфальт промасленный пакет и отошла, брезгливо отирая пальчики. Сквозь масло проступал типографский текст: «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».
– Лопухнулся, – посетовал Алька. – У отца со стола схватил впохыхах. Надо ж было во что-то завернуть. Теперь отхлещет, собака.
Он зябко поёжился. Отец – прокурор – приучал сына к законопослушанию. Правда, разнообразием педагогических приемов не баловал. Мера наказания всегда была одна – исключительная: добротный офицерский ремень.
– Ремень что… забава, – завистливо вздохнул Оська. Оська Граневич ремня не знал. Отец, Абрам Семёнович, стеклодув на химкомбинате, по понятиям дворовых кумушек, считался добрым семьянином. Зарабатывал на зависть другим. Деньги аккуратно приносил в семью. Попивал, правда, но не запойно, – всего дважды в месяц: в аванс и в получку. Зато крепко. В такие дни Оська не засыпал в своей комнатёнке допоздна, – подрагивая, ждал отца. Когда ключ проворачивался в замке, Оська обмирал. Если в спальне родителей начиналась возня, крики отца, плач матери, Оська вскакивал с кроватки и, бесстрашный, мчался в родительскую комнату, пытаясь отвести беду от матери, страдающей пороком сердца. Отец с заступником не церемонился – давал наотмашь «леща», так что субтильный Оська кулём отлетал к стене и – затихал. Мать с воплем ужаса бросалась к сыну, ощупывая и закрывая собой. После чего, опамятав, утихал и суровый стеклодув.
Слабака сына Абрам Семёнович не уважал. Уже во втором классе Осип Граневич получил грамоту на межшкольной математической Олимпиаде. Отец бумажку пренебрежительно отбросил: «Вот уродился головастик. Ты б, умник-фигумник, в секцию акробатики, что ли, записался. А то ходишь сморчок сморчком».
Оська терпел. Даже друзьям, стыдясь, не жаловался. Но они и так знали, как, впрочем, и вся школа: если Граневич-младший появился с опухшей щекой или фингалом под глазом, стало быть, накануне у старшего был аванс.
Но в тщедушном Оськином теле жил неукротимый дух. И через две недели всё повторялось. В школе Оське сочувствовали. «Хоть и слаб, но не слабак», – уважительно говорили одноклассники.
Зато Даньку лупить было некому. Отца он никогда не видел. Сколько помнил себя, отец пребывал в какой-то непрерывной загадочной загранкомандировке. И представления об отце сложились у него по скупым воспоминаниям матери, а больше – из рассказов дяди Славы, отцовского друга по таинственному КГБ. В классе над безотцовщиной Клышем посмеивались, и Данька поначалу переживал. Как-то не сдержался, взрыднул дома: у всех отцы, и только он вроде сироты. И тогда дядя Слава, бывший у них в гостях, обхватил его за плечи и доверительно рассказал, что стесняться ему нечего. Наоборот, он может гордиться отцом, потому что тот за границей выполняет особо важное задание Родины. Понял?
Данька аж задохнулся от гордости: стало быть, его отец – разведчик. Храбрейший и таинственнейший из людей.
С этой минуты в жизни Даньки появилась цель: стать разведчиком, как отец. Не раз, засыпая, представлял он себе, как вырастет, получит первое задание за границей. И там случайно встретит отца. И они скупо обнимутся.
Но когда это ещё будет! А пока из засиженного мухами кухонного оконца на втором этаже за ними исподлобья наблюдала Фаина Африкановна.
– К директору школы пойдёт, – сообразил Оська. – А тот отца вызовет.
Припомнил массивный кулачище отца. Вздохнул безысходно.
– Сбежать бы куда.
– В Америку! – подхватил гораздый на любую авантюру Алька. – Я с мамой на лекции по международному положению был. Лектор – Сергач, сосед из нижней квартиры. Так вот, Сергач сказал, что в США сейчас расизм, – он со смаком выговорил диковинное словцо. – Но негры в гетто уже поднимаются на борьбу. Вот бы к ним на подмогу!
– Там без нас есть кому помочь, – Данька подумал об отце. – Здесь надо действовать. Сдать, скажем, деньги в Фонд мира. Против расизма.
– И чтоб до «Пионерской правды» дошло! – синие, чуть навыкате, Алькины глаза заблестели. – Напишут про нас, что вот, мол, почин. Тогда никакая Африкановна не страшна. А лучше свой фонд организовать – пионеры против расизма. Может, движение в нашу честь объявят.
– Здорово бы. Только у нас у самих денег нет, – напомнил здравомыслящий Оська.
– Велика важность! Главное – идея! Можно в комиссионку чего-нибудь загнать! – тотчас нашёлся Алька. – У матери туфель да сапог не счесть. Аж десять коробок. Лифчиков да комбинашек – вообще из тумбочки выпирают. Сдать половину – разве заметит?
– Без паспорта не возьмут, – охолонил Оська.
Алька огорчился. Но долго огорчаться он не умел. На это у него не было времени. Планы, подпирающие один другой, бурлили в его полной фантазий голове, требовали выхода и не давали зацикливаться на неудачах. Он так был переполнен идеями, что ни одну не успевал додумать до конца – уже подталкивала следующая.
– Тогда букинистический! – Алька прищёлкнул пальцами. – Дома собрания сочинений в два ряда! Папаше, что ни предложат, – всё тащит. А страницы – я перелистывал – половина склеенные. Во второй ряд вообще никто никогда не заглядывает. Библиотеку фантастики загнать – влёт уйдёт.
Он гордо скосился на Даньку. Данька хмурился, прикусив нижнюю губу. Алька и Оська, переглянувшись, выжидательно примолкли. Когда Данька прикусывал нижнюю губу, стоило подождать. В отличие от Поплагуева, палившего предложениями как автоматными очередями, Клыш по натуре был снайпером: не спеша выцеливал и – бил.
– У тебя, кажется, горн есть, – припомнил он.
– В пионерлагере подарили как лучшему горнисту, – осторожно подтвердил Алька. На самом деле горн он спёр, прихватив заодно и барабан.
– Дудка есть, деньги будут! – объявил Клыш. Огляделся. Неподалёку крутился школьный стукач Борька Першуткин. Данька на всякий случай погрозил ему, отгоняя, кулаком, поманил друзей за кусты акации, в песочницу, и только там шепотом поделился идеей.
– Класс, – восхитился Оська.
– Здо́рово, – согласился Алька. – Только надо куда-нибудь подальше от дома. Чтоб потом не нашли.
– Но мы ж для благородного дела!
– Для благородного. Но лучше, чтоб не нашли.
…В семь вечера, в окраинной новостройке пос. Южный, в дверь квартиры верхнего этажа шестнадцатиэтажного дома позвонили. Хозяин, в стираной майке, с маслянистым жёлтым подбородком, с обглоданной курицей в руке, приоткрыл дверь и несколько оторопел. На пороге стояли три пионера в белых рубахах и красных галстуках. – Чего, ребята? Макулатуру собираете?
В ответ один, рыженький, коротко ударил в барабан, другой, повыше, зычно протрубил, третий шагнул вперед, приложил руку в пионерском приветствии, волнуясь, объявил: – Не макулатуру. Даже наоборот. Собираем взносы в Фонд борьбы с расизмом. Взносы добровольные.
Он вытащил из-под мышки клеенчатую общую тетрадь, послюнявил карандаш:
– Ваша фамилия?
– А без фамилии нельзя? – хозяин улыбнулся вышедшей следом жене.
– Нельзя. У нас отчётность, – нахмурился юный бюрократ. Жена расхохоталась:
– Не томи мальчишек. Подай-ка мою сумку.
Она вытащила рубль, протянула:
– Зайдите. Чаем напою.
– Спасибо. Но нам еще остальных обойти нужно.
Пионеры дружно отсалютовали и позвонили в соседнюю дверь.
Не отказывал никто. Кто легко, кто со вздохом, кто ворча. Кто рубль, кто трешку, а, бывало, и пятерку, – но подавали все. Привычные к постоянным поборам на работе, люди не сомневались, что пионерский рейд санкционирован где-то на уровне райкома или горкома.
Работали неделю. Добычу паковали в металлические коробки из-под печенья и леденцов и сгружали к Альке в диван.
После школы собирались, пересчитывали. Когда счёт пошел на тысячи, приспособили счёты. Счетовод Граневич лихо перекидывал кости.
– Ещё одна тыща! – громогласно объявил он.
Глядя на разбросанные по дивану купюры, Алька ощутил томление. Рука потянулась к ближайшей трёшке.
– Отметить бы надо портвешком, – предложил он. – Я, пожалуй, сбегаю!
– А как же негры? – укорил Данька. – Неграм нужнее.
Алька огорчился. Пока денег не было, он верил, что неграм они нужнее. Но при виде взлохмаченного холмика засомневался.
– Так не убудет с них с трёшки, – неуверенно возразил Алька. – Заодно «Памира» прикуплю.
К сигаретам он пристрастился, таская их из отцовского стола.
В прихожей провернулся ключ.
– Полундра! Папаша! – Алька всполошился.
Времени распихать деньги по коробкам и даже просто смести их россыпью внутрь дивана уже не было. Потому все трое тесно, спина к спине, плюхнулись на сиденье, придавив бумажки собственным весом.
Из прихожей донеслось громкое, с фальшивинкой: «Гром победы, раздавайся! Веселися, гордый росс!»
– Поёт! Значит, опять кого-нибудь посадил, – определил Алька. Застеклённые дверные створки распахнулись. В гостиную, оглаживая примятые фуражкой волосы, вошел приземистый военный в подполковничьих погонах – главный прокурор военного гарнизона Поплагуев.
День и впрямь выдался удачным. После сессии горсовета прокурору повезло выпить в компании второго секретаря райкома. Потому на одутловатом лице Михаила Дмитриевича при виде сына и его дружков появилось снисходительное, педагогическое выражение. Но уже в следующую долю секунды он заметил неестественное, виноватое шебуршение, непонятный, сродни тараканьему, хруст, знакомый страх в глазах сына.
Михаил Дмитриевич шагнул вперед. Не церемонясь, ухватил сына и ближайшего к себе – Оську за локти, рывком стряхнул с дивана. Лицо полнокровного прокурора побагровело, скошенная челюсть отвисла. По всему дивану оказались разбросаны деньги. Лохматые, вздыбленные рубли, трёшки, пятерки грязной пеной покрывали обивку. Даже навскидку денег было очень много.
– Что это? – глухо произнес Михаил Дмитриевич.
– Это для негров, – сообщил Алька.
– Чего?!
Алька умоляюще подтолкнул Клыша.
– Для американских негров, – стараясь держаться убедительно, подтвердил тот. – Мы фонд учредили – «Пионеры против расизма».
И всё-таки, рассказывая, Данька сбивался и путался, потому что при виде полезших из орбит прокурорских глаз начал понимать, что дело, казавшееся ему безусловно необходимым и правильным, со стороны выглядит совсем-совсем иначе.
Все трое, переглядываясь, ждали, что скажет Алькин отец. А тот, тяжело сопя, раскачивался с носка на пятку, так что паркет жалобно постанывал под кованым сапогом. Наконец, с сапом выдохнул.
– Это что же выходит? – прорычал он. – Сын прокурора Поплагуева – мошенник?.. Мошенник?! – с яростью обратился он к сыну. – Да в нашем роду все, наоборот, отродясь сажали. Слышишь ты, выродок?!
– Почему мошенник? – пискнул перетрусивший Алька. Он заметил, что взгляд отца заметался по комнате, наверняка в поисках ремня. Это придало вдохновения. – Мы для пользы! Для угнетенных! – отчаянно выкрикнул он.
Впрочем, Михаил Дмитриевич, описав глазами круг по комнате, вновь уткнулся в разбросанные деньги, и это переменило его мысли.
Ремень мог подождать. А что делать со всем этим? Ведь дойди до кого-нибудь слух, что малолетний сын прокурора Поплагуева «обнёс» с дружками несколько многоэтажных домов, позору не оберёшься. А может, и позором не отделаешься. И прокурор Поплагуев поступил так, как поступают воры, – хочешь отмазаться сам, замажь как можно больше народу.
– Мать дома? – обратился он к Клышу. Тот, взглянув на настенные часы, неохотно кивнул.
– Тогда живо собирай свои деньги и идем к ней, – определился прокурор.
Михаил Дмитриевич дождался, пока Данька, торопясь и сминая купюры, сгребёт их в самую большую коробку – из-под монпансье, цепко ухватил его за рукав: – Пошли, малолетний преступник.
– Так, может, и я. Мы ж вместе, – Алька, хоть и трусил, но бросать друга не хотел. Выступил вперед и Оська.
– Вы своё сделали, – отрубил прокурор. Оглядел переминающегося Граневича.
– Язык за зубами держать умеешь?
– Чего?
– Марш домой, говорю, и – чтоб ни звука. Отец узнает – башку оторвёт… А ты – приготовься! – уходя, цыкнул он на сына.
Нина Николаевна Клыш только вернулась с работы, совершенно замотанная, – готовили срочный вопрос на бюро. Потому она не сразу поняла, отчего сына привел домой сосед и чего Михаил Дмитриевич от неё хочет. А когда поняла, испугалась похлеще прокурора. Ойкнув, осела на табуретку.
– Как же ты это, сынок? – спросила она потупившегося сына. Искательно поглядела на хмурого прокурора:
– Может, им пройти по квартирам и вернуть?
По скептической ухмылке Михаила Дмитриевича сообразила, что сморозила глупость, – начни возвращать, и тогда точно всё всплывёт.
– Что ж делать-то будем? – Нина Николаевна по-бабьи всплеснула руками.
– Уж сделали, что сумели. Вырастили мерзавцев, – отчеканил прокурор. – Одна надежда – никто не сообразит. Они ж все-таки дураки-дураки, но не идиоты. Не в собственном доме нагадили, а аж за семь остановок, в Южный ездили, где их не знают.
Прокурор кивнул на раздутую коробку:
– А это советую выкинуть. Не было – и всё…
Чувствуя неловкость, потоптался.
– А впрочем, как хотите, Нина Николаевна! Ваш – организатор преступной шайки. В смысле – инициатор. Вам и решать. Я к этим грязным деньгам не прикоснулся. И даже не знаю, сколько там.
Дверь за расторопным прокурором захлопнулась. Мать и сын остались вдвоем.
– Мам! – совершенно потерявшийся при виде материнских слёз Данька робко потеребил ее за волосы. – Но мы ж, по правде, не себе. Угнетенным!
– Угнетенным! – Нина Николаевна притянула сына. – Дурашка мой! Я-то знаю, что не себе. А другие что подумают? А до отца, не дай Бог, дойдет?
Она сама испугалась, как сжался при упоминании об отце сын. – Не сейчас, конечно, – поспешила она исправиться. – Но только надо так жить, чтоб не стыдно было, когда вернется. Понимаешь?
Она обхватила руками голову сына, вгляделась в растерянные, полные раскаяния глаза:
– В общем, беги на двор и выкинь это в помойку.
– Как же в помойку? Тут много, – испугался Данька.
– Много, мало – знать не желаю, – простонала мать. – Слышал, что Михаил Дмитриевич сказал? Хотя в помойке – мало ли кто углядит! Начнут дознание. Добеги до рощи, там и… Только бы не узнали! Господи, только бы не узнали.
Такая мольба прозвучала в ее голосе, что Данька, не возражая, с коробкой под мышкой выскочил во двор. Выбегая, заметил, что мать кинулась к телефону.
Готовиться к порке Алька начал, едва дверь за отцом захлопнулась. Нашел на балконе среди инструмента остренный сапожный нож и порезал отцовский ремень в мелкую стружку. Рассудив, что хуже уж не будет, на всякий случай порубал и подтяжки. Увы! Оказалось, что на антресолях хранился ещё один ремень: толстокожий, с добротной заточенной пряжкой. Даже Михаил Дмитрич, покрутив, засомневался.
– Ступай, обормот, по соседям, – смилостивился он. – Не найдешь обычный ремень, – исполосую этим.
Дважды предлагать не пришлось: Алька метнулся к Земским.
Первый заместитель генерального директора производственного объединения «Химволокно» Анатолий Земский с женой получили квартиру одновременно с Поплагуевыми, в одном подъезде, только этажом ниже. Единственно – не трех-, а четырехкомнатную. Хватало, конечно, и трех: в «коммунальной» стране любая отдельная квартира считалась немыслимым благом. Но лишняя, четвёртая комната на бездетную семью была подтверждением, что в номенклатурной цепочке прокурор военного гарнизона котируется ниже заместителя директора комбината. И это царапало прокурорское самолюбие.
Впрочем, у Михаила Дмитриевича хватило ума не выказывать обиду. Напротив, постарался сблизиться с новым соседом, поскольку знал: всякая бытовая проблема, будь то финская стенка или штакетник для дачи и даже заоблачный дефицит – третья модель «Жигулей», над решением которой подполковник – прокурор потел неделями и месяцами, Земским решалась походя, поднятием телефонной трубки. Приятельство с таким человеком сулило немалые выгоды.
…Их было два друга, два фронтовика, два руководителя крупнейшего в отрасли градообразующего гиганта. Генеральный директор комбината – гривастый и осанистый Аркадий Комков, Герой Соцтруда, лауреат, орденоносец, и его первый зам, Анатолий Земский, – шумный, искромётный любитель розыгрышей и сальных анекдотов, счастливый баловень женщин. Крутая, залысая голова, чересчур крупная для невысокого, плотно сбитого тела, при ходьбе постоянно клонилась вперёд, как бы разгоняя запаздывающие ноги, отчего возникало ощущение, что он всегда на бегу.
Вдвоём эти двое решали все важнейшие комбинатовские проблемы. Если требовалось пробить вопрос на уровне первого секретаря обкома, министра, а то и Совмина, Аркадий Иванович Комков надевал свой орденоносный, в висюльках костюм. Это была его «тяжеловесная» зона ответственности.
Всю остальную «поляну» «перекрывал» Земский. Среди министерской и областной номенклатуры не быть знакомым с Земским считалось неприличным. Его знали все, от председателя облисполкома до администратора футбольной команды «Химик». Впрочем, на «ты» он был и с дефицитным слесарем в автосервисе, и с жокеями на ипподроме, и с комбайнером из подшефного совхоза «Красный химик». Да и двора не чурался. В выходной мог выйти в заграничной байковой пижаме с норковыми отворотами и в кожаных «шведках» на босу ногу к доминошному столу, где в паре со старшим Граневичем сносил любого.
Легко сошелся он и с соседом-прокурором, оказавшимся крепким собутыльником. Сблизила их послевоенная Германия. Земский, сбежавший на фронт в неполные восемнадцать, закончил войну в Берлине. Юный опер НКВД Поплагуев боевые действия не захватил даже краешком. Но сразу после победы был направлен в Германию, где и прослужил три года. Так что им всегда находилось о чем повспоминать под рюмочку.
Куда поразительней, что тёплые отношения связали жён.
Жена Земского, Тамара, – грузная, хлопотливая одесситка, с неизменной пачкой «Герцеговины флор», с утра до вечера, как сама любила сострить, отдыхала по хозяйству. Среди дворовых старушек, нянечек, домохозяек слыла бандершей и авторитетнейшим во всех разборках судиёй.
Совсем иной кости была выпускница Московского текстильного института Марьяна Викторовна Поплагуева. В свои тридцать три всё ещё по-девичьи хрупкая, балуемая мужем, – на двадцать лет старше её. Но неулыбчивая, вечно углублённая в себя, будто что-то точило изнутри. Проходя по двору, то и дело забывала поздороваться, за что схлопотала среди дворовых кумушек репутацию задаваки и воображалы. Расслаблялась она по вечерам, садясь за пианино. Когда пела несильным, тёплым голосом любимые романсы, голубые глаза будто распахивались изнутри, хмурое лицо разглаживалось, в уголке губ появлялась мечтательная складка. В юности Марьяна летала во сне. Взмывала под облака, кувыркалась в воздухе. После свадьбы в нежную минуту призналась мужу. Муж – прокурор – предостерёг: «Смотри, не задень за линии высоковольтных передач. Замкнёт – разобьешься. Костей не соберёшь». Предостережение запало. Какое-то время Марьяна ещё летала. Но осторожненько, опасаясь зацепить провода. Потом и вовсе взлетать перестала. А там и сны ушли.
Подружил соседок неожиданный случай. По подъездам дома долгое время ходила по утрам некая баба Шура, предлагала по дешёвке сметану, яйца, творог. Весь дом знал, что работает баба Шура раздатчицей в детсаду. Там же и подворовывает. Одни захлопывали дверь. Но другие брали. И – никто не сообщал. Как-то Тамара, возвратясь с рынка, услышала на площадке верхнего этажа заливистую матерную брань бабы Шуры. Поднялась. У распахнутой двери Поплагуевых застыла растерянная Марьяна Викторовна. При виде соседки показала на сумки с наворованным. «Понимаешь, я же ещё и виновата, что не беру».
– Звони участковому, – предложила ей Тамара; втолкнула разбитную воровку в квартиру: – Всё, шлында, отдухарилась.
Работала Марьяна Викторовна заместителем начальника прядильного цеха «Химволокна» и, подобно мужу, сутками пропадала на работе. Порой муж и жена сходились домой к ночи. Жена заглядывала в холодильник и виновато разводила руки.
Времени заниматься воспитанием ребёнка у Поплагуевых не было. Уже через год после рождения Альки супруги приискали ему няньку, тётю Мотю, – одинокую старушку с улицы Резинстроя, что на Первом посёлке. Утром, перед работой, Марьяна на прокурорской машине завозила малыша к тёте Моте. Сгружала из авоськи продукты: «Здесь и на вас хватит. Но, пожалуйста, чтоб глаз не спускать». «Даже в голове не держи! В лучшем виде обихожу», – успокаивала неизменно развесёлая нянька с морщинистым, спёкшимся личиком и носиком, пунцовым, будто обгрызанная, плохо очищенная морковка.
Вечером один из супругов заскакивал за сынишкой. Нарадоваться не могли. Разве что смущала худоба да появившаяся чесотка. Впрочем, тётя Мотя авторитетно разъяснила, что конституция у ребенка субтильная, и продукт весь пока идёт в косточку.
Соседка Тамара, с которой Марьяна поделилась впечатлениями от чудесной няньки, оглядев корочки за детскими ушками, а особенно услышав «про косточку», обеспокоилась.
– Дай-ка адресок, вечерком сама заберу дитятко, – предложила она.
Терпения до вечера Тамаре не хватило: заявилась после обеда. Из распахнутого, с обрывками клееной бумаги окна первого этажа лилось патефонное: «Эх, мороз, мороз!» Облупленная фанерная дверь оказалась незапертой.
Красноносая певунья тётя Мотя коротала одиночество с чекушкой, запивая её последним, что оставалось в родительском пакете, – молочной смесью. Слёзы скатывались по морщинкам, словно по желобам.
– Прям за душу берет, – пояснила она незнакомке.
Тамара огляделась:
– Где мало́й-то?
– Как это? – тётя Мотя смешалась, заозиралась. – Только ж был! Погулять, должно, пополз. Такой пластун!
Из-под панцырной кровати тявкнули.
– Да вот же он! – обрадовалась тётя Мотя. – На месте. Как в аптеке. А ты вообще хто?
Тамара откинула покрывало, с кряхтеньем опустилась на колени, заглянула. Из темноты на неё смотрели четыре глаза. Щенок и детёныш с мордашками, покрытыми слежалой коркой. Меж ними стояло блюдечко с засохшей манной кашей. Похоже, кашу эти двое делили по-братски.
Вопль, подобный сирене, прорезал тишину улицы Резинстроя. Разъяренная Тамара с младенцем в левой и с кочергой в правой гнала блажащую, перетрусившую тётю Мотю через весь Первый посёлок, то и дело охаживая по хребту.
Вечером от неё полной мерой досталось и непутёвым родителям. И когда спустя ещё неделю Марьяна, робея, сообщила подруге, что отдаёт малыша в ясли, та встала горой:
– Хватит ребятёнка калечить! Ко мне его по утрам. Я тебе и за ясли буду! И за папу с мамой!
Так и получилось, что сколько Алька помнил себя в этой жизни, столько в ней были дядя Толечка и тётя Тамарочка. Которым проказливый соседский мальчишка, легкий и звонкий, как бубен, заменил нерожденного ребенка.
…Алька с силой жал на звонок. Из глубины квартиры послышались знакомые шаркающие шаги, голос тёти Тамарочки: «Толик! Я открою. И иди, наконец, покушать или ты лопнешь моё терпение».
Тётя Тамарочка распахнула дверь, прижимая к животу заварной чайник с притороченным к носику ситечком.
– О! Аленький пришел! – громогласно обрадовалась она. – И вовремя, лапушка. Я как раз сегодня удачно сделала базар. Синенькие твои любимые приготовила…
– Тётя Тамарочка, найди ремень, – Алька подпустил слезу.
– Какой то есть?.. Да ты никак?!.. Что ж такое-то?! – тётя Тамарочка перепугалась. – Толик!!!
– Что тут у вас?! – дядя Толечка, дотоле равнодушный к угрозам жены, уже спешил на голос. В жениных интонациях он ориентировался, словно опытный лоцман в хоженой-перехоженной гавани.
– Да вот, – тётя Тамарочка растерянно ткнула в Альку. – Хлопчик за ремнём пришел.
Ещё через минуту громыхнула дверь на верхнем этаже, по кафелю увесисто задробили подкованные каблуки. По лестнице спускался гневный родитель. В проеме показались овальные носки яловых сапог, полощущиеся галифе. Алька шмыгнул за тётю Тамарочку, будто птенчик за наседку.
– Так и знал, что прятаться, стервец, побежит! Только дай поблажку! – обнаружив квартиру Земских приоткрытой, объявил Михаил Дмитриевич. Разглядел за спиной соседки силуэт сына. – Я тебя, поганец, зачем послал? А ну, вылазь под отеческую длань! Пропусти-ка, Тома!
Он сделал попытку протиснуться внутрь. Но тётя Тамарочка шагнула навстречу и, широкая, как корыто, опечатала собою вход.
– Не отдам хлопчика! – объявила она.
– Ты чо, Тамара, с цепи сорвалась? – Михаил Дмитриевич опешил. – Когда и учить как не щас, пока ещё поперёк лавки. Знаешь хоть чего натворил?
– Знать не желаю! И тебя тоже. Я как раз имею тебе сказать, что ты изувер! – Тамара, добрая по натуре, цивилизованно ругаться не умела. Если уж доводилось, то сразу пускала в галоп – срывалась на крик. – Ишь чего надумал! Мало́го пряжкой стегать! А самому если портки вислые скинуть?
Тут начал закипать и не привыкший к пререканиям прокурор:
– А чего ты вообще лезешь?! Мой сын – считаю нужным, стегаю.
– Это пока твой! Да тебя родительских прав лишить мало! – заблажила вошедшая в скандальный раж Тамара. – Думаешь, если прокурор, так и закон не писан? Ан пропишу, что мало не покажется!..
– А ну, отдай, пока по-хорошему!.. – Михаил Дмитриевич попробовал сдвинуть упрямую соседку. Безуспешно. – Гляди, мужу расскажу, что не в своё дело лезешь! То-то схлопочешь!
– Так и скажи! – Тамара слегка посторонилась, и Михаил Дмитриевич в витраже огромного шкафа «Хельга» увидел отражение хозяина. Земский стоял, набычившись. Морщины волнами перекатывались по крутому, залысому его лбу.
– Слышь, Толь, чего твоя удумала?… – неуверенно обратился Михаил Дмитриевич. – Волю взяла: сына отцу не отдавать.
Он будто споткнулся о недобрый, исподлобья взгляд. Таким, суровым, компанейского соседа Поплагуев прежде не видел.
– Вот что, Михаил, – процедил Земский. – Еще раз мальчишку тронешь, как бог свят, – руки не подам. А сегодня вовсе не отдам. Ступай, чтоб глаза тебя не видели!
Через плечо жены дотянулся до ручки и захлопнул дверь перед носом ошеломлённого прокурора. Дождался, пока потяжелевшие шаги потянутся вверх по лестнице. Кивнул жене на дрожащего Альку:
– Приготовь, где поспать. И вообще, давно пора для мальчишки комнату организовать.
– Так я ж всей душой, Толечка, – тетя Тамарочка обрадовалась, всполошилась. – Я уж прикидывала: можно угловую под детскую освободить. Даже мебель приглядела, такую пёстренькую, в горошек! Как раз мальчиковую. Смотрела и думала: вот бы для Аленького!
– Ну так и!.. Будто не знаешь, где деньги лежат. Пошли, Алька! Поучу в маджонг играть.
В девять вечера к Клышам приехал дядя Слава.
– Неграм, говоришь, собрал? – дядя Слава разглядывал Даньку с каким-то свежим интересом.
– Неграм, – чувствуя себя полным дураком, подтвердил Данька.
– Сам или кто надоумил?
– Сам.
– Может, и сам. С тебя станется. А с чего ты взял, что деньги эти до негров бы дошли?
– Как это? – не понял Данька. – Мы ж в Фонд сдать хотели.
– И я о том же, – непонятно хмыкнул дядя Слава. Он скосился на дверь, убеждаясь, что мать их не слышит, подманил к себе обескураженного пацанёнка, шепнул. – Неграм, брат, и без нас с тобой неплохо живётся.
– Как это? – у Даньки аж рот приоткрылся.
– Подрастешь – поймешь. Ты хоть одного негра видел, чтоб в СССР попросился? – дядя Слава заговорщически подмигнул. Приложил палец к губам, – в комнату вошла мать.
– А вот то, что ты сотворил, может и впрямь плохо кончиться, – с приходом матери дядя Слава посерьезнел, заговорил увесисто. – Я, конечно, прослежу, чтоб ходу не дали, – он повернулся вполоборота к Нине Николаевне. – Но формально, если где всплывёт, – налицо мошенничество в крупных размерах. Посадить по малолетству не посадят. А вот пятно расплывётся – ни одна химчистка до конца жизни не отчистит! Да и чего тебе здесь болтаться? В общем, мы с матерью посоветовались, – что скажешь, чтоб в Суворовское училище поступить?
Данька испуганно глянул на мать, слабо ему улыбнувшуюся. Буркнул упрямо:
– Я не хочу в армию. Я хочу, когда вырасту, к вам, в чекисты. Чтоб на страже Родины, как папа.
– Вот и начинай готовиться, – согласился дядя Слава. – Военная дисциплина чекисту на пользу. В училище на языки налегай. Сейчас в школах они вроде хорового пения. Хошь пой, хошь из рогатки пуляй. Но нашему брату чекисту, особенно с иностранным уклоном, без языков никуда. И вообще усвой. Все хотят от жизни схожего, – чтоб много и сытно. Просто большинству на халяву подавай. Вот это большинство, орава подкаблучная, оно как раз в шлак уйдёт. А в люди пробьётся тот, кто пробивается. В общем, чтоб по уму…
Он потряс кулаком. Мать всплакнула.
Прошло две недели. Всё, по счастью, было тихо. И всё-таки по окончании четверти Нина Николаевна отвезла сына в Суворовское училище – за триста километров.
Алькина жизнь потихоньку смещалась с четвертого этажа на третий. Поначалу он лишь дневал у Земских. Под присмотром тёти Тамарочки готовил уроки, за собственным письменным столом с позолоченным чернильным прибором и разноцветными стёрками. Бродил по квартире среди сваленных в беспорядке литературных журналов. Изредка, с разрешения матери, оставался на ночь. Но со временем, мало-помалу, перебрался, как шутил дядя Толечка, на ПМЖ.
Вечно занятые родители этому не препятствовали. Напротив, чувствовали себя обязанными бескорыстным соседям. И теперь уже мать, соскучившись, забегала к Тамаре и просила отпустить сына на вечерок погостить.
Алька любил ночевать у душевных, ставших ему ближе близкого людей. Любил лежать в собственной комнате, среди книжных полок, на тёплой, заботливо подбитой по краям тахте. Любил, покопавшись в «Библиотеке приключений», почитать перед сном. Тянулся рукой к этажерке, включал лампу с бумажным абажуром на синем стеклянном цоколе.
«Я лишь самую секундочку-рассекундочку», – уверял он тётю Тамарочку. И, конечно, зачитывался, забыв о времени, пока не возвращалась воспитательница. Стараясь выглядеть сердитой, гасила лампу, произносила: «Кто из нас утром должен идти в школу?! Или ты за Наполеона, чтоб без сна обходиться?»
Алька лежал в темноте и слушал, как в глубине квартиры с ленцой переругивались хозяева.
– Томка! Почему опять галстук на завтра не подобран? Доиграешься, уволю в запас! – стращал дядя Толечка.
– Да на же, удавись! Ещё и погладила ему! И вместо чтоб спасибо…
– О! Другое дело! Тогда взыскание снимаю.
– Погляди-кось! Новую кофточку шифоновую прикупила, – через минуту доносилось тёти Тамарочкино, кокетливое. – Глянькось, какие фонарики скла́дные. Ну, как выгляжу?
– Это смотря с кем из моих секретарш сравнивать, – отвечал сквозь зевоту дядя Толечка. – Ежели со старшей, то на уровне, а если с той козочкой, что на днях принял, уже не соответствуешь.
– О господи! Шоб ты провалился, кровопивец! – тётя Тамарочка с чувством хлопала дверью, выскакивала в коридор.
– Тьфу, тьфу, конечно, – слышалось следом приглушенное ее бормотание возле Алькиной комнатки. Потом дверь тихонько приоткрывалась. Тётя Тамарочка прислушивалась к притворно ровному дыханию.
– Спи, лапушка! Спи, колокольчик! – выдыхала она, пахнув папиросным запахом.
Алька улыбался в темноте и засыпал. В этом доме он часто засыпал с улыбкой. А просыпался с улыбкой – всегда. Тёплый после сна, с «вафельной» щекой, полный предвкушения перед зарождающимся днём, сулящим новые радости и проказы.
И оба Земских старались подкараулить момент пробуждения.
– Таки солнечный мальчик, – неизменно шептала Тамара. На что муж, стыдливо убирая глаза, согласно кивал.
Собственно, и воспитанием Алькиным больше других занималась тётя Тамарочка, совершенно игнорируя педагогические приёмы. Их у неё просто не было. Была лишь огромная любовь к маленькому воспитаннику и интуиция, что с лихвой замещала тома педлитературы.
К примеру, сама чистюля, она приучала к чистоплотности и Альку. Но делала это на свой лад. Скажем, Алька обожал играть с дядей Толечкой в сыщиков и воров. Сам он обычно был сыщиком, а дядя Толечка вором.
Когда Алька разбрасывал игрушки, тётя Тамарочка всплёскивала руками и качала головой:
– Ай-я-яй, Аленький! Немедленно убирай! А то придут воры и скажут: – Фу, как у вас грязно! И уйдут к другому мальчику.
Логики в этом не было никакой. Но эффект оказался удивителен: с малолетства Алька накрепко усвоил, что неряшливость недопустима.
Одна только угроза не срабатывала.
– Не будешь слушаться, вырастешь, как этот олух, дядя Толечка, – бурчала порой тётя Тамарочка.
Стать таким, как дядя Толечка, Альке мечталось.
Едва ли не первое, что запомнилось Альке из детства, – когда дядя Толечка впервые взял с собой его, четырехлетнего, на комбинат.
Тётя Тамарочка умчалась со сломанным зубом в поликлинику, и оставить малыша оказалось не с кем.
За первым заместителем директора комбината Земским, конечно, была закреплена персональная машина. Но на работу он на ней не ездил. Шёл пешком: через двор, по тропинке вдоль сараев, до дыры в заборе, сквозь которую пролезал на территорию Дворца культуры. По асфальтовой дорожке выходил на площадь Московской заставы, от которой к комбинатовской проходной тянулась тополиная аллея.
По широкой аллее текли два встречных людских потока: ночная и утренняя смены. Текли себе потихоньку, не соприкасаясь. Ночная смена – умотавшаяся, утренняя – не пробудившаяся.
Но едва ступал на аллею Земский, потоки смешивались, образуя вокруг него буруны. Энергичного, с веселинкой в глазах замдиректора останавливали, догоняли. Докладывали, доводили до сведения, сообщали, делились, жаловались, умоляли, требовали, похвалялись и, начинённые свежими анекдотами и подначками, неохотно уступали место другим, нетерпеливо ждущим очереди. Так что путь к комбинату вместо отведенных пяти – семи минут занимал у Земского тридцать – сорок. Зато, даже не дойдя до заводоуправления, он уже знал, где какой сбой произошёл, по чьей вине, чьими силами и в какие сроки это можно исправить.
Раздеваясь на ходу, проскакивал через приёмную, плюхался на ручку массивного кресла, подтягивал к себе телефоны, и – всё вокруг закипало. Так что к директорской планерке, когда подъезжал Комков, половина проблем оказывалась решена, другая – «запущена в дело».
В этот раз, правда, работа клеилась не споро. Мешал маленький Алька, дёргавший бесчисленные проводки и жавший на манящие звонки и клавиши селектора.
Земский недолго размышлял, чем занять малыша. Показал на три кнопки на пульте управления:
– Это, Алька, волшебные кнопки. Нажмёшь – баба выскочит. Показываю!
Он нажал на все сразу. В кабинет вошли одновременно три женщины-секретарши. Удивленные.
– Значит, так, барышни, – объявил Земский. – Как, по-Вашему, должен я сегодня поработать?.. Не отвечайте, знаю, что должен. Потому я сажусь за селектор, а он, – Земский потрепал мальца по головке, – будет вам за директора. А ваше дело – являться по его вызову и всячески занимать.
– Как долго? – нахмурилась старшая.
– А пока планерка не кончится.
Игра Альке очень понравилась. В отличие от секретарш.
Когда к обеду шофер вернул Альку в квартиру, тётя Тамарочка вовсю трудилась: перевязав волосы по лбу, шинковала капусту. О пухлое плечо цеплялась подвешенная к люстре липучка с мухами.
– Тётя Тамарочка! – бросился с порога Алька. – Поиграй со мной в директора. Ты будешь дядей Толечкой, а я секретаршей.
Тётя Тамарочка согласно кивнула.
– Жми на кнопку, – потребовал Алька. – А я пока спрячусь.
Он заскочил за тюль.
– Динь-динь! – сказала тетя Тамарочка, не переставая строчить ножом.
Алька выскочил чертом из табакерки. – Обними меня!
Тётя Тамарочка охотно прижала малыша к себе, потянулась поцеловать. Алька отстранился, упёрся ручками:
– Толюганчик, перестань. Даже не заперто! А если кто войдет?
– Как то есть Толюганчик? – улыбка стекла с широкого Тамариного лица. Нож, мелькавший в ловкой руке, шинканул по пальцу.
Чем закончился его визит на комбинат, Алька не узнал. Перед возвращением мужа Тамара отвела ребёнка в родительскую квартиру.
Много позже Алька понял, сколь по-женски умна была тётя Тамарочка. Как-то случайно поднял параллельную телефонную трубку. Женский голос сочувственно сообщал, что у мужа появилась любовница.
– Не хочу вас расстраивать. Но у нас дома всё хорошо. И будет хорошо! – отчеканила тётя Тамарочка, перед тем как отключиться. Весь день проходила в дурном настроении. Но вечером мужу не обмолвилась ни полсловом.
– Ты с дядей Толечкой счастлива? – улучил как-то добрую минуту Алька.
– А куда деваться? – отшутилась в своей манере тётя Тамарочка. Подмигнула. – Ну и жалко его, стервеца, конечно: что он без меня?
Хлебосольная тётя Тамарочка охотно привечала и Алькиных друзей, переиначив по-своему: огненный Оська превратился в Рыжика, Данька – в Клынечку-худёныша.
Утро у друзей начиналось всегда одинаково. Первым поднимался жаворонок Оська. Бежал вприпрыжку к одиннадцатому подъезду, под Данькино окно.
– Ё-жи-ик! – выкрикивал он позывной из любимого мультика «Ёжик в тумане».
– Лоша-адка! – отвечал через форточку Данька, скатывался вниз, и вдвоем торопились к девятому подъезду – к Земским.
– Ёжи-ик! – кричали уже в две глотки. Из окна высовывалась тётя Тамарочка.
– Дрыхнет ваш ёжик! Подымайтесь пока. Я пирожков замесила.
Она же и снаряжала всех троих в школу, выдавая каждому по бутерброду с любительской колбасой. Двойная и широченная, как наволочка, колбаса свисала с ароматного бородинского хлеба, так что прожорливый Оська обгрызал её с краёв ещё по дороге.
Несмотря на первый неудачный опыт, Земский продолжал таскать Альку на комбинат. Правда, тактику сменил. Теперь он навешивал мальцу на пояс офицерский кортик, показывал на сейф:
– Рядовой Поплагуев! Заступаете на пост. Внутри документы особой важности. Не отходить. Никого не подпускать. Задача ясна?
– Так точно! – браво отвечал рядовой Поплагуев. Что удивительно, стоял часами, стараясь не шелохнуться. Как-то даже описался, но пост не покинул.
Со временем приглашал уже всю троицу. И чем старше становились, тем чаще. Подводил к окну кабинета, распахивал, показывал на дымящие трубы.
– Глядите и впитывайте, – с удовольствием разъяснял он. – В центре цельные бетонные трубы. Это ТЭЦ-3. А вот на Эйфелеву башню похожа – корд. Следующая – шёлкового производства. Штапельное не видно – за корпусами прячется. Ну и так далее. За день не обойдёшь. Вселенная!
Закашлявшись, прикрывал окно.
– В жизни, мальчишки, на заводские трубы ориентир держите, – заканчивал он экскурс. – Они что компас, – сбиться с пути не дадут.
Разрешал посидеть на планёрках, устраивал экскурсии по цехам и производствам.
Причем если Альке и Даньке просто нравилось бродить среди незнакомых людей по огромной территории, проникать, представляя себя ковбоями в прерии, в потаённые, заросшие лопухами, уголки, то Оська Граневич, попав в очередной цех, мчался к фурсункам, транспортировочным лентам. Пытливо выведывал, что и для чего предназначено, за счет чего движется. И почему движется так, а не иначе. Ведь иначе, по его мнению, должно выйти лучше. Всё время порывался что-то попробовать сам. А уж если в этот момент чинили станок или поточную линию, оттащить Оську было невозможно. Вылезал чумазый и счастливый.
– Выучусь, к дяде Толечке работать пойду, – заявлял он, с наслаждением вдыхая запах аммиака.
С ним не спорили: куда же ещё податься победителю бесчисленных межшкольных химических и физических олимпиад.
Но больше всего маленьким шкодникам нравились демонстрации, особенно первомайские. Заранее готовили пульки, булавки, пристреливали рогатки, – всё, что нужно для праздника.
Первого мая, с семи утра, на площадь Московской заставы стягивались комбинатовские. Разбивались по цехам и производствам, разбирали транспаранты и портреты членов Политбюро. В ожидании команды строиться, отплясывали под баяны и гитары, – принаряженные, хмельные, с шарами, красными бантами.
Наконец, из Дворца культуры, где заранее накрывали столик, выходило комбинатовское руководство во главе с первым замдиректора.
– Готовы? – вопрошал, сверившись с часами, Земский. Озирался. – А где мой эскорт?
Обнаруживал троицу.
– Что ж, раз эти здесь…
Земский набирал в широкую грудь воздуха, зычно выкрикивал:
– Комбина-ат! В колонну станови-ись!.. Тр-ронулись!
По его слову, огромная масса людей сбивалась ближе друг к другу. И длиннющей, многоцветной и развесёлой змеёй ползла к центру города, пересекаясь и расходясь с другими такими же колоннами и группами, что реками и ручейками стекались к Советской площади, на которой была установлена трибуна. По мере приближения к площади нарастало усиленное динамиком мощное: «Да здравствует!»… – с ответным многоголосым: «Ур-р-а!» Возле самой площади ответственные в последний раз пробегали вдоль рядов, сверяясь, убеждаясь, подравнивая. Загоняли в центр ослабших в ногах.
Гендиректор Комков стоял на праздничной трибуне, среди областного и городского начальства. А во главе длиннющей колонны на площадь ступал Земский и рядом с ним – рука в руке – торжествующая троица.
– Да здравствуют советские химики!.. – неслось из динамика.
– У-р-ра! – в полном восторге, утопая в общем рокоте, надрывалась малолетняя шкода. В последний раз, впрочем, вопили в два голоса, – суворовца Клыша с ними уже не было.
Вечером, после демонстрации, в квартире Земских, как повелось, собралось «земство» – молодое руководство комбината, Земским выдвинутое и вкруг него сплотившееся. Собирались каждый год. Зачастую заскакивали наспех, стихийно – опрокинуть праздничную стопку, сгонять пулечку. В этот раз собрались всерьёз – с принаряженными, ревниво оглядывающими друг друга жёнами. Тем паче выдались и ещё два повода – проводы и назначение. Накануне Первомая приказом по министерству главного инженера комбината Олега Круничева перевели в Москву начальником Главка. А новым главным на его место назначили заведующего кордным производством Валентина Горошко – ещё одного выдвиженца Земского.
Это была проторенная дорожка – политика Комкова и Земского: недавних молодых, заматеревших, зарекомендовавших себя, проталкивали на повышение в министерство или на укрепление – директорами на новые строящиеся предприятия. Выгадывалось многое: на ключевых местах всё больше оказывалось комбинатовских выдвиженцев, на которых можно было опереться. Одновременно – освобождались должности для подрастающего молодняка, не давая тому застояться.
Хозяйка, как обычно, расстаралась. Из недр буфета был извлечён столовый сервиз «Мадонна». Дубовый, раздвинутый на полкомнаты стол, накрытый расписной скатертью, стоял, уставленный фаршированной рыбой, салатами «Оливье» и «Мимоза», селёдкой под шубой, тушёными баклажанами, десятком нарезок и солений… Само собой – бутылками «Столичной», «Кагора», наливками собственного приготовления. На шкафу пропитывался кремом торт наполеон. Всё это изобилие благоухало, било гостям в ноздри, кружило головы. Но за стол не садились. Ждали запаздывающего Круничева. После демонстрации вместе с Комковым он был приглашён в обком партии.
Оттого оголодавшие гости разговаривали несколько несвязно, сглатывая слюну.
Намекающе поглядывали на хозяина.
– Терпеть! – осаживал Земский. – Захлебнуться героически в собственной слюне, но – терпеть!
Среди гостей крутились неуёмные бесенята – Алька с Оськой.
Алька первым уловил шум за входной дверью и припустил в прихожую. Опережая звонок, распахнул дверь и – взвизгнул от радости: на пороге стоял Олег Круничев. Статный, белозубый, с отброшенным на сторону чубом, при виде Альки расплывшийся в улыбке.
– Какие люди! – прямо через порог он подхватил Альку, подбросил над головой, подержал на вытянутых руках.
– Что? Чмоки-чмоки? – Круничев со смехом поцеловал маленького тёзку. Неохотно выпустил. – Ох и вырос ты, сынку! Скоро не я, а ты меня подкидывать начнёшь!
Алька потянулся обхватить его заново, но на шум в прихожую уже высыпали гости. Круничева принялись обнимать, охлопывать и тут увидели, что на лестничную площадку, отдуваясь, поднялся ещё один гость, – сам директор комбината. Несмотря на теплую погоду, в массивном кожаном пальто. Оживление мгновенно спало.
– Что сдулись? – раздосадованно буркнул Комков. Вообще-то ему нравилось вызывать трепет в подчиненных, но сегодняшний, «праздничный» страх оказался неприятен. – Не пугайтесь, я ненадолго.
Он намекающе повёл плечами. Пальто проворно сняли. В прихожую спорым шагом вышёл Земский – с распахнутыми объятиями.
– Картина Репина «Не ждали»! Да заходи же, наконец, чудное мгновение!.. Тома! – он захлопал в ладоши. – Моё личное кресло дорогому гостю!
Вслед ему неуверенно завторили.
– Никаких кресел. Через сорок минут ждут в обкоме… Поговорить надо, – обратился Комков к Земскому.
– Как скажете, Вашбродь!
Приобняв сановного друга, хозяин увлёк его на кухню. Достал из пузатого застеклённого буфета блюдечко с дольками присыпанного сахаром лимона, початый «Мартель», плеснул в две рюмочки из «охотничьего набора». – С праздничком!
Оба выпили. Потянулись к блюдцу.
– Праздничек мне сегодня Круничев твой сотворил, – приступил к делу Комков, кривясь от кислятины. – В кабинете у Первого заговорил вдруг о необходимости реконструкции… С твоей, конечно, подачи?
– С моей, – не стал отпираться Земский.
Комков набычился.
– Решил через голову – не мытьём, так катаньем? Скажи, чего тебе неймётся?
– Да не мне, Аркаша! Комбинату!
– Комбинату-то что? Премии регулярно капают. Все знамёна держим!
– Пока держим. В Новопесковске, под Знаменкой один за другим новые заводы поднимают. Самые современные технологии внедряют. А мы на чём до сих пор работаем, не забыл? На репатриированном оборудовании, что в сорок пятом из Германии вывезли. На половине станков, если приглядеться, – свастика!
– Зато на другой – нет! – хохотнул Комков.
Земский хмыкнул, – оба знали, что свастики на другой части станков не было потому, что изготовили их ещё до прихода нацистов к власти.
– Спасибо, конечно, фрицам, что на совесть делали, – сказал Земский. – Но у всего есть срок!
– На наш век хватит! – рубанул, не регулируя голос, Комков. Гул в глубине квартиры притих. Земский с силой прихлопнул дверь.
– На наш, может, хватит, – согласился он. – А на их век? – он ткнул в стену. – А на этих? – ткнул в окно. – Чуть не четверть города, считай, от нашего комбината кормится. Отстанем, уйдем в тираж, – куда все денутся?
Комков потянулся к бутылке:
– Государство своё. Не оставит!
– А если оставит?! – не поверил Земский. – Мы, Аркадий, для всех для них и есть государство. И вперёд других думать должны.
– Полагаешь, так всё назрело?
– Перезрело. Десяток лет эту тему перетираем. Пора, наконец, стартовать. Для начала ликвидировать самые вредные производства. СУЗ закрыли. Сколько визгу было. А оказалось – ничего страшного. На очереди – корд и Медный аммиак. В перспективе – второе штапельное. Это – бельмо.
– Эва! В министерстве как раз думают о его реконструкции.
– Министерству просто надо выделенные деньги пристроить. Один хрен – куда. Вбухают и все равно закроют. Не они – мы им должны диктовать план реконструкции. Сам же любишь на совещаниях глаголить, что АРМОС для «Тополей» – золотое яичко. Под его выпуск приспособим Опытно-производственный цех. Ну и сопутствующее – атомные центрифуги, бронежилеты, прочее. Так что военные в обиде не будут – без булки с икрой не останутся.
Но главный упор – на социалку! Это прочно! Пока человек не залезет обратно на дерево, ему нужна будет одежда, прочие излишества. Поэтому основное – полиэфирные текстильные нити. Кордное производство – под выпуск полиэфирного волокна. Тольятти договор с нами спит и видит – лучшего материала на обивку «Жигулей» им не найти. Первое штапельное – под выпуск полисульфона. Медицина и электроника в очередь выстроятся.
– Потянем ли? – простонал Комков. – Это ж капитальный останов. Все показатели разом ухнут!
– Потянем! – горячо заверил Земский. – Не за год, понятно. Хотя бы за пятилетку. А показатели наверстаем, по Ленину! Помнишь, «Шаг вперёд, два шага назад»? Аркаша! Когда и начинать, как не сейчас? Схемы, расчёты – всё готово. Погляди, какую команду подобрали! Молодёжь на подбор! Огурец к огурцу! Копытами бьют, ждут команды. Задачу поставь – и полетят! А Олежку Круничева, лучшего на весь Союз главного инженера, думаешь, не жалко в министерство отдавать? Горошко-то, хоть и люблю, но против него не в пример слабее. А отдаю. Потому что там, на ключе, он для дела нужнее. Всё готово, Аркаша! Люди на номерах. Только ледокол нужен! – он потеребил друга за округлое плечо.
– Люди! Команда! Больно рассиропился, – перебил Комков с внезапным ожесточением. – Полюбуйся на свою команду! Поддакивают тебе, ластятся. А на деле – каждый за свой карман радеет!
Выудил из пиджака смятую докладную, швырнул на скатерть.
– Это список премированных по последнему экспортному контракту! Вглядись!
Земский разгладил докладную, нахмурился. Выгодный экспортный контракт – поставка штапельных волокон – организовал через Союзлегпром начальник отдела сбыта Фрайерман. В реализации его участвовали: отдел сбыта (спецдокументация), железнодорожный цех (спецвагоны), тарное хозяйство (спецупаковка). 90 процентов огромной – 100 тысяч рублей – премии, по указанию Земского, распределили меж отделочниками, грузчиками, сбытовиками. Оставшиеся 10 процентов – на руководство.
Докладная в Главк, поданная на подпись директору, была составлена с точностью до наоборот: 90 % – ИТР, 10 % – исполнителям.
– А ты с ними коммунизм строить собрался! – уязвил Комков.
По покатому лбу Земского заходили волны.
– Да! Завелась паршивая овца! – признал он. – И все равно – другого маршрута у нас нет! А люди!.. Какие мы с тобой, таких вкруг себя и вырастим.
Он сочно хлопнул себя по лысине. Потряс докладной:
– Эх! Нам бы ещё на Союзхимэкспорт человечка пропихнуть. Представляешь, какие контракты пойдут?
– И откуда в тебе что берётся? – Комков озадаченно повёл шеей. – По возрасту – ровесники. А глянешь на тебя по утрам – будто на планёрку прямо с пионерской линейки примаршировал.
Земский, уловивший раздражение, долил. Комков смутился.
– Подустал я что-то, Толик! Чем дальше, тем больше покоя хочется. Того, что только снится, – через силу признался он.
– Что ж удивительного? Мы, Аркаш, с тобой такие старые, что, кажется, единственные помним, зачем газету комкают!
Комков припомнил нарезанную бумагу на гвоздике у унитаза в пятидесятых. Гоготнул.
Добившись, что друг расслабился, Земский огладил его по индевелой гриве.
– А вообще, как устанешь, обопрись на меня, – шепнул он доверительно. – Никто и не заметит. Все ж привыкли, что бок о бок. А кто о чей бок сильней навалится, кто, кроме нас с тобой, разберёт.
Комков глянул на настенные часы. Засобирался:
– Пора… А то поехали вместе. Мне и то в обкоме пеняют, что без тебя приезжаю. Говорят, без Земского перцу не достаёт.
– Гурманы! Мало им сиропу, так ещё и перцу к нему подавай, – непонятно хмыкнул Земский. – Езжай один, Аркаш. Я уж здесь, с нашими.
Закрыв дверь за гостем, Земский прислушался. В гостиной пели. Начальник отдела капстроительства Семён Башлыков – тамада, охальник и душа компании – нажаривал под гитару похабную «Ему девки говорили». Мужчины гоготали, женщины сконфуженно хихикали.
Земский вошел.
– Кто подменил докладную?! – шёпотом, грозно вопросил он. Смех смолк, песня оборвалась.
Земский вгляделся в оробевших, переглядывающихся людей. Понял главное: все всё знали. И молча согласились! И если не выжечь жлобство калёным железом, завтра сердца обрастут коростой.
– Так кто?! – повторил он.
Башлыков отложил гитару. Сконфуженно почесал лысину:
– Я думал, это ошибка. Вас на месте не было посоветоваться. Позвонил на другие комбинаты. Консультировался. Все так делают.
Он собрался сострить. Но под тяжелым взглядом замдиректора сбился.
– Тебя, кажется, в Клин звали? – припомнил Земский. Башлыков спал с лица. – Вот и сто футов под килем! Завтра же подпишу! Остальных прошу запомнить: мы не все! Мы – «Химволокно»! Элита!
Альку с Оськой тётя Тамарочка увела в хозяйскую спальню – с шелковой шторой, косо заколотой могучей позолоченной булавкой. Пропитанную смешанным ароматом одеколона «Кремль» и духов «Красная Москва».
Усевшись на широченную, карельской берёзы, кровать с огромным, во всю стену персидским ковром – «Охота на тигра», они лопали бутерброды с чёрной икрой и осетриной, заботливо утянутые тётей Тамарочкой с общего стола, запивали лимонадом, разглядывали немецкий фотоаппарат с линзой «Карл Цейс», прислушивались к разговорам взрослых. Разговоры эти становились от минуты к минуте громче. Мужские голоса сделались резкими, трескучими, женский смех – игривей, заливистей.
Вновь звонок в дверь. Шум в прихожей. Алька разобрал голоса родителей. И следом высокий, умоляющий – Круничева:
– Марьяна Викторовна! Заждались! Спойте… Отказы не принимаются. На коленях слёзно прошу, в смысле – умоляю. От всего земства! Романс для отбывающего пилигрима!
Под аплодисменты зазвучала гитара, тёплый материнский голос запел: «Отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком». Пела, впрочем, недолго. Включили магнитофон. «Забарабанил» молодой Гнатюк. Защелкали каблуки, зацокали каблучки.
Оська, сморённый демонстрацией, объедаловкой, откровенно зевнул.
– Всё! Танцы-манцы-прижиманцы пошли! Больше ничего интересного не будет.
Заклевал носом и Алька. Переговариваясь, улеглись на кровать поверх клетчатого пледа. Заглянула тётя Тамарочка:
– Вот и славно, хлопчики, придумали. Тут на́долго «завязалось». Как бы не до утра. В детской уж отплясывают! Так что раздевайтесь-ка прямо здесь и – под одеяло.
Тётя Тамарочка, сама измотанная, потянулась. Дождалась, пока прекратится шебуршение. Погасила свет и вышла.
Алька заснул тотчас. Задремал и Оська. Но задремал некрепко, чутко. Так что, когда дверь со вздохом приоткрылась, глаза его распахнулись. В полоске света успел разглядеть, что в комнату скользнули два силуэта, мужской и женский.
– Никого! – выдохнул мужской голос.
У входа затеялась возня.
– Войдут же! – прошелестел испуганный, женский.
– Плевать! Я, может, тебя больше вовсе не увижу!.. – выдохнул мужской. – Скажи, как так сложилось через пень-колоду, что сына собственного сыном назвать не могу.
– Ты меня спрашиваешь?!
Мужчина простонал:
– Этот догадывается ли?
– Что ты?! Правда, зыркнет на него иной раз, будто прикидывает. Ведь, если кому придёт на ум приглядеться – вы с ним один к одному.
– Ну так, может, и пора…
– Никогда. Как думаешь, что за жизнь у мальчишки после этого настанет?! Нет уж!..
– Так брось его, наконец! Сколько на коленях перед тобой стоять? И свою, и мою жизни губишь. Если не сейчас, то когда? Хочешь, прямо сию минуту сам объявлю?!
– Не смей! – отчаянно прошептала женщина. – Сколько говорила! Он же всю нашу семью спас. Отца посадить собирались за растрату. Так он, следователь, собственные семейные драгоценности, от родителей сохранившиеся, заложил, чтоб недостачу покрыть. Вот только колье, что на мне, и осталось. Чуть просочись тогда, и сам бы в тюрьму загремел. Из любви ко мне всем рискнул. И бросить после этого!.. Я матери перед смертью слово дала.
– Выходит, продали тебя! Проворовались, а тобой расплатились.
– Как же ты не поймёшь! – сдавленно вскрикнула она. – Я и так перед ним за тебя виновата… Пошли, хватятся…
– Погоди! – умоляюще произнёс мужчина. – Не на пять минут расстаемся. Иди ко мне. Хоть в последний раз, но – иди!
Дыхание обоих стало прерывистым, учащенным.
Оська лежал ни жив – ни мёртв.
– Войдут же! – слабея, простонала женщина.
– Так мы дверь подопрём. Заперто и – заперто! Щас какой-нибудь стул нашарю.
Он задел спинку кровати. Алька зачмокал во сне, перевернулся.
Женщина вскрикнула в ужасе. Вновь полоска света, два выскользнувших силуэта, уже в коридоре шёпот: «Да не проснулся, я тебе говорю!»
Алька и впрямь не проснулся. А Оська лежал в темноте с открытыми глазами, потрясённый и потерянный. Он узнал женский голос. Это была тётя Марьяна.
Страшная, непосильная для пацанёнка тайна обрушилась на Оську и придавила его. Он не понимал, что делать с новым знанием. Рассказать Альке? Смолчать?
По пацаньим понятиям, надо было, конечно, сказать. Не сказать такое – вроде как предать. А если всё-таки смолчать? Вон ведь и сама тётя Марьяна не знает, что с этим делать. А и впрямь! Что будет с Алькой, когда узнает? При его-то горячке! Ведь это ж всё, с чем сжился, – считай, порушится. Как же ему после этого с отцом? То есть… А с матерью?
Оська крутился с боку на бок. На правом – выходило рассказать; перекатывался на левый – заново сомневался. В мучительных раздумьях проворочался он до утра. А едва забрезжило, услышал лопающийся звук. Повернулся. В первых сумерках разглядел Альку, раскинувшегося на спине. На лице блуждала безмятежная улыбка, а на приоткрытых губах расцвёл сочный пузырь.
Оська собрался и, прежде чем квартира начнет пробуждаться, не попрощавшись, выскользнул. Так ничего и не сказав. Ни в этот день, ни позже.
Глава 2. Баламуты
Алька Поплагуев рос фантазёром. Как-то во сне участвовал в велогонке Мира. Был грегори при знаменитом Сухорученкове. Всю ночь отчаянно сражался, толкался – сдерживал пелотон, давая время своему лидеру уйти в отрыв. И не отступился, пока самого не скинули на крутую обочину. Прибежавшая на шум тётя Тамарочка обнаружила любимца на полу. И что удивительно – всё тело было в подтёках и синяках.
В другом сне, прочитав за лето «Войну и мир» и «Наполеона» Тарле, он попал в штаб Кутузова при Бородино, на совет в Филях. С трепетом бродил среди знаменитых генералов, почему-то невидимый для других.
Кутузов грузно поднялся. Вскинул руку.
– Волей, данной мне Богом и императором, приказываю – отодвинуть пушки к метро! – отчеканил он.
Барклай-де-Толли, отчего-то в двубортном пиджачке, захихикал, ткнул локтем увешанного орденами Раевского:
– Я ж предупреждал: старикашка-то вовсе ку-ку. Меж двух веков переклинило.
Алька рос мечтателем. Как-то, будучи в гостях, в сумерках, в окне дома напротив, увидел силуэт молодой женщины. Тонкой и трепетной. Она как раз начала раздеваться ко сну. Взволнованный Алька впился в неё взглядом. Разглядел ниспадающие по покатым плечам волосы, стрелку на колготках. Вот она потянула через голову джемпер. Угадалась высокая, колышущаяся грудь с выступающими сосками. Пальчики скатывают в кольцо колготки, длиннющие ноги переступают через юбку, палец тянется к выключателю. В предвкушении сглотнул он слюну. Свет зажёгся. Посреди убогой кухонки, у рукомойника, стоял в одиночестве животастый залысый мужик – в семейных трусах.
Простодушие причудливо сочеталось в нём с предприимчивостью. По заключению врачей, мать Оськи нуждалась в морском воздухе. Прижимистый отец деньги на поездку в санаторий дать отказался. Оська рыдал, беспомощный. За воскресенье Алька разослал письма всем известным ему эстрадным исполнителям.
«Обращаюсь как коллега к коллеге. Прошу под моё поручительство выслать переводом 200 рублей на лечение. Или хотя бы 150. За деньги не переживайте. После вступления в Союз композиторов бесплатно напишу для вас хит. Ваш почитатель ученик 5 «А» класса…»
Репутация изворотливого хитреца как-то вышла ему боком. Земские вечером ждали в гости Поплагуевых, и тётя Тамарочка, занятая на кухне, поручила Альке отнести деньги театральной портнихе Матильде Изольдовне на платье из бархата. Алька вернулся под вечер, когда взрослые, уже обеспокоенные, сидели за столом. Всё-таки ушел малец с крупной суммой.
– Где тебя черти носили? – вопросил недовольный отец. – Мать себе места не находит.
– Ну вернулся и вернулся. Мало ли где задержался дитятко? – заступилась тётя Тамарочка. – Отнёс? – вскользь поинтересовалась она.
Алька замялся.
– Так отнёс?! – грозно уточнил прокурор.
– Что, Олежек?! – почуяла недоброе мать.
– Да я… Там возле церкви тётя была, нищенка. Милостыню просила. Старая совсем, всё рваное. Я подумал, что ей нужнее…
Тяжёлое молчание сбило Альку с толку.
– Ты что нам тут впариваешь?! – рыкнул Поплагуев-старший. – Куда потратил?
– Известно куда, – мёртвым голосом произнесла мать.
В последний год Алька через дядю Толечку пристрастился к джазу. Начал приглядываться к новым виниловым дискам. А тут – неслыханное дело – пообещали западную пластинку с записью Рэя Коннифа. Правда, по неимоверной цене. Вот уж месяц ходил он за родителями, выклянчивая деньги. Его аж трясло от нетерпения и страха, что желанный диск уйдёт. Стало очевидно, что пацан не удержался от соблазна. К тому же сумма совпала один к одному.
– Выходит, ты вор? Сын прокурора Поплагуева вырос вором?! – отец грозно навис над столом.
Его кинулись успокаивать.
Алька стоял ни жив ни мёртв. Перевёл ошарашенный взгляд на дядю Толечку. Но и тот, крякнув, отвёл взгляд.
– Да я б тебе и так купил, – буркнул он.
Это было последнее: слёзы хлынули из глаз.
– Да ну вас всех! – вскрикнул он и убежал, хлопнув дверью.
– Что-то мы с ним не так! – забеспокоилась мать.
– Всё правильно. Всё путём, – жёстко осадил муж. – Все мошенники сначала разыгрывают обиды. Бывает, даже припадки симулируют. А после каются. Это уж поверьте специалисту. Главное, не запустить болезнь. Пороть бы чаще, может, и не сполз бы на скользкую дорожку!
Он значительно посмотрел на Земских.
В дверь позвонили. Тётя Тамарочка, сама в слезах, побежала открыть.
Через минуту вернулась. Отодвинулась. На пороге стояла нечёсанная, неряшливая старуха – по виду профессиональная нищенка. Из тех, что после паперти переодеваются, садятся в такси и едут домой – отмываться.
Вытащила из покоцанного ридикюля пачку денег.
– Ваши, поди?… Увидел меня, заревел, всунул и – дёру. Едва из виду не упустила. Хорошо, во дворе подсказали. Такого обмануть – грех.
Она отслюнявила десятку:
– Свечку за здоровье поставлю. Чтоб счастье пацану было.
Остальные вложила в руку Тамаре и вышла.
Все сидели как оплёванные.
Вина, свежие закуски стояли не тронутые.
Незапертая входная дверь вновь открылась. Вбежал Оська Граневич в обнимку с керамической кошкой-копилкой. С ходу грохнул её об угол стола. Посыпались бумажки, покатились монеты.
– Вот! Здесь двадцать, – запыхавшись, объявил он.
Из кармана вытащил ешё несколько смятых купюр.
– А это у Данькиной мамы взяли. Больше у неё не было. Но мы уж договорились: в Мичуринском саду после школы собирать яблоки. По три рубля платят. Завтра Данька на каникулы приезжает. Втроём отработаем. Так что не думайте…
Он гордо оглядел взрослых.
– Да, так я ещё по морде не получал, – протянул совершенно багровый Земский.
В школе у Поплагуева установилась репутация бесшабашного сорванца, всегда готового к проказам и подначкам.
Когда Алька на занятиях во время объяснения новой темы тянул руку, учителя старались этого не замечать, боясь, что будет сорван урок.
На истории при обсуждении французского абсолютизма XVII века разговор, естественно, коснулся «Трёх мушкетёров» Дюма. Преподавал предмет сам директор школы Анатолий Арнольдович Эйзенман. Заметив, что Поплагуев под партой играет в карманные шахматы, он предложил Альке высказаться. Тот высказался: мушкетёры Дюма, если без прикрас, – сводники, которые предали своего короля, потакая адюльтеру похотливой королевы. К тому же – бабники и пьяницы. И вот уж полтора века они – любимые герои и предмет подражания всех мальчишек. Вопрос: так чему же мы подражаем? И что выходит важнее: так называемая мораль или личное обаяние? Поднялся оглушительный гвалт: каждый торопился высказаться. Хорошо, умный Анатолий Арнольдович овладел ситуацией и даже организовал общешкольный диспут – «Мушкетёры Дюма как объект для подражания». За что получил в РОНО очередной разнос.
Менее опытным учителям приходилось куда туже. На русском разбиралась тема – «Единственное и множественное число».
– Надеюсь, всем всё понятно? Тогда попросим к доске… – учительница потянулась к журналу.
Не выучивший урока Поплагуев вытянул руку:
– Мне непонятно. Нам на анатомии объясняли строение женского тела. Первичные признаки, вторичные признаки. Чего сколько (послышались хихиканья). Так вот почему лифчик – единственное число, а трусы – множественное? То ли анатомы напутали, то ли лингвисты нижнего белья никогда не видели.
Класс «обвалился», урок оказался сорван. Но даже попавшие впросак учителя на весёлого обалдуя не обижались.
Хотя бывали у Поплагуева шутки куда злее. В школе проводился конкурс бальных танцев. Председателем жюри был секретарь школьного комитета комсомола десятиклассник Павлюченок. На взгляд Поплагуева, упёртый карьерист.
На голову выше всех была пара из их пятого «А»: Павелецкая – Гутенко. Партнер – непревзойдённый танцор, два года занятий в танцкружке. Единственный в школе, отличавший падеграс от мазурки. Воздушная партнёрша. Выступление на бис. Однако, игнорируя протесты и свист, Павлюченок присудил победу собственным одноклассникам. Алька отомстил по-своему, – втиснул его фото в окно стенда «Их разыскивает милиция» возле колхозного рынка. Через два дня комсомольский секретарь был задержан милицейским нарядом. Разразился скандал. Вернувшийся от директора школы прокурор мрачно констатировал: «Мы породили ехидну».
С шестого класса Алька начал ходить в волейбольную секцию. Через несколько лет, вытянувшийся, возмужавший, превратился в лидера юношеской сборной ДСО «Буревестник».
Один из матчей играли в спортзале родной школы. Набились, само собой, все классы. В компании подруг пришла тайная Алькина любовь Наташка Павелецкая, сделавшаяся признанной королевой школы и двора.
В этот день Алька играл как никогда: взлетал над сеткой, вколачивая «гвозди», под девичьи охи стелился «рыбкой» по паркету за неберущимися мячами.
По окончании матча взмокший победитель набрался смелости. Подошёл к Наталье.
– Можно я тебя провожу? – обратился он к ней – прямо при подружках. Те насмешливо захихикали.
– Наконец-то! А я уж боялась, никогда не решишься! – Наташка протянула портфель.
С того дня они не расставались.
В девятом неугомонный затейник сколотил школьный джаз-ансамбль, в котором сам играл на саксе.
Но и тогда на вечерние репетиции его сопровождала Наталья. Закончившая музыкальную школу по классу фортепьяно, иногда она была за клавишника, иногда – за аранжировщика. Но больше – за музыкального критика – сурового и беспощадного. Наташка же придумала и название – ВИА «Благородные доны», – вся пацанва зачитывалась романом Стругацких «Трудно быть богом» и иначе как донами друг друга не называла.
Когда вместе эти двое шли по улице, редкий прохожий не отвлекался на броскую юную пару. Она – спортивная, длинноногая, с развевающимися на ветру золотистыми волосами, и он – рослый, складно скроенный, белозубый, с очерченным профилем, голубыми, чуть навыкате глазами, сохранившими с детства выражение лукавого любопытства.
С десятого класса они стали жить как муж и жена.
Неприступная дотоле Наташка, единожды сделав выбор, не скрывалась. На виду у всей школы бродили в обнимку. При всякой возможности торопились уединиться.
В последний, выпускной год подобные романы завязались и у других.
Но лишь Павелецкую и Поплагуева окружающие воспринимали как фактических супругов, которые не расписались только потому, что не позволяет возраст.
Даже учителя закрывали глаза на чрезмерные проявления нежности.
Всеобщая снисходительность объяснялась прежде всего натурой Альки – проказливой, взрывной, но открытой, доброжелательной. «Беззаботен, как хвост Артемона», – сказал о нём когда-то Данька Клыш. Таким он остался и в семнадцать.
Жил по ирландской поговорке: «Незнакомец – это друг, с которым ещё не успел познакомиться». Потому друзьями обзаводился легко. Переполненный фантазиями, планами, он не ходил, не бежал. Он летал. То есть и ходил, и бежал. Но всегда на лету.
Никому в голову не приходило попытаться отбить Наталью у Поплагуева. Мог бы разве что попробовать Валеринька Гутенко. Вальдемар. Одноклассник и бас-гитарист из школьного оркестра, влюблённый в Наташку с детства. Писаный красавчик. Волосы в мелкую кудряшку, тоненькие, будто пристроченные к губе усики. Талия в рюмочку. Ни дать ни взять – гусар. Но гусар опереточный. Рядом с рослой Наташкой выглядел мелковатым и суетливым. Осознавая несбыточность надежд, отступился и он.
Но на танцах в Хламе Наташка Павелецкая случайно попалась на глаза тому самому Петьке Загоруйко, что когда-то оскоблил дворовую беседку. Прежний вертлявый шпанёнок раздался ввысь и вширь, сделался крупным, громогласным матерщинником. Из школы ушел, высидев положенные восемь классов. Но фамилия его – а больше кличка – Кальмар – оставались на слуху. Он верховодил разросшейся кребзовской «кодлой», наводившей, как прежде шёлковские, страх на округу.
Павелецкая как раз выскакивала из танцзала, когда с улицы к двери развалистой походкой подошел Загоруйко, так что разогнавшаяся Наташка сама влетела в него, как муха в паутинку.
– Ёш твою! – восхитился Загоруйко при виде расцветшей красавицы. Облапил. И с тех пор принялся ухаживать так, как понимал это слово. Встречал у школы, у дома, подкарауливал на танцах, отваживая прочих ухажёров. А поскольку ухажер у школьной королевы был один, столкновение между ним и Поплагуевым становилось неизбежным.
За месяц до того, играя в баскетбол, Поплагуев упал, а сверху на кисть всей тяжестью обрушился слонопотам Велькин. Загипсованная рука с тех пор висела на бинте, перекинутом через шею.
Об этом донесли Кальмару. Как ни кичлив и задирист был Загоруйко, но драться с крепким спортсменом всё-таки остерегался. Стрёмно! Другое дело – «однорукий». Кальмар немедленно передал через пацанов «предъяву». Вслед за тем явился к школе, подгадав под последний звонок. Дождался, когда в окружении одноклассников появятся Наташка с Алькой. И прилюдно объявил, что отныне Наташка будет «гулять с ним». И если Поплагуй не отступится, то и папаша-прокурор не поможет.
Намек на то, что он будто бы прячется за спину отца, возымел действие: Алька остервенел.
Драка не началась тут же лишь потому, что на крыльцо вышли учителя.
– Вечером у беседки состыкнёмся, – сквозь зубы пригрозил Кальмар. – Не соссышь прийти?
– Ишь разгеройствовался! Ты б дождался, пока у него рука заживёт! – гневно вмешалась Наталья.
Кальмар ухмыльнулся обидно:
– Уже и сдрейфил, папенькин сынок! Теперь за девку прячешься?
– Приду, – коротко пообещал Алька.
– Ну-ну. Береги руку, Сеня, – Кальмар ловко сцыкнул харкотину точнехонько на Алькин клёш и, отвесив насмешливый поклон завучу, расхристанной походкой удалился. Одноклассники, дотоле отмалчивавшиеся, обступили Альку, принялись сочувственно похлопывать, подбадривать. Подбадривали стыдливо, словно обречённого на казнь.
Никто не сомневался, что Кальмар приведет свою «кодлу», и Алька будет жестоко избит.
– Чего вы его, как покойника, отпеваете! – разозлилась Наташка. – Приходите тоже. Или только на словах друзья, а чуть что – я не я и мама не моя?
Женская насмешка подействовала. Все пообещали подтянуться.
…В районе четырёх Алька Поплагуев в очередной раз глянул на часы и, неловко орудуя одной рукой, отрезал зажеванный кусок на магнитофонной плёнке с концертом «Black Sabbath», мазнул лаком, протёр одеколоном головку звукоснимателя и отодвинул развинченный магнитофон – времени собрать уже не оставалось. Дремавшая рядом Наталья чутко встрепенулась, тревожно скосилась на будильник.
Они были вдвоём в квартире Земских. Дядя Толечка укатил в командировку, тётя Тамарочка тактично ушла «сделать прошвырнон по магазинам».
– Пора, красавица, проснись, – провозгласил Алька. – Пришло время собирать любимого на битву… И вечный бой. Покой нам только снится!
Фальшивая бодрость его Наташку не обманула.
– Ты никуда не пойдешь! – объявила она. – Слышишь? Они тебя просто изметелят.
– Это уж как картея ляжет. Может, еще и наша возьмет.
– Чья ваша? – Наташка села на колени. Простынка, которой она стыдливо прикрывалась, соскользнула.
– Никто не придет, не надейся! – выкрикнула она в сердцах. – Потрепались возле школы и разбежались. Завтра у каждого найдется оправдание. Куда ты против толпы, да ещё загипсованный? Сам же знаешь, что они с тобой сделают.
Алька приуныл. Конечно, Наташка права, – кроме Оськи, никто не придет.
Всё это Алька понимал. Как и то, что не пойти не может. Как раз из-за само́й Наташки, что умоляла его остаться, отсидеться. Отсидеться хотелось. Но если уступит, та же Наташка не простит ему слабодушия. Стало быть, между стыдом и болью предстояло выбрать боль. А значит, и выбора нет.
Так уже случилось у него с отцом. Всякий раз, когда отец тащил сына на выволочку, Алька причитал, извивался, вымаливал слёзно прощение. Но после истории с Земскими, как только отец вновь схватился за ремень, Алька, против обыкновения, не заплакал. Лёг на живот, вцепился зубами в подушку и только вздрагивал от ударов да постанывал. Растерявшийся прокурор отложил ремень. И больше за него не брался.
Алька обхватил неутешную Наташку за плечи.
– Ничего, Туська, прорвёмся. За святое дело можно и по образине схлопотать.
– Ладно б по образине, – всхлипнула Наталья. – Хорошо, если вовсе инвалидом не останешься.
В Алькиных глазах заплясали бесенята.
– А тоже ништяк. Дядя Толечка из загранки подгонит самую супер-люпер инвалидную коляску. Будешь вывозить меня в Мичуринский сад на променад, беседовать о вечном. На другое-то стану не способен.
Получив щелбан по лбу, вскочил.
– Ну а пока ещё глотка глотает, пока ещё зубы скрипят!..
Он выудил из бара заначенную Земским бутылку «Мартеля», скрутил головку, щедро плеснул в бокал из дефицитного «охотничьего набора». Приподнял:
– Это не пьянства ради. Это обезболивающее!
В два глотка осушил и разудало долбанул «золочёного оленя» о паркет.
…Поезд приходил по времени очень неудачно: после обеда, когда мать на работе. Ключа же от нового замка у Даньки не было.
Впрочем, этим он не парился. С вокзала торопился совсем по другому адресу.
Меж Шёлком и Искожем втиснулся узкий трёхэтажный дом, угол которого упирался в трамвайную линию.
В доме этом над комиссионкой «Золушка» жила Любочка Повалий. Фигуристая, как песочная колбочка, на пять лет старше Даньки.
По окончании школы Любочка провалилась в музучилище, и уже несколько лет работала секретарём директора школы.
Ладного суворовца-старшеклассника она приметила в прошлом году. Глянула сверху, из окна: «Эй, мальчишечка! Поднимись. Поможешь рояль передвинуть». Так всё лето и двигали.
Любочка стала у Даньки первой.
– Любишь ли? – бормотал он, счастливо опустошённый.
– А то! – стонала Любочка. Если ей казалось, что выходит легковесно, поджимала губки: – Иначе бы разве дала?
Умиленный Данька затихал.
Они переписывались. Любочка писала раз в неделю. Сообщала о школьных и дворовых новостях с неизменным в конце: «Жду с нетерпением. Обоих».
Может, из-за этой концовки, на Данькин вкус, пошловатой, восторженность потихоньку выветрилась. Остались лишь благодарность за первый опыт и жадное влечение.
В последнем письме Любочка сообщила, что в счёт отгулов едет на две недели в Сочи. Но, по прикидкам, к концу мая должна вернуться.
Удача сопутствует страждущим. Любочка и впрямь вернулась накануне, – по полу валялись вывернутые из чемодана сарафаны и трусики. Дома она оказалась одна, – родители работали в вечернюю смену.
– Ой, а я постирушку затеяла! – блестя белками на шоколадном лице, отчего-то растерялась Любочка. Спохватившись, сделала строгое лицо. – Вот что, Даниил. Раз уж всё совпало, нам надо объясниться.
Не отвечая, Данька без затей содрал с узких её плеч халатик и требовательно впился губами в смуглую шею.
– Да нет, я о другом… Дай же скажу. Ну что за мальчишество, – попыталась освободиться Любочка. Но уже сама затрепетала. – Впрочем, это терпит, – слабея, простонала она.
После Данька отошел к окну.
– Как отдохнула? – не оборачиваясь, произнес он.
– Ой, масса впечатлений! – разморенная Любочка лежала, раскинувшись поверх кумачового покрывала, широченного, как знамя Суворовского училища. Молочные грудки с ядрышками посередине белели, будто зефиринки на шоколаде. – По тебе очень скучала. А ты? Надеюсь, не изменял мне?… Я тоже осталась тебе верна, – на одном дыхании выпалила она и – тут же, без перехода, вернулась к тому, что занимало ее с самого начала. – Данечка, мне вот-вот двадцать три. И мне замуж пора.
Данька забеспокоился.
Впервые отдавшись задыхающемуся от восторга и приступа желания мальчишке, Любочка, войдя в роль опытной искусительницы, успокоила его, что никаких брачных поползновений иметь не будет.
Но то было в прошлом году, в постели, – то есть в горизонтали. А женщина в вертикали, да еще в летах, – это уже, как известно, совсем иная мораль. Дневная. И, стало быть, непредсказуемая.
– Нет, нет, Данечка, не пугайся. Я к тебе претензий не имею.
Всё-таки женщины чуткие создания. И иногда – чуткие кстати.
– Да ты мне, согласись, и не пара. Какой из тебя супруг? – продолжала тараторить Любочка. – Восемнадцать лет на носу, а одна и слава, что стойку на крыше дома делаешь да с пяти метров под баржи подныриваешь.
– Я еще ушами учусь шевелить, – напомнил Данька.
– Я, Данюша, на отдыхе человека встретила, – Любочка потупилась. – Москвича. Взрослого. Тридцать два года. Кандидат наук. Папа у него кем-то в профсоюзах командует. Я, Данька, наверное, ужасная стерва. Но я замуж хочу.
– И московскую прописку.
– И московскую про… Да нет, это тут ни при чем. Просто это страсть. Внезапная, как буря. Она нас разом смяла.
– Ничего не понял. Так все-таки: не изменяла или – буря? – Клышу отчего-то завеселело.
Любочка сбилась. И, как всегда, когда, увлекшись, завиралась, начала сердиться.
– Господи! Как ты можешь, Даниил? Я тебе о святом, а ты пошлишь. Это на тебя дружки влияют. По-твоему, если страсть, так сразу и в постель?!
– Можно и не в постель, – Данька припомнил знаменитый «перильный» способ, изобретенный затейницей Любочкой. Они забирались на верхний, чердачный этаж, он сгибал её на перилах. Свесившись лицом в пролет, она кричала от ужаса и – кончала в голос.
Похоже, это же припомнила и Любочка. Глаза ее затянулись поволокой.
– Фу на тебя! У нас с ним платоническая страсть! Данюша, сколько можно в старых девах. Я замуж хочу. Пойми же. И – отпусти.
– Отпускаю, – Данька принялся одеваться.
– Правда?! Вот и славно. А то я уж согласие дала, – затараторила Любочка. – На днях едем в Москву представляться его родным. Поверь, Данечка, он прекрасный парень.
– Наверняка. Ты ж на что попало не западёшь.
Даньке хотелось одного: чтоб объяснение с лукавой любовницей поскорей закончилось. Но сказать об этом было неловко, и потому он прикрыл глаза, как бы скрывая смертную муку.
– Ну не надо так страдать, мальчик мой, – Любочка, довольная, что обошлось без скандала, прижалась. – Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я сама так страдаю, так страдаю! И мне тоже будет тебя не хватать. Но, согласись, вечно это продолжаться не может. Еще год-два. А дальше? Мне в этом городе и замуж никогда не выйти. Здесь же кругом грязь, сплетни… А потом: ничего ж не изменится. Ты к нам в гости приезжать будешь!
– Это уж всенепременно, – от неожиданного разворота Данька, уже одетый, поперхнулся. Вновь выглянул в окно, за которым клубился лёгкий туман. Внизу, на пустыре перед Березиной, накапливалась кребзовская шпана. Среди прочих он заметил размахивающего окрепшими ручищами Кальмара.
– Эва! Никак всё в войнушки не наиграются? Не знаешь, что там затевается?
Любочка глянула из-за плеча.
– Ах это, – она хихикнула. – Это они в Шёлк собрались. Вырыли топор войны. С твоих дружков-комманчей скальпы снимать будут.
На подоконнике лежал раскрытый томик Фенимора Купера. После школы Любочка решила восполнить пробелы в образовании и взялась за серьезную литературу.
– Кальмар на Павелецкую глаз положил, а Поплагуев не отступается, – объяснила она. – Вот идут мозги вправлять.
Она непонимающе обернулась на хлопнувшую дверь.
– Скажи-ка! – удивилась Наташка. Она стояла у выходившего во двор окна. Алька, уже в тренировочном костюме и кроссовках, вернулся, приплясывая.
У беседки, возле теннисного стола, само собой, поджидал Оська Граневич. Но был он не один. Рядом тревожно постреливал глазами Валеринька Гутенко. Здесь же, оглаживая спадающие по плечам волосы, переминался с ноги на ногу Боря Першуткин.
Трое из десятка обещавших поддержку накануне.
– Видишь, пришли, – упрекнул Алька подругу. – Не густо, конечно. Но всё-таки.
– Вижу, – буркнула Наташка. В крепость подмоги она, похоже, не верила. Как и сам Алька.
Гутенко, бас-гитарист из их ансамбля, был, по убеждению Альки, враль и хвастун, каких мало. Можно ли опереться на него в серьёзной драке, Алька сильно сомневался.
Особенно удивительно было присутствие Першуткина. В классе Боря Першуткин был «вещью в себе». С длинными и холёными, по плечи, волосами, с тягучей, распевной речью.
Чуть ли не единственный в классе искренне любил поэзию. В магазинах, в разгорячённых очередях за мостолыжкой или ливером, читал Бодлера и Веневитинова – напрашиваясь по морде. Обычные мальчишеские заманухи: спорт, машины, оружие, – его не привлекали. Потому друзей среди ребят не имел. Было в нем что-то избыточно слащавое, в пацаньей среде не принятое.
А вот среди девчонок утончённость и деликатность Бориса ценились. Его охотно приглашали в девичьи компании. Как лучшей подружке поверяли секреты.
Но главная фишка, что снискала Першуткину расположение девочек, – репутация тонкого знатока моды.
Мир моды, к которому пристрастила сына мать – театральная портниха, стал его страстью.
После уроков Борис торопился домой пофантазировать над выкройками в свежем номере журнала «Колхозница». Если же матери удавалось достать «Бурду», зависал над нею сутками. Вникал в тонкости, другим недоступные. Легко, к примеру, разбирался в деталях диковинного пэчворка – мозаичной техники лоскутного шитья.
Но ждать от робкого книгочея серьёзной подмоги в драке точно не приходилось.
А вот Велькина, на которого очень рассчитывал, не было.
Правда, от беседки доносились гитарные переборы. Значит, был кто-то ещё.
Алька силился разглядеть гитариста. Безуспешно. К тому же мешал сгущающийся туман. Но тут Оська заметил силуэт в окне и с хитрой улыбкой шагнул в сторону.
Гитарист сидел на теннисном столе, забросив ногу на ногу и склонившись ухом к грифу. Недовольный сфальшивившим аккордом, он рассерженно пристукнул струны и очень знакомо прикусил нижнюю губу. И по этому движению Алька узнал его.
– Ё-жи-ик! – завопил он.
– Лоша-адка! – ответили из тумана – на два голоса.
В полном восторге схватил Алька саксофон. Вспомнив, что играть не может, отшвырнул его на софу. Вскинул к губам запылившийся горн, проиграл построение на линейку.
– Ты что вдруг?! – удивилась Наташка.
– Клыш! Это же Клыш! Понимаешь ты?!
Он коротко, победно чмокнул Наталью в носик и метнулся из квартиры.
– Клы-ыш! – еще от подъезда возопил Алька. В возгласе его слились удовольствие при виде дружка детства и радость от того, что встреча эта случилась в самую нужную минуту.
Клыш соскочил со стола. Данька не сильно вымахал за эти годы, – так и не дотянул до метр восемьдесят. Но по той ловкости, с какой спружинил он при прыжке, угадывалось, что к природной резкости прибавилась натренированная взрывная сила. Во взгляде его, всегда прямом, пытливом, с монголинкой, появилась незнакомая дерзкая насмешливость, с какой, похоже, он привык начинать знакомство. Этот новый для Альки человек словно говорил всякому, с кем сводила его судьба: «Ну-с, поглядим, стоишь ли ты моего внимания?»
На языке Альки вертелся вопрос, который чуткий Клыш угадал тотчас.
– Знаю, – упредил он.
И без предисловий добавил, как само собой разумеющееся:
– Будем драться.
У Альки отлегло. Он протянул для рукопожатия левую руку. Но Клыш подхватил правую, в гипсе. Помял пальцы.
Алька поморщился:
– А ничего. На крайняк, гипсом сверху наварю, мало не покажется.
– Если б по-честному, – осторожно вступил Гутенко. – А то Кальмар, он наверняка целую кодлу притащит. А наши, как назло, запропали, когда каждый штык на учёте.
Он искательно глянул на Альку:
– Сбегал бы позвонил Велькину. Такой лось в махаловке очень пригодился бы. Может, проспал слонопотам как обычно?
Алька неохотно кивнул. Душа не лежала выклянчивать помощь. Да и в успешность новой просьбы не слишком верилось. Решение не встревать в чужую драку уже явно было принято, и не самим Велькиным, а их одноклассницей Валентиной Пацаул.
Это был удивительный союз. Футбол с детства был главной радостью долговязого дылды. В учёбе же, как ни силился, едва переходил из класса в класс. И вовсе бы не переходил, если б не настырная соседка по коммуналке и отрядная звеньевая Валя Пацаул. Приземистая, сбитая Валентина бесстрашно прогоняла здоровяка с футбольной площадки и усаживала за ненавистные учебники. Так и дотянула его до десятого класса. И хоть к семнадцати годам Велькин был принят в дубль городской футбольной команды, строгую Валентину привычно побаивался. Была Пацаул из неказистых, но умеющих держать мужиков в цепких ручках девиц. Кажется, и в койку они угодили по инициативе бойкой звеньевой. Во всяком случае, решения за этих двоих принимались ею.
Всё это Алька понимал. Но и отказать не мог, – он в этой истории права голоса не имел. Люди всё-таки пришли на выручку. Рискуя собственными шкурами. Поплагуев неохотно потрусил назад, к телефону.
Данька задумчиво смотрел ему вслед, прикидывая, как не допустить дружка до драки. Даже если получится, чтоб дрались один на один, даже если одолеет раскормленного бугая, но поломанную руку искалечит в любом случае.
Перед этим прошёл сильный дождь. Двор опустел. От набухающих кустов акации тянуло свежестью и первым, слабым ещё ароматом. По канавам разбегались мутные ручейки. Возле них возилась малышня в калошах и резиновых сапожках. Готовились к своему потешному морскому бою. Из сосновой коры стругали суда. Из тряпиц и линованных школьных листов мастерили паруса. Прилаживали спички-пушчонки.
– Совсем как мы, – растроганный Оська подтолкнул Гутенко. Но тому было не до пацанья. Неотрывно глядел он на сараи, из-за которых в любую минуту могла показаться грозная кребзовская кодла. Он уже жалел, что поддался на Наташкины уговоры и дал слабину.
– А может, ну их в баню, – преодолев стеснение, протянул Вальдемар. – Что мы, пацаны? Школу закончили. О высшем образовании мысли. Через год-другой и вовсе, глядишь, всех разметает по жизни. Что нам тогда дебил-недоумок, которому путь на зону?..
Перехватил недоумённый взгляд Граневича, разозлился:
– Чего зыркаешь? Остальные-то, хитрованы, вовсе попрятались. Вон Велькин какой шкаф, а тоже Пацаулиха его не пустила. И правильно рассудила – ему ноги для футбола нужны. Я, между прочим, музшколу по классу баяна закончил. Может, в музучилище поступлю. А может, и нет, если пальцы переломают!
Валеринька вопрошающе оглядел остальных. И как-то сами собой взгляды сошлись на Клыше, который, вернувшись к гитаре, невозмутимо наигрывал «Прощание славянки».
– Уйти нельзя, – стеснительно возразил Першуткин. – Уйти стыдно.
– Ты-то еще! – Валеринька возмутился. – Тоже ратоборец выискался. Пересвет с Челубеем. Как драться-то собираешься? Царапаться, небось?
– Не знаю, я не умею, – честно признал Першуткин. – Как-нибудь.
– То-то что как-нибудь! Аникино воинство! Уйти и – все дела! – Гутенко долбанул кулаком по теннисному столу. – На сколько было назначено? На пять? А уже шестой. И где они? Нетути! Стало быть, сами струсили. Не явились на поле Куликово. Всё! Время! Абгемахт.
Он с торжеством развернул ладонь в сторону Березины и просевшим голосом закончил:
– Идут.
Из-за сараев показалась группа человек пятнадцать.
– Прости-прощай, музучилище! – Валеринька выдохнул с каким-то даже облегчением. Когда выбора не оставалось, он храбрел. Потянулся к палке, подобранной по дороге. Но глянул в другую сторону и безвольно выронил её. – Доигрались.
Слабая решимость к отпору, которую Гутенко в себе подогревал, разом иссякла, потому что с другой стороны, из арки, выскочил не кто иной, как Боб Меншутин.
О Кибальчише в Шёлке помнили и рассказывали с придыханием. В отличие от своего приятеля Лапы, дважды уже отсидевшего, Меншутина от колонии спасла мать, мольбами которой его забрили в армию.
Но, вернувшись на гражданку, он воссоединился с освободившимся дружком и был принят в окружавший Лапу ближний круг.
Едва не каждый вечер просиживали они в узкой компании на Советской, в пивном баре «Корочка» или в ресторане «Селигер», и редкий вечер не заканчивался хорошим мордобоем, а то и гоп-стопом, до которого оставался охоч заматеревший Лапа. В этой отборной компании Меншутин единственный оставался несудимым. Впрочем, все были уверены, что это недоразумение будет вскоре ликвидировано, как неизбежна потеря затянувшейся невинности у разбитной девахи.
Именно приятельство с Кибальчишем, у которого он числился кем-то вроде адъютанта, придавало особый вес Кальмару.
Впрочем, наблюдательный Данька подметил, что появление Кибальчиша стало неожиданностью и для самого Кальмара, – больно неестественно расплылась его физиономия, промасленная, будто блин со сковородки. Больно глубоко, издалека, кивнул. Заметил и другое: встречи не ждал и Меншутин. Похоже, он сам поначалу намеревался проскочить двор: мимо трансформаторной будки – к сараям и – через забор – сигануть на Малую Самару. Но, должно быть, любопытство пересилило. Он подошёл к чугунной колонке, энергично подкачал рычаг и жадно принялся ловить ртом хлещущую из узкого соска струю. Напившись, поозирался и – закосолапил к беседке.
Кребзовцы меж тем обступили сгрудившуюся подле теннисного стола группку. Приосанившийся Загоруйко по-хозяйски огляделся:
– А где этот прокурорский выкормыш? Сдрейфил, конечно. Шантрапу вместо себя подослал?.. Ты! – он ухватил за волосы ближайшего – Гутенко, – тряхнул. – Пять минут, чтоб найти. Иначе вас самих отметелим, как тузиков. Пулей, я сказал!
– Уж больно ты грозен, сосал бы ты… – донеслась из-за спин насмешливая нецензурщина, за которую на зоне – Загоруйко знал – убивали.
– Чего-чего?! – не поверил он.
Сделал разгребающее движение. Впрочем, перед ним и так расступились. На теннисном столе с гитарой в руках сидел смутно знакомый крепышок и насмешливо разглядывал массивного Кальмара.
Аккуратно отложил гитару, огладил короткий ёжик.
– Вот и верь молве! – подивился он. – Наговорили хренову тучу:
– Гроза округи! Кальмар! Боец-удалец! А на поверку, гляжу – жирный боров.
Загоруйко несколько опешил. Странный гитарист, окруженный враждебной толпой, не только не трусил, но, кажется, откровенно вызывал его, районного атамана, на драку. Что-то в этом было не так. Хорошо бы для надёжности сперва разобраться, откуда возник залётный орёлик. Но роковое слово уже было произнесено. Кто-то из своих подхихикнул. Выжидательно прищурился Меншутин. И спустить публичное оскорбление стало невозможно.
– Шмась сотворю, паскуда! – стращая, выкрикнул Загоруйко. Нависнув сверху, потянулся к горлу. Неосторожно потянулся: полностью открыв подбородок. Даже не имея точки опоры, с ногами, не касающимися земли, Клыш, отклонившись, провёл короткий боковой, от которого Кальмара швырнуло лицом о стол.
Сам же Клыш, продолжая движение, перекатился через спину и спрыгнул на землю. Разминаясь, попружинил на ногах.
Вскочил и Кальмар. Утёр потекшую юшку, заозирался. Отовсюду видел выжидающие лица своих, кребзовских, ждавших команды к нападению. Они уже оттеснили перепуганных Гутенко и Першуткина за беседку. Подле Клыша оставался единственный – ощерившийся Оська, с обломком штакетника.
Да ещё от подъезда мчался замешкавшийся Алька. Разметал с разгону попавшихся на пути, пробился к своим. Так что вся троица оказалась в кольце.
– А ну, ребя, замочим! – прорычал Загоруйко. Пересекся взглядом с Меншутиным. – Боб, видал фрайера галимого?
– Видал! – подтвердил Меншутин. – Так замочи!
Он уже признал в гитаристе того самого пацанёнка, что когда-то рыдал рядом с ним в песочнице.
Жестом остановил массовую драку:
– Остальным – никшните! Пусть сами разберутся.
– Так ведь один на один пришибу, как бы не на смерть, – неуверенно хохотнул Загоруйко. – Удар-то под сто килограмм. Из-за каждого салабона после сидеть!
– Всё так серьезно? – Клыш жёстко усмехнулся. Придержал рвущегося в драку Альку: – Извини, Ёжик! Но придётся тебе в очередь становиться! Пока ты ходил, он на меня кинулся. Все равно что на дуэль вызвал. Так что за мной право первой ночи!
Алька, хоть и разгадал хитрость, посторонился. Для виду – неохотно. На самом деле, благодарный другу за деликатность, – сломанная рука всерьёз ныла.
Клыш предвкушающе потёр руки. В груди его, как всегда при опасности, сладко заныло.
– Стало быть, благородный дон, предлагаете насмерть? – изысканно обратился он к Загоруйко. – Достойное, очень мужское предложение… Дуэль!!! – только что не пропел Клыш, будто трубадур перед турниром.
– Ч-чего? – Загоруйко смешался.
– По-честному, говорю, предлагаешь. Чего впрямь других в стрёму втягивать? То ли дело насмерть, и чтоб никого не подставить.
Он ткнул в пожарную лестницу, проступающую сквозь туман.
– Лезем на крышу! Один на один, без свидетелей. Жесть мокрая. Скаты крутые. Побеждённый падает и – хрюслом об асфальт. С концами. Винить некого. Как у Печорина с Грушницким.
Глаза его блестели бешеным весельем.
От слова «с концами» Загоруйко перетряхнуло. Кто такой Грушницкий, припоминалось смутно. Зато живо представил себя, летящего кулём с верхотуры и смачно шмякающегося о щербатый асфальт. Даже расслышал хруст головы! Собственной. Единственной.
А ещё, как вспышка, припомнил самого задиру. Клыш, точно! В двенадцать лет, единственный среди пацанов, с пятиметрового пирса подныривал под плывущую самоходную баржу. И кличку вспомнил – Безбашенный.
– Ты у меня здесь обделаешься, дуэлянт хренов! – закричал он надрывно и внезапно ударил.
Но Клыш, разгадавший эту двуличную натуру, успел уклониться и тут же провел смачную двойку, сбив противника на землю.
Кальмар, озадаченный увесистыми попаданиями, попытался подняться. Клыш ему этого не позволил: ловко подловил ударом в челюсть снизу.
Выжидающе затанцевал рядом, жестом предлагая попробовать ещё.
Растерявшийся Загоруйко, ёрзая на заду, отползал, перебирая руками траву. К своей удаче, нащупал чугунную крышку, кинутую возле открытого канализационного люка. Перекатившись, ухватил в лапищи. Размахивая, как щитом, вскочил. Пару раз махнул сверху вниз, норовя обрушить на голову противнику. И вдруг на выдохе, с сапом швырнул, целя в грудь. Клыш едва успел увернуться.
Внезапный двойной вскрик отвлёк Даньку. Один из кребзовских, провоцируя, подпёр Поплагуева вплотную. Тот наотмашь, не примеряясь, хлестнул гипсом. И оба закричали. Кребзовец, схватившись за окровавленный нос, Алька – за травмированную руку.
В ту же секунду Кальмар прыгнул на зазевавшегося Клыша. Навалившись всей массой, опрокинул на спину. Ухватив в лапищу жменю земли, хлестнул по глазам, уселся сверху, поёрзал, изготавливаясь к долгой победной молотьбе.
Но больно ловкий достался ему супротивник. Хоть и подослепший, угрем вывернулся из-под навалившейся туши, отбежал, протирая на ходу глаза, сбросил разорванный при падении джемпер, под которым обнажилось жилистое, будто из жгутов тело. Проморгался.
С этой минуты осатаневший Клыш больше не играл. Избивал, не жалеючи.
Кальмар попробовал ещё раз подмять его под себя. Бесполезно! Скорость быстро возобладала над неповоротливой силой. Загоруйко ещё замахивался, с сапом, с оттягом, а Клыш уж подкрадывался поудобней и, опережая, на скачке, бил. Отскакивал и – вновь бил. Уже под другим углом.
– Нож! – Оська увидел, как Кальмару протягивают открытое лезвие и в то же мгновение полоснул по протянутой руке штакетиной. Нож выпал. Граневич принялся неистово размахивать доской.
– Поубиваю! – заорал он, и в самом деле попытался ткнуть остриём в горло ближайшему. Алька успел первым поднять нож. Ухватив за лезвие, отвёл руку, будто выискивая, в кого метнуть. Круг тотчас разорвался. От припадочных шарахнулись.
Меж тем драка перешла в избиение. Широкое плоское лицо Загоруйко превратилось в кровавое месиво. Ему сделалось больно, а ещё больше – страшно – при виде злого веселья, овладевшего противником. После очередного падения Загоруйко уже не попытался встать, а поднял голову, взглядом моля о пощаде. Будь на месте Клыша благородный Поплагуев, наверняка бы простил – протянул руку, поднял, отряхнул. Но Клыш успел узнать в училище эту коварную породу, признающую лишь силу и страх. Потому насмешливо показал на открытый канализационный люк. Для убедительности смачно врезал ногой по печени. От оглушающей боли Кальмар взвыл, перевернулся на четвереньки и – пополз. Не думая больше ни о защите, ни о том, чтобы сохранить пристойный вид. Смешно отклячивая пухлый зад, постанывая и всхлипывая. Клыш сопровождал. Подняв веточку, изредка направляя движение, охлопывал хворостиной по бокам, гнал, будто хряка к стойлу. Загоруйко дополз, наконец, до канализационного люка, из которого густо тянуло нечистотами. Вновь с мольбой глянул снизу вверх. Но безжалостный мучитель подстегивающе покачал ногой, как бы примериваясь к новому удару. Ничего уж вовсе не соображая, желая хоть как-то, но покончить с жутью, Загоруйко толстым дождевым червём втиснулся в вонючий люк.
И тогда Клыш поднял крышку и аккуратненько водрузил её на место.
Это было даже не унижение. У всех на глазах в одночасье разнесли на осколки районного атамана.
Воцарилось ошарашенное молчание. Кребзовские, не зная, на что решиться, выжидали. Сбились плотнее, спина к спине, трое друзей. У беседки притаились оправившиеся Гутенко с Першуткиным. Сами собой все взгляды сошлись на Меншутине.
– Что ж, всё было по-пацански, по понятиям, – рассудил Кибальчиш. – Без претензий. И – достаньте кто-нибудь этого вонючку.
Тотчас от беседки отделился ликующий Гутенко.
– Остановись, мгновение! – возопил он. – Парни! Засеките время! На всю жизнь засеките! Ведь мы только что мужиками стали!
Воздел победно руки. Взгляд Меншутина скользнул по циферблату его часов. Спохватившись, он шагнул к забору, отделявшему двор от Малой Самары, и – замер: в сгущающихся сумерках через забор перелезали два милиционера.
– Влип, как мокрощелка! – со стоном обругал себя Боб. Развернулся к арке.
Поздно! С двух сторон – от арки и от химтехникума – с сиреной и включённым дальним светом, во двор влетели машины ПМГ (передвижные милицейские группы), из которых принялись выскакивать люди в форме. «Пятачок» у беседки осветило фарами.
Пацаньё бросилось врассыпную. Шмыгнул к спасительным кустам и Поплагуев.
– Где Данька? – остановил его голос Граневича. Оба принялись озираться в сумерках. И оба одновременно увидели Клыша – рядом с Меншутиным.
Боб Меншутин скрыться не успевал, так как от арки уже бежали к нему трое милиционеров. Ещё двое, те самые, что перелезли через забор, перекрывали Малую Самару.
Меншутин ухватил за рукав единственного оставшегося рядом – Клыша.
– Уйти сможешь? – прохрипел он.
– Если подвалами, легко. Я там все ходы знаю. Менты не пролезут, а я просочусь. И тебя проведу!
– Со мной не уйдёшь. Они как раз по мою душу.
– Так тем более.
– Держи! – Клыш ощутил тяжелый сверток, что пихнул ему Меншутин. – Спрячь или – в Волгу! Главное, чтоб с концами… Дуй! Я отвлеку! – Меншутин метнулся к двоим ближайшим, сгрёб на землю сразу обоих.
– Он! Это он самый! Держу! – раздался выкрик из клубка. Ещё двое в форме кинулись на подмогу.
Алька с Оськой всё это видели. Видели, как Кибальчиш что-то сунул Даньке, и тот побежал. Как через мгновение принялись крутить самого Кибальчиша.
– Фёдоров, лови пацана! Он ему что-то передал! – закричали из темноты. От беседки отделились ещё двое и побежали, отсекая Клыша от подъезда.
– Слева! – завопил Алька. Поняв, что уйти Клыш не успевает, метнулся наперерез преследователям. Сзади пыхтел Гранечка. Счет шел на сантиметры. Ближайший милиционер уже руку протянул, чтоб ухватить Клыша за плечо. Но тут на него сбоку напрыгнул Алька, сбил с ног и, не выпуская, покатился по асфальту. Так что Клыш успел юркнуть в подъезд. Оська, нырнувший под ноги следующему, здоровяку в штатском, оказался не столь проворен. Тот перепрыгнул через пухлое тело и следом за Клышем вбежал в подъезд, и дальше – в подвал.
Данька мчался по узким подвальным переходам. Все эти тупики, лазейки, скрытые ходы меж подъездами были освоены с детства – при игре в казаки-разбойники.
Здоровяк – оперуполномоченный угрозыска Саша Фёдоров поспешал следом. Несмотря на внешнюю грузность, Саша был хорошо тренирован, – по утрам пробегал по три – пять километров. И легко нёс свои сто килограмм боевого веса. Но темп, что задал проворный пацан, оказался чрезмерен и для него. Дыхания едва хватало, чтоб не упустить из виду мелькавший впереди силуэт. Наконец, разглядел его – метрах в двадцати, упёршегося в глухую стену. Успокоившийся Саша, выравнивая дыхание, перешел на шаг. Спешить было не к чему, – беглец загнал себя в ловушку. Но, когда завернул следом, увидел перед собой лишь стену, сквозь которую шла труба парового отопления. Да ещё успел заметить мелькнувшую подмётку. Раздвинул пальцы – большой и мизинец, промерил зазор меж трубой и стеной, озадаченно крякнул. Протиснуться в узенькую щель меж ними казалось немыслимым.
– Вот вёрткий, гадёныш! Чисто – ящерица, – восхитился Фёдоров. Восхитился, впрочем, без сердца. Из криков снаружи он уже знал, что главное сделано: подельник Лапы, участник группового разбойного нападения Борис Меншутин пойман и водворен за решетку ПМГ.
Проскочив для верности ещё пару подъездов, Данька отдышался, затих, прислушиваясь. Кажется, было тихо. Тогда он достал из-за пазухи заплесневелый от сырости сверток, положил на трубу отопления, развернул.
На бурой тряпице лежал черный, пахнущий порохом револьвер.
Оську и Альку – единственных пойманных – два сержанта как раз запихали за решётку милицейского уазика, когда из глубины двора донёсся бубенчатый перезвон, и в свете фар высветилась нетвёрдая в ногах мужская фигура. В широкой, с загнутыми полями шляпе.
– Мои уже здесь? – любезно поинтересовалась фигура заплетающимся голосом.
– Тебе-то чего? – ответил патрульный сержант. – Иди, пока самого не забрали. От ветра шатаешься.
– Уходи, в самом деле! – поддакнул милиционерам Алька, узнавший Котьку Павлюченка, нового их дружка. Не признать его по колокольчикам, пришпандоренным к клешам, было невозможно. Накануне Алька вскользь упомянул о готовящейся драке. Но был уверен, что тот по вечному пофигизму пропустит мимо ушей. И вот на тебе – объявился!
– Не нарывайся! Тебя ж, идиота, завтра в партию принимают! – взмолился вслед дружку и Оська. – Два года под это биографию подчищал!
– Да гори эта партия огнём! Дружба дороже! – разудало выкрикнул Котька.
Доверительно приобнял сержанта.
– Моя фамилия – Павлюченок. Через «ю».
– И что с того?!
– А то, дебил, что Павлюченок друзей не бросает, – надменно ответили ему.
– Раз дебил – давай до кучи, – согласились милиционеры.
Более не церемонясь, ухватили с двух сторон и с разгону вколотили внутрь. Дверца захлопнулась.
Павлюченок кое-как поднялся, распространяя запах вонючего рома «Гавана». Вздохнул скорбно.
– Извини, Алый! У Штормихи завис. В час помнил, что к тебе обещался. И в два помнил. А потом как-то так сладко сделалось… Но до чего хороша сучка!.. Так чего, опоздал?
Оська с Алькой кисло переглянулись – успел-таки на свою голову!
Машина дёрнулась. Павлюченка подбросило и задом прочно всадило внутрь баллона, так что длинные ноги с остроносыми, будто рашпилем заточенными шузами беспомощно болтались снаружи. К райотделу летели под колокольный перезвон. Сам их обладатель, в люлю пьяный, беспробудно спал внутри баллона. По румяной щеке несостоявшегося кандидата в члены КПСС стекала густая слюна.
С бывшим секретарём школьного комитета комсомола Константином Павлюченком жизнь вновь свела Альку Поплагуева год назад на химкомбинате, в кабинете дяди Толечки. Алька принес ходатайство о покупке инструментов для школьного ВИА. Земский пригласил секретаря комитета комсомола. Вошёл юноша в лавсановом костюмчике с искоркой, нейлоновой рубахе с острым воротником, с прилизанными волосами и глазами, скромно опущенными долу. С раскрытым в готовности блокнотцем. Алька даже не сразу узнал кичливого школьного секретаря. «Эким Молчалиным заделался», – подумалось Альке. Земский передал ему на исполнение ходатайство.
– Сделаю! Обеспечу! – горячо заверил Павлюченок.
Они вышли. Зашли в помещеньице комитета комсомола, увешанное вымпелами.
– Так в самом деле сможешь достать? – уточнил Алька.
Павлюченок потянулся с хрустом, распрямил плечи, оказавшись ладным и высоким. Глянул в упор влажными, чуть заспанными глазами.
– Коны есть, – прикинул он. – Но! – он поднял длинный холёный палец. – Взамен берёшь меня в свой ансамбль. Давно мечтаю на эстраде сбацать.
Такой засады Алька не ожидал.
– На чём играешь? – кисло уточнил он, предвидя ужас: на сцене набриолиненный джазист в «поточном» костюмчике с камвольного комбината, с комсомольским значком на лацкане.
– На чём понадобится, на том и сыграю! – отчеканил Павлюченок. Оценил вытянувшуюся физиономию. – Да нет! Можешь, конечно, отказать.
Он выдержал мхатовскую паузу, так что стало ясно: можешь, если не очень нужны инструменты.
Деваться было некуда.
– Ну попробуем! – неохотно согласился Алька.
Через день вечером, когда ВИА собрался на репетицию в школьном актовом зале, в пустом коридоре раздался колокольный перезвон. Вошёл ковбой. В немыслимых иссиня-чёрных клешах в пятьдесят сантиметров, с бубенчиками по низу. В ослепительно-белой водолазке и сдвинутой на затылок широполой шляпе.
– Ты, что ли? – не сразу поверил Поплагуев.
– А то!
– Ладно. Попробуй на бас-гитаре.
Попробовал. Оказалось, что слуха у нового оркестранта нет вовсе. Зато всё в порядке оказалось с экспрессией. Лупил по струнам медиатором самозабвенно, начисто забивая остальных. Даже взмок от усердия.
В перерыве вышел. Оркестранты переглянулись.
– Цена вопроса – качественные инструменты, – напомнил Алька.
– Если от сети втихаря отключить, вполне себе ничего, – съехидничал Гутенко.
– Посадите на литавры, – предложила Наташка.
И в точку. В отличие от слуха, чувство ритма оказалось безупречное. Вскоре новичок истово колотил тарелками друг о друга. Подбрасывал, ловко ловил. Да ещё и бубенцами «подрабатывал». На первом же концерте разудалый стильный ударник привлёк всеобщее внимание.
Через пару дней Поплагуев зашел в комбинатовский комитет комсомола. Павлюченок всё в том же «лавсанчике» в одиночестве, высунув язык, конспектировал томик Маркса.
– К семинару готовлюсь, – объяснился он.
– Ты и впрямь в эту лабуду веришь? – не удержался Алька.
– А куда денешься? – не замедлил с ответом тот. – Это у вас папаши-мамаши. Рука слева, лапа справа. А я – косточка рабочая. Другого способа в люди пробиться нет. А через комсомол я сперва в партию вступлю. Как партийный – в аспирантуру. Неужто кандидатскую не вытяну?
– В науку тянешься? – Алька заинтересовался.
– В начальники КБ тянусь. Если кандидатскую защищу, то через неё на комбинат номенклатурой вернусь. У меня весь маршрут просчитан. Вот хоть ваш ВИА! Думаешь, сам про себя не понимаю, каков музыкант? Зато слава по городу – «Благородный дон». А сейчас как раз поветрие – поддерживать молодёжные ВИА. Стало быть, мне по комсомолу лишний плюсик – заметил, оценил, поднял на должную высоту.
Доверительно пригнулся:
– А ещё я в комсомолок верю. Такие супер-люпер попадаются! В кабаках таких на раз-два не снимешь.
Котька Павлюченок вышел из низов. Мать – прядильщица штапельного производства, отец – мичман-подводник, пропадавший по полгода в походах и не каждый раз всплывавший в семье. Книг в доме не было.
Пацаном на сеансе «Ромео и Джульетты» сопел и толкал соседей локтями, допытываясь, чем все закончится. Над ним смеялись.
Свою ущербность Котька ощущал остро, хотелось быть не хуже других. Уже в начальных классах сообразил, что рассчитывать на родительскую поддержку не приходится и строить биографию предстоит самому. После восьмого класса юного Котьку вовлекли в компанию книжных фарцовщиков. Вскоре он бойко торговал редкими книгами и великолепно знал, почем, например, идет Рильке. Но кто такой Рильке и о чем он пишет, Котьке было невдомек, что вызывало снисходительные усмешки библиофилов. Чтобы избежать насмешек, засел за чтение авангарда. Перестрадал Гессе и Камю, перетерпел Кафку, но на Кортасаре «сломался» и тихо возненавидел весь андеграунд. А Майн Рида любил. Но за него «сверху» не платили.
Учёба, увы, давалась с грехом пополам. На престижный вуз рассчитывать не приходилось.
Не сложилось и с музыкой. Записался в кружок при Дворце культуры. Три аккорда на гитаре разучивал месяц. Другие за это время вовсю наяривали сударыню-барыню.
– Да-а! Это надо подумать, – озадаченно протянул преподаватель.
– Господи! – взмолился, выйдя из студии, Котька. – Зачем, наказав меня честолюбием, не дал таланта?! Посоветуй хоть, куда податься?
Господь не ответил. Но Котька и сам догадался: в комсомол.
По этому маршруту и двинулся. К выпускным классам выбился в секретари комитета комсомола школы. С учёбой было по-прежнему напряженно, но комсомольскому вожаку учителя «шли навстречу» – так что школу закончил крепким середняком. После школы пошёл на химкомбинат, в конструкторское бюро, чертёжником. Чертить обожал. Бывало, засиживался за кульманом до ночи. Приблизились перевыборы комбинатовского комитета комсомола. КБ выдвинуло кандидатуру своего чертёжника. Вопросов к социальному происхождению и к биографии не возникло – рабочая косточка. Спустя год заочно поступил на престижный химико-технологический факультет. Помог статус секретаря комитета комсомола крупнейшего предприятия. Стал подумывать об аспирантуре. В Павлюченке будто соседствовали два разных человека.
На работе переодевался в костюмчик с комсомольским значком – будто офицер на дежурстве в форму. В углу, возле чертёжного кульмана, неизменно лежал тоненький потрепанный Устав ВЛКСМ. Под ним – материалы последнего съезда, в котором бдительный Котька не забывал перекладывать закладки. После работы Павлюченок натягивал клеша и спешил к последней любовнице – фотографу по договору Мари Шторм.
По натуре был он пофигистом и любителем постебаться.
Сейчас как раз подоспело время торжествовать оборотному лику – назавтра молодого выдвиженца из рабочей среды должны принимать кандидатом в члены КПСС. И это был ключевой шажок. Далее – рекомендация от парткома комбината и поступление в долгожданную аспирантуру. А после – кандидатская степень и возвращение на комбинат с повышением – как мечталось, начальником КБ.
В дежурной части Зарельсового райотдела милиции в двенадцатом часу вечера всё ещё было нескушно. Длинная скамья, протянувшаяся вдоль зарешёченного окна, от стены до стены, поскрипывала под тяжестью тел. В уголке, съежившись, притулились Поплагуев и Граневич. Подле, у батареи, прикрывшись широченной шляпой, похрапывал Павлюченок.
В центре же скамьи бузили фарцовщики, доставленные из валютного бара мотеля «Берёзовая роща».
Угоревший за сутки подменный дежурный, пожилой сельский участковый Яблочков с брезгливой миной разглядывал рапорт, из которого вытекало, что задержанные братались в баре с шведскими и финскими туристами, пили с ними на брудершафт, отплясывали летку-енку, обменивались сувенирами и даже расплатились за коньяк и коктейли шведскими кронами.
Яблочков недоумевал. Судя по протоколу, двое из них были людьми солидных, в представлении сельского участкового, профессий. Один – со снулыми глазами, то и дело падающий со скамьи, – врач со станции переливания крови Василий Липатов, другой – Марк Забокрицкий – и вовсе, судя по удостоверению, завотделом областной молодёжной газеты «Смена».
И хоть за связь с иностранцами и фарцовку им, несомненно, грозило увольнение, а может, и уголовное дело, держались они вполне беззаботно.
Особенно досаждал усевшийся прямо на полу крупный малый с патлами, перетянутыми банданой, пухлыми вывернутыми губами и рыжими ошметками на подбородке.
– Что? И борода на такой физиономии расти не хочет? – съязвил, заполняя бланк, Яблочков.
– А это наше с ней дело. А тебе, старлей, за подлые твои слова еще одну звездочку снимаю, – под одобрительные выкрики приятелей «отбрил» патлатый.
С того момента как фарцовщиков доставили в райотдел, это была уже третья – и последняя – звездочка, которой лишил его патлатый бузотёр.
– Ай-я-яй! – посетовал Яблочков. – А я-то на повышение рассчитывал. Стало быть, не ходить мне в капитанах?
– Еще чего? Губы раскатал, жандармюга! Улицы у меня мести пойдешь, – радостно подтвердил патлатый, не заметив, что в запале перегнул палку, – услышав насчет жандармов, двое патрульных сержантов недобро переглянулись.
– Что ж, горько мне, бедолаге, – поплакался Яблочков и – уже другим голосом – потребовал: – Твоё фамилие!
– Твоё! Церковно-приходскую школу, поди, заканчивал? Да и там, небось, из двоек не вылезал? – патлатый, не стесняясь, схаркнул. – Набрали вас тут, деревню. Сразу видно: бытие определяет сознание. Фамилия у меня знаменитая. На ней, почитай, вся ваша область держится.
Он улегся на пол, закинул руки за голову и безмятежно уставился в потолок.
И напрасно. Потому что один из сержантов с предвкушающей ухмылкой шагнул от стены. Потянулся, перехватив дубинку, другой.
– Что именно из заграничных шмоток выцыганили у иностранцев? – неприязненно поинтересовался дежурный.
– Кто? Кого?! Кому? Ты видел? Зенки протри! – заблажил патлатый.
– Еще раз схамишь – поучим, – предупредил Яблочков. – Повторяю вопрос: «Сколько валюты выменяли у шведов?»
– Ну ты все-таки пень! – патлатый уселся на пол. – Уж на что у нас в универе профессура дуб на дубе, но ты их всех вместе взятых потянешь… Ой, суки!
Он согнулся от увесистой сержантской оплеухи.
– Бьют, паскуды, – с каким-то мазохистским удовлетворением сообщил он притихшим приятелям. – Всех в свидетели – Робика бьют! А батяня не верил. Я ему говорил, что в ментовке бьют! А он, наивная душа, не верил. Но теперь чек-аут! Искореним коррупцию! Батяню сюда! И – палача.
Он опрокинулся на спину и, пьяно гогоча, принялся крутить ногами велосипед. Замелькали белые, на толстом микропоре шузы.
– Не припадочный, часом? – засомневался Яблочков.
– Да не. Баулин он, – подсказал Забокрицкий. Поймав заметавшийся взгляд старлея, сочувственно оттопырил нижнюю губу.
На какое-то время жизнь в дежурной части затихла. Услышав фамилию первого секретаря обкома партии, крутившиеся тут же члены опергруппы принялись поглядывать на дежурного.
– Еще один однофамилец-самозванец, – неуверенно произнёс Яблочков.
– А вот и нет, – патлатый всё так же лучезарно улыбался чему-то своему. – Как раз наоборот. Как раз вовсе и сын. Родная кровя. Которую вы пустили.
Он утер разбитую губу, продемонстрировал окровавленный палец и отчего-то вновь загоготал.
– Бумаги ихние, – Яблочков, багровея, протянул руку за спину. Там, за пластмассовым стеклом, старшина-помощник шуровал меж непрерывно звонящими телефонами.
Не отрываясь от очередного разговора, старшина протянул через круглое отверстие пачку отобранных при задержании документов.
Несколько нервно Яблочков перебрал их. Поднял диплом – последний в стопке; прикрыв глаз, заглянул – будто карту в очко потянул.
– Так, сядьте как положено, гражданин Баулин Роберт… э…
– Серафимович! – охотно подсказали со скамьи.
– Сам вижу! – Яблочков помрачнел. – Значит, получаешься, – высшее образование. И в чём твоя образованность? Шмотки у заграничных иностранцев выклянчивать?
Смешливый Алька прыснул.
– Не по твоему статусу о таких субстанциях судить, – огрызнулся патлатый.
– Чего? – не понял Яблочков.
– Да то-то что ничего! Так, философские словеса на шампур нанизываю. Только ты об этом, пень дремучий, не догадываешься. Яблочков нахмурился:
– А вот интересно, чего батя скажет, как узнает, из какого бара тебя выколупнули? Он-то день и ночь об областном благе печётся. А сынок вместо, чтоб знамя по жизни подхватить, у иностранных подмёток трётся. В пьяном виде подношение выклянчивает… Глянь на себя: пиджак, будто у клоуна, галстук лопатой… Чистый попугай!
Баулин обеспокоенно скосился на жёлтый, крупной клетки пиджак. Да нет, всё вроде нормально.
– Понимал бы чего, трухлявый, – пробурчал он.
Яблочков сделал вид, что не расслышал.
– Ничо, ждите пока, – отреагировал он. – Скоро Андрей Иванович, начальник угрозыска, с происшествия вернется. Он вас живо ранжирует. Отделит философов от спекулянтов.
– А с нами что? – напомнил о себе Алька.
– С вами как раз ещё хужее, – Яблочков отложил протокол из мотеля, взял другой – по задержанию Меншутина. – За нападение на работников милиции – это ж знаете, по скольку вам корячится?
Компания фарцовщиков уважительно притихла. Даже «отвязный» Баулин крутнулся на ягодице и со свежим интересом принялся разглядывать юных соседей.
Душистый, гортанный зевок, сопровождающийся перезвоном бубенчиков, покрыл прочие звуки.
– И де это я? – пробудившийся Павлюченок сдвинул шляпу на затылок, озадаченно поворошил вороные волосы.
– В кутузке, – охотно разъяснил патлатый.
Павлюченок перевёл недоумённый взгляд на него.
– Баула?! А ты тут откуда?
– От верблюда, – доходчиво ответил тот. – Шведского. Груженного кронами.
Павлюченок оторопело оглядел ковбойскую шляпу в руке. Увидел Альку с Оськой по соседству. Пазл сложился. Всё вспомнилось. Большие, сонные глазищи его расширились, будто от атропина.
– Мать твою! Меня ж поутру в партию должны принимать! – он застонал. – Как же я лажанулся!.. Но на хрена?!
– Потому что дружба дороже, – напомнил ехидный Оська.
– Какая ещё, к едрене фене, дружба?!.. Мамочка моя! Ну почему ты родила меня таким долбаком?! Это ж всё, к чему псом подползал, в лавсане домотканном ходил, уставы грёбаные зазубривал… И разом облом?..
Павлюченок с размаху приложился виском о штукатурку.
У крыльца скрежетнули тормоза. Яблочков приподнялся:
– А вот и Трифонов возвернулся – по ваши души.
В дежурную часть вошел рослый мужчина в ладной на нем капитанской форме. Мокрый, с озорной большеротой улыбкой. Даже оттопыренные уши не портили. Ещё и добавляли привлекательности.
Войдя в помещение, он энергично потряс головой и плечами – будто загулявший сенбернар. Брызги окатили всех вокруг.
Яблочков поднялся:
– Андрей Иванович! Две группы доставленных. Эти – фарца из мотеля; и пацаны – пытались воспрепятствовать при задержании Меншутина. Как раз разбираемся.
– Меншутин?! – Трифонов вскинулся.
– Так точно, сам Кибальчиш, – довольный Яблочков кивнул на камеру в глубине. – Гонялись-гонялись, и на тебе – на пацаньей драке взяли. Правду говорят, сколь верёвочке не виться…
По нетерпеливому знаку Трифонова из камеры вывели Меншутина.
Тот прищурился, привыкая к свету. Подмигнул поникшим ратоборцам – Альке с Оськой.
– Держи фасон, шпана! – бросил он. Широко, с вызовом, расставив ноги, остановился перед капитаном.
Тот, в свою очередь, сверху вниз, прищурившись, разглядывал задержанного.
– Говоришь, – держи фасон? – повторил Трифонов с аппетитом. – А ничего!
Он захохотал. Смех оказался басистый, раскатистый, озорной. Засмеялись следом патрульные. Да и сам Меншутин помимо воли едва не растёкся в улыбке. Спохватившись, насупился.
– Знаешь меня? – оборвал смех Трифонов.
– Кто ж не знает?… Ты по делу говори! – Меншутин, краем глаза косивший на притихших пацанов, приосанился.
– Дело-то, считай, упаковано, – Трифонов прихлопнул папку на столе дежурного. – Лапин арестован. Осталось с тобой решить. Понимаешь хоть, что сам в миллиметре от тюрьмы?
– Сперва докажи, – сдерзил Кибальчиш.
– Ишь каков! – Трифонов почти любовался норовистым подозреваемым. – На дружка рассчитываешь, что не сдаст?
– А с чего бы кореш на меня напраслину возводить должен?
– Верно, не с руки ему тебя сдавать, – согласился Трифонов. – Только не потому не сдаст, почему думаешь. Не сдаст он тебя не по дружбе. Лапа, пока ты в армии был, в матёрого бандита сформировался. А у бандитов друзей нет. Есть интерес. Один интерес – покроет, другой интерес – придушит. В твоем случае у него интерес отмазать. По групповому всегда больше дадут. А вот если потерпевший тебя опознает как соучастника, тогда как?
– Так это слово против слова, – к такому повороту Меншутин приготовился. – Не было меня там, и – все дела. А если и признает по ошибке, так я слышал, будто второй просто в сторонке стоял. А значит, не участвовал.
– Будто, – Трифонов сочно хмыкнул. – Впрочем, пожалуй. Если не считать, что этот второй в руке револьвер держал. А если считать, – чистейший разбой. И не какой-то там дешёвый гоп-стоп. Револьвер – это по десятке на брата корячится. Потому Лапа и будет тебя до последнего прикрывать.
– А это уж! – Меншутин расставил короткие ноги, подал голову вперёд. – Найдите сперва. Мало ли кому чего кажется. Ему со страху и пулемёт мог почудиться. Думаю, там вообще зажигалка была – имитация под револьвер.
– Может, и так, – с неожиданным благодушием согласился Трифонов. – Только есть вещь, о которой, похоже, ты не знаешь. Год назад в Старице при попытке ограбления квартиры была застрелена женщина. Ответственный партработник. Дело пока зависло. Но пуля изъята. И, сдаётся мне, вылетела она из того же револьвера. Так что если Лапа револьвер сбросил тебе, то он тебя в мокруху втянул. Или не было?.. Без револьвера, впрочем, тоже мало не покажется. Я только что из больницы, допрашивал этого вашего потерпевшего. У него от лапинского кулачища сотрясение мозга. Говорит: второго, что на страховке стоял, как следует не разглядел. Хотя это ведь как повернуть. Надо будет, так разглядит. Согласен?
– С вас станется, – буркнул Меншутин.
– Но в твоем случае доказать – дело второе… Видал, чего я сынишке на день рождения купил?
К изумлению и Меншутина, и Яблочкова, Трифонов выудил из портфеля детскую игру. Водрузил на стол.
– Забавная вещулька, – детская игрушка ему самому приглянулась. – Видишь, шариком выстреливаем, и – мчит меж лунками. Вот до этой развилки. А тут – либо направо – очки набирать, либо налево – в отстой. Вот ты сейчас тут!
Он водрузил шарик перед развилкой. Шарик замер, подрагивая.
– Это ты, – для наглядности пояснил Трифонов. – Куда дуну, туда и покатишься. Налево – по зонам…
– Там тоже живут.
Трифонов пасмурнел:
– Не терпится шальной романтики глотнуть?
– Не сегодня, так завтра. Чего тянуть? – Меншутин смутился. Сбился с бодряческого тона. – Ну а если, положим, направо?
– Направо? Тогда ко мне в угро, опером.
Меншутин поперхнулся:
– Это чего? Прикол такой?
– Слышал, чтоб я когда от своего слова отступался?
Меншутин смолчал угрюмо. Кивнул на пухлую папку, на которую невольно косился:
– Так у вас на меня вон сколько накопилось.
– Это кто что копит. Я так другие твои эпизоды пролистал. Тебя ведь не зря решалой выбрали. Конфликты среди пацанья ты гасил. Как?
– По понятиям.
– Значит, по закону, – определил Трифонов. – Пусть по своему, по пацаньему. Но к закону-то тянешься.
– А если револьвер найдётся?
– Тогда сядешь!
Меншутин растерялся.
– Стало быть, – прикинул он, – найдется шпалер – сяду, не найдется – пойду в менты. Положим, что не найдется… В смысле, и не было, – подправился он. – Но вам-то зачем шпана в ментуре?
Трифонов растёкся в широченной своей улыбке. Подманил Меншутина поближе.
– Да у меня все лучшие сыскари – из шпаны вышли, – как бы доверительно, но так, что расслышали остальные, сообщил он. – Да что у меня – по жизни так. Сам посуди: кто волка скорей других затравит? Волкодав. Вот и выбирай – в какой стае твоя дорога. На зоне бывал?
– Откуда?
– Я с утра в колонию на Васильевский Мох еду. Могу прихватить. Поглядишь, как эта романтика с другой стороны забора смотрится.
Он поймал дёрнувшийся шарик, убрал игру в коробку.
– Ну, ступай пока. Завтра в девять выезжаем. Не опаздывай.
Яблочков, не веря ушам, вскинулся с приоткрытым ртом.
– Так меня вроде как разыскивали, – Меншутин замялся.
– Официально ты пока не в розыске. Да и обвинение не предъявлено. Потому ступай до завтра!
Меншутин шагнул к манящей двери на волю. Притормозил.
– А если свинчу? – выговорил он через силу. – Потом с того, кто отпустил, спросят.
Скулы Трифонова обострились.
– Спросят – отвечу, – жёстко рубанул он. – И перед собой отвечу. За то, что дураком оказался. Ступай, Кибальчиш!
Входная дверь за Меншутиным закрылась.
– Андрей Иванович! Не надо бы, – растерялся Яблочков.
– А ништо, – Трифонов осклабился широко, немыслимо привлекательно. Хотя глаза его сделались настороженными. И было понятно, что такими останутся до завтрашних девяти утра.
– Объявляю себе отбой, – сообщил он. – Если что серьёзное, звони по домашнему.
– Тут насчёт остальных задержанных согласовать бы. Очень непростые, – Яблочков засуетился, потянул к себе протоколы.
Трифонов отмахнулся:
– Сам разберись. Фарцу завтра перешлём в контору. Пацанов – оформи по мелкому. Всё!
Яблочков приподнялся, провожая начальника. Дождался, когда на улице завёлся движок легковушки.
– Рисковый человек, – в никуда сообщил он – то ли с осуждением, то ли с завистью. Почесал залысый затылок.
– Слыхали, чего начальник велел? Так что давайте оформляться. Твоё фамилие, – ткнул он в Поплагуева.
Алькино лицо осветилось в предвкушении шкоды.
– Пенис! – брякнул он во всеуслышание. Больно захотелось ему понравиться разбитным фарцовщикам. Особенно прикольному патлатому.
Своего он добился, «центровая» скамейка замерла выжидающе.
– Пенис, Пенис, – Яблочков принялся перебирать документы. – Прибалт, что ли?
Хохот обрушил тишину. Баулин, заново опрокинувшись на спину, показал хохмачу сразу два больших пальца. Даже впавший в угрюмство Павлюченок скривился. Спехом прикрыл рот сержант из наряда.
От удовольствия Алька раскраснелся – хохма удалась.
– Да вы не ищите! Пенис – это фамилия для загранпаспорта. А по-русски!.. – Алька набрал воздуху. В предвкушении подались вперёд остальные. Наступил миг торжества. Но тут Поплагуева резко дёрнули за рукав. Насупленный Оська показал на дежурного глазами. Попавший впросак старик сделался пунцовым.
Алька осёкся.
– В общем, Поплагуев моя фамилия, Олег Михайлович, – сообщил он. И, опережая вопрос, кивнул подтверждающе. – Тоже сын.
– Понятно, – Яблочков взгрустнул. – Просто-таки клуб знаменитых папаш. Ну а ты чей сын? – обратился он к взъерошенному, как грачонок, еврейчику.
– Что значит чей? Сам по себе, – Оська насупился.
– Ну да. Наверное, так тоже бывает. Короче, золотая молодежь, у кого еще из папаш-мамаш чего имеется? Выкладывайте телефоны!
…К часу ночи в дежурке стихло: привезли, оформили и отправили отсыпаться в вытрезвитель бытового хулигана. Опергруппа разъехалась по домам.
Хмель давно вышел. И теперь все – и фарцовщики, и экстремисты – сидели, потряхиваясь, рядком. Вниманием привычно завладел Баулин.
– Вы, парни, без обиды, еще зеленка, – покровительственно вещал он. – И в этой жизни держитесь меня. Народишко вы любопытный… Ишь ты, – пенис! Хотя, конечно, провинцией малек отдает. Но ништяк – культурку вам полирну.
Он снисходительно потрепал по плечу Поплагуева, который глаз не отводил от диковинного говоруна.
– А если я не хочу, чтоб меня кто попало полировал? – буркнул Оська. – У меня, может, своя свобода воли!
– Городим, чего не понимаем, – Баулин поморщился. – Ведь что такое на самом деле свобода воли, если по Марксу? Это когда ты её хочешь, и он её хочет. А она свободна лечь под любого. И чья воля другую переломит, тот эту свободу и отымеет! – он загоготал.
– Это из какой же ветви марксизма? – Оська, не терпевший насмешек, нахмурился.
– Из моей собственной! – не задержался с ответом Робик. – Я, видите ли, по убеждениям – сексуал-демократ.
– С таким папашей можно себе позволить, – позавидовал несчастный, отлученный от партии Павлюченок.
– Чего заново бузите? – забеспокоился дежурный.
– Объясняю пацанам, что Россия – страна уродов! – выкрикнул Робик. – Согласен, служивый?
Яблочков не ответил. Но, глядя на куражащегося безнаказанно блатняка, мысленно согласился.
Робик же Баулин, совершенно собой довольный, откинулся на скамейке.
В силу лености Баулин-младший не получил системного воспитания, но живой, хотя и шалый ум позволял ему ловко скрывать недостаток знаний, как научился он прикрывать глубокий шрам на виске от пьяного падения длинной прядью волос, еще и придав себе флер эдакого поэта Серебряного века.
Отправленный отцом на престижный экономфак МГУ, он, покрутившись среди так называемой интеллектуальной элиты, освоил некий минимум интеллигентного человека.
Внезапно оказалось то, что он, собственно, и подозревал, – интеллигентность есть не что иное, как ловкое умение скрывать собственную необразованность. Интеллигентом вовсе не обязательно быть. Во всяком случае, в отцовском кругу он таковых не знал. Важно уметь интеллигентом выглядеть.
За время общения с библиофилами, филолухами, философами и прочими прибабахнутыми наблюдательный Робик наработал безотказные заготовки. Если в компании слушали музыку, он, привлекая внимание, произносил: «Чуть отдает Брамсом». И тут же торопился переменить тему разговора. На художественных выставках подходил к обсуждаемой картине, приглядывался из-под растопыренных пальцев: «Под Босха работает, дешёвка». Обычно этого хватало, чтобы остальные замолкали, исполненные озадаченного уважения. Если же находился упертый искусствовед, требовавший объяснить, как можно разглядеть в классическом русском пейзаже Босха, то и здесь Робик не терялся. Сочная, вывернутая губа его устрицей отвисала книзу, и он изрекал: «Это кому что дано видеть». Уничтожая тем собеседника в глазах окружающих. В прозе у Робика тоже сложились устойчивые предпочтения. Естественно – экзотические. В самом деле, сказать, что тебе нравится Чехов или там Лев Толстой – на такую банальность может решиться только очень образованный человек. Робик отдавал предпочтение «самиздатовскому» Набокову. Соответственно в поэзии ему всюду слышался Мандельштам или Гумилев, – специально заучил по два стихотворения. Работа над собой привела к тому, что за юным Робертом Баулиным закрепилась репутация тонкого, изысканного, хотя и несколько эпатажного ценителя.
Эпатажность стала таким же фирменным его знаком, как и репутация циника-расстриги, отвергшего клан небожителей, в котором был рождён, ради жизни свободной и беспутной. Репутацию эту Робик сам же и подогревал.
Хлопнула входная дверь. В дежурную часть вошел приземистый, во влажной плащ-палатке подполковник. Зыркнул на притихшую скамейку.
– Прокурор военного гарнизона Поплагуев, – хмуро представился он.
Яблочков поднялся. «Начинается, – с томлением понял он. – Как бы к утру и впрямь в лейтенантах не оказаться».
Будто в подтверждение его опасений, дверь по-особому властно грохнула, и в помещении оказался костистый, лет тридцати трёх высокий шатен в круглой фетровой шляпе и плаще-болонье, по которым моментально узнавали работников советско-партийного аппарата. Рысьим взглядом окинул он дежурную часть.
– Ба! Михал Дмитриевич! – поразился он, пожимая руку смутившемуся прокурору. – Здесь? Ночью? Какими судьбами?.. Неужто Ваш попал?
– Да уж, вырастили оболтусов… А вы как здесь? Вашему, думаю, по милициям рановато, – натужно пошутил Поплагуев.
– Если б моему, – шатен тонко улыбнулся и – посуровел. – Девятьяров, референт товарища Баулина, – представился он. – Предъявите материалы задержания.
Не глядя, принял оба протокола. Внимательно пригляделся к лыбящемуся Робику:
– Надеюсь, обошлось без рукоприкладства?
«Хорошо, если младшим отделаюсь», – похолодел дежурный. Сообразительные патрульные давным-давно смылись.
Злопамятный Робик вскинулся. Но сидящий подле Алька предостерегающе придавил ему колено гипсом.
– Я стукачков с детства недолюбливаю, – в никуда сообщил он.
– Это еще кто? – неприязненно поинтересовался Девятьяров.
– Мой придурок, – Поплагуев побагровел.
– Я думаю, обойдемся без формальностей? – Девятьяров вскользь проглядел бланки, значительно покачал их на руке.
– Обойдемся, – согласился Поплагуев. – Он у меня и без протокола запомнит. Перепишу слово в слово прямо на шкуре.
Баулин ехидно осклабился. И оставить без ответа такое публичное оскорбление Алька не смог.
– Во-во! По шкуре писать ты мастер! – огрызнулся он. – Натренировался в застенках.
– Ты кому это? – не сразу нашелся прокурор. Может, он бы спустил сыну дерзость, если б тут же не прислушивался к происходящему правая рука и уши руководителя области. – Ты с кем это разговариваешь? Вырос на папенькином хребте. Так теперь папеньку и по хребту? Думаешь, всё дозволено? Рестораны! Дружки сомнительные. Нынче и вовсе до милиции докатился. Не пора ли к станку?!
Полнотелый прокурор в гневе своем был истинно грозен. Присутствующим, и даже стоящему подле Девятьярову, сделалось зябко, как, должно быть, бывает подсудимым после обвинительных прокурорских выступлений. Но Алька, в достатке насмотревшийся, как репетируются эти речи дома перед зеркалом, и знавший цену публичному пафосу, лишь пуще взбеленился:
– А вот друзей моих лучше не пачкай! И вообще – хватит мордой об стол возить!
– Ах ты, сопля двуручная! – Михал Дмитрич взволновался и оттого сделался тем, кем создала его природа, – косноязыким. Слова цеплялись одно за другое в совершенном беспорядке. – На принципиальные рельсы свою бестолковость громоздишь? Хорошо! Распрекрасно! Так вот – мой принцип всегда выше твоего будет. Потому что мой принцип – быть там, где нужно партии! И я тебе его в башку вобью, хотя б и колом! Стал быть, так. Как восемнадцать исполнится, повестку в зубы и – через три дня кругом арш в армию! Всё – я сказал!
Он решительно набросил капюшон.
– Не слишком ли круто, Михал Дмитриевич? – прошептал Девятьяров. – Дети всё-таки. Хоть и – сказать по правде – непутевые. Робка наш вовсе от рук отбился. По каким-то общежитиям да трущобам ночует. САМ боится, как бы с наркотиками не связался.
– В армию их всех надо. В стройбат. Мигом пообчешутся. Армия не таких обломов обламывала.
Прокурор потряс кулаком, бросил ещё один недобрый взгляд на перетрусившего, не рассчитывавшего зайти столь далеко сынка, и шагнул за порог.
Девятьяров пролистал бегло протоколы. Убрал в папку.
– Забираю, – объявил он посеревшему дежурному. – Утром доложу.
Вышел вслед за прокурором.
Все взгляды сошлись на потерянном дежурном.
– Чего уж теперь? Разбирайте, – Яблочков кинул перед собой изъятые документы.
Вызволенные правонарушители, неуверенно озираясь, потянулись к выходу.
Робик Баулин первым выскочил на улицу. И тут же угодил в жёсткие объятия поджидавшего Девятьярова.
– Долго будешь отцовское имя трепать?! – без предисловий рыкнул тот.
– Да ладно тебе, Димон! – Робик хохотнул примирительно. – С чего вообще базар? Ну, приобнялись со шведами в порядке дружбы народов. Я их вообще агитировал примкнуть к соцлагерю. Почти уговорил, кстати. Если б ухари комитетовские не налетели, может, Швеция уже в Восточный блок вступила!
– Третий раз за два месяца, считай, из тюрьмы достаю! – Девятьяров сильной когтистой рукой ухватил насмешника, сжал, не жалея, так что тот – против воли – аж взвыл. – Учти, Робка, я не отец, который тебе всё спускает. Подломишь мне биографию, самого об колено прежде переломлю… Думаешь, не знаю, с кем в Москве колобродишь? С билетными спекулянтами!
Из двери стали выходить остальные.
– Да отвянь ты! – Робик вырвался. Отбежал, болезненно оглаживая локоть, в сторону. – У вас с папашей свой маршрут, у меня свой.
Девятьяров, отошедший к поджидавшей «Волге», высмотрел среди прочих Павлюченка, подманил.
Тот, недоумевая, подошел. Под насмешливым взглядом стянул шляпу.
– Ты ведь с химкомбината? Из комитета комсомола? – коротко уточнил Девятьяров. – Я тебя запомнил, когда на городском партактиве от молодёжи выступал. Звонко!
Котька переступил ногами. Бубенчики предательски звякнули.
Девятьяров с сомнением скосился на брюки.
– И здесь звонко…
– Отзвонился, похоже! Меня сегодня в партию, в кандидаты должны были принимать! – хмуро признался Павлюченок. – Теперь уж опа на! От ворот поворот.
– С Робертом давно знаком?
– С Баулой? Да так. Пересекались в общаге.
Заметил, что интерес в глазах Девятьярова начал тухнуть. Воспламенился. – Да что там? Корешкуем, можно сказать! Стараюсь подправлять, чтоб в русле оставался.
– По ресторанам да притонам тоже вместе?
– Да я всё больше на комсомольской работе, – пытался сориентироваться Павлюченок.
Девятьяров задумался.
– С сегодняшнего дня всё, что делает этот отморозок, должен знать я.
– Это чего, доносить, что ли?! – Павлюченок возмутился.
– Информировать, – холодно уточнил Девятьяров. Зыркнул на часы. – Да или нет? Без антимоний. У меня мало времени.
– Как-то заподло, – Павлюченок заколебался. Заметил, что Девятьяров потянул ручку машины. Заторопился. – А как насчет партии?
– Вступай, – разрешил Девятьяров. Помахал папочкой. – Это в сейф уберу. До первого прокола. Считай, твоё секретное досье. А разговор наш будет первым партийным поручением… Так что?
– Ну, раз партии надо!.. Только хочу быть правильно понят…
– Ты правильно понят, – оборвал Девятьяров.
Машина отъехала. У крыльца Павлюченка поджидал Баулин.
– Чего он от тебя хотел? – поинтересовался он.
– Уговаривал с тобой дружить.
– И что?
– Согласился, – честно признался Котька. Одна из его заповедей была без нужды не врать.
Баулин сунул руку в карман в поисках сигарет. Наткнулся на зажигалку.
На припухлой от двухдневной пьянки щетинистой физиономии его прошмыгнула шкодливая ухмылка.
– Эх, пропадай моя телега! – разухабисто выкрикнул Робик, взбежал вновь на милицейское крыльцо, вытащил из урны клочки бумаги, разложил под дверью, поджег, засунул поглубже и, дождавшись первых клубов дыма, позвонил в толстый, голосистый звонок.
Компания шкодников припустила за угол, к трамвайным путям.
– Ну ты даешь! – оказавшись на безопасном расстроянии, озадаченно произнес Алька.
– Ништяк! Пускай почешутся, жандармюги. Никто не может безнаказанно обижать Робика! – гордый собой, объявил Баулин.
Он вновь подбросил дров в костёр собственной популярности. Вот и сейчас – товарищи по несчастью смотрели на него с восхищением. Через минуту Забокрицкий и Липатов разбегутся каждый на свою работу. Один – в редакцию газеты, другой – на станцию переливания крови. И уже к вечеру через них по городу разлетится весть о новой шкоде дерзкого циника-расстриги.
Город пробуждался. Клочковатое хмурое небо разъяснялось над покоцанными хрущевскими пятиэтажками. По проспекту катились первые троллейбусы. На противоположной стороне улицы, у магазина «Дружба», возле автоматов с газировкой, закинув кверху заросшие кадыки, трубили зарю первые «горнисты», – винный отдел открывался с одиннадцати, но с заднего хода вовсю торговали «бормотухой».
Вскоре их осталось трое. Ушли, коротко попрощавшись, новые знакомцы – Липатов с Забокрицким. Умчался воскресший Павлюченок – переодеваться к заседанию партбюро. Робик Баулин провёл языком по пересохшему нёбу. Достал из кармана мелочь. Намекающе оглядел оставшихся.
Поняв, что предстоит выпивка, Оська Граневич скривился. Спиртное он не терпел. Если остальные закусывали, чтобы пить, то он, напротив, выпивал, чтобы приобрести право закусить.
Еще в пятом классе при первой же коллективной выпивке с участием девочек расхрабрившийся Граневич объявил, что к вину приучен с детства и пьет его, подлое, как компот, – гранеными стаканами. С первого же стакана и блеванул, за что схлопотал от ехидного Альки кличку Гранёный. Впрочем, быстро сменившуюся нежным – Гранечка.
С тех пор процесс пития оставался мучителен как для самого Оськи, так и для собутыльников. Гранечка вталкивал в себя выпивку, подставляя ладонь под подбородок, по которому стекала предательская струйка. Собирал в горсть и – снова через силу глотал. Мучения искупались приобретенным правом слопать баночку «Мелкого частика», «Кильки в томатном соусе» или кружалку колбасного сыра.
Сейчас же, после тяжёлой ночи, одна мысль о выпивке вызвала в нём рвотные потуги. Оська аж застонал.
Спасение пришло неожиданно. Умиротворённую утреннюю тишь разнесло вдребезги тарахтение мотоциклетного мотора – со снятым глушителем.
Тарахтение сделалось надсадным, и в то же мгновение с проезжей части, лихо проскочив меж двумя встречными трамваями, вылетел разрисованный, весь в переводных наклейках, мотоцикл «Ява», перемахнул через бордюрчик, юзом просвистел по тротуару и со скрежетом затормозил в полуметре. Физиономия мотоциклиста – Фомы Тиновицкого – сияла блаженством.
– Говорил же, успеем! – обернулся он к вцепившейся в него пассажирке – Наташке Павелецкой.
– Чтоб ещё раз с тобой, самоубийцей!.. – ругнулась та. Соскочив с мотоцикла, подбежала к Альке, с разгону повисла у него на шее.
– Туська! Люди же, – Алька, ощущая на себе завистливый взгляд Баулина, отстранился.
– А мы тут собрались опохмеляторы включить за ради избавленьица! – бесом подкатил Робик. Девка была воистину хороша. – Может, с нами булькнете? Облагородите компанию.
– Думать забудьте! – отбрила прилипалу Наташка. Оборотилась к одноклассникам. – Вас Арнольдыч вызывает. В школу уже из милиции сообщили.
Пресекая возражения, добавила:
– Специально предупредил: если не явитесь, лично порвёт свидетельства об окончании школы. Так что не до пьянки вам, ребятки.
Подхватила под локоток Альку и Оську, потянула за собой. Обернулась к Тиновицкому.
– На днях отмечаем окончание школы. Приходи, Фомик. Зулия обещала быть…
Фома, усевшись боком на мотоцикле, провожал взглядом шумных выпускников, каким сам был не так давно, и судорожно соображал, как бы за оставшееся время привести в порядок затёртые до дыр, бахромящиеся брюки, – других-то у него, по правде, так и не появилось.
О том, что Поплагуев и Граневич вызваны к директору школы, Клыш узнал от Наташки Павелецкой. В школе не был он со времен отъезда в Суворовское училище. Тем более в такой – по-летнему безлюдной, гулкой, пахнущей мокрой половой тряпкой.
Первое, что увидел, открыв директорскую приемную, была знакомая попка, нависшая над замочной скважиной внутреннего кабинета.
Школьная секретарша Любочка Павалий первый день как вышла на работу после отпуска. Услышав посторонний шум, Любочка поспешно разогнулась.
– Ах это ты! – успокоилась она. Кивнула на кабинет. – Арнольдыч свирепствует!
В подтверждение её слов из директорского кабинета донесся рык.
Любочка ловко, отработанным движением отжала замок. В образовавшуюся щель стала видна часть помещения. Посреди кабинета, нервно пересмеиваясь, стояли Алька Поплагуев и Осип Граневич. В узеньких лодочках, свежих, пошитых к выпускному вечеру «тройках». Глаза Клыша невольно расширились: Гранечка, ещё накануне волосатый, будто отливающий медью смородиновый куст, стоял, опустив бритую, сияющую постыдной наготой шишковатую голову.
Перед ними, как Тревиль перед нашкодившими мушкетерами, вышагивал горбоносый морщинистый мужчина – директор школы Анатолий Арнольдович Эйзенман.
Гневный взгляд его маленьких, вдавленных глаз прожигал оцепеневшую парочку.
– Подонки! – с аппетитом чеканил он. – Едва за порог школы шагнули и – тут же пьяные в кутузку угодили.
– Да не были мы пьяными, – лениво возразил Алька. – Разве что чуть-чуть нетрезвыми.
Эйзенман вперился взглядом в Оську.
– Объяснись, Граневич, чем тебе советские милиционеры не угодили, что ты на них с кулаками накинулся? А может, – он интимно пригнулся, – страна наша не нравится? Так ты прямо скажи.
– Причем здесь? Страна как страна, – буркнул Гранечка. И – нарвался.
– Как это – «страна как страна»? Ты о ком это? – Эйзенман, вступивший в партию в войну, в окружении, задохнулся возмущением. – О собственной Родине?! Которая тебе, охламону, всё дала. Накормила, образовала бесплатно, в комсомол впустила.
Осип Граневич натужно задышал. Пухленький, некрепкий здоровьем, он быстро «уставал» от накачек. В отличие от Поплагуева, который уже при начале разноса привычно впал в коматозное состояние и отругивался лениво, на автопилоте, Гранечка вникал в то, что говорил директор, и, услышав про комсомол, запунцовел, будто арбуз, в который впрыснули нитратов. У него вообще был удивительный пигмент. Как-то в валютном баре втёршийся в их компанию пьяный чех обнаружил, что у него пропал бумажник. И тут Оська так роскошно покраснел, что все поглядели на него с осуждением. По счастью, бумажник нашёлся у владельца в запасном кармашке.
– Я, между прочим, в ваш комсомол не просился. Сами для галочки записали, – сдерзил Оська.
Круто вертанувшись, Анатолий Арнольдович подскочил к низкорослому Граневичу и неуютно, глаза в глаза, навис над ним.
– В хрюсло хошь? – задушевно поинтересовался он.
Неуверенно хмыкнув, Гранечка отодвинулся. Директор и впрямь был горяч на руку.
На помощь пришел Алька.
– Вы б, Анатолий Арнольдович, выражались как-нибудь попиететней, в пределах нормативной лексики.
– Норматива захотелось?! – Эйзенман отчего-то обрадовался. – Так вы у меня его сейчас полной ложкой схлопочете. Я с вами, обормотами, как филолог с филологами поговорю. А ну, Поплагуев, прихлопни дверь, чтоб эта стервочка не подслушивала.
В наступившей ошалелой тишине отчетливо послышалось дробное цоканье: стервочка – Любочка Павалий – торопилась вернуться на место.
Через десяток минут оба, взмокшие, выдавились в предбанник. Заторможенно кивнули Клышу.
Поплагуев помотал головой.
– М-да! Умеет донести мысль заслуженный учитель республики.
– Кандидата педагогических наук кому попало не дадут, – согласился Граневич.
Данька огладил шишковатую, бугристую Оськину голову:
– Кто надоумил?
– Светка, кто ж ещё! – фыркнула сообразительная Любочка.
Гранечка, стыдясь, кивнул.
– Пообещала, если обреюсь, – даст.
Гранечка с детства был беззаветно влюблен в старшую из сестер Литвиновых – Светку. В присутствии бойкой, веснушчатой одноклассницы, с рыжей копёнкой на голове, у Оськи пересыхало во рту. Приливала кровь.
Увы, восемнадцатилетняя Светка, хоть и слыла оторвой, квелым соседом по подъезду, рыжим подстать себе, не интересовалась. Правда, от приглашений на посиделки за чужой счёт не отказывалась. Но и завалиться с ним в постель не торопилась, предпочитая безнаказанно интриговать и туманно намекать на возможность близости.
– Удивляешь ты меня, Оська, – посочувствовала Любочка. – Какой раз Светка тебя динамит. А ты всё попадаешься.
– Но ведь так хочется, – простодушно признался Гранечка.
– Рыжьё к рыжью тянется! – в проёме кабинета стоял директор школы. Неожиданно благодушный, будто не он только что истово распекал юных нарушителей. – Кстати, Граневич, насчет исполнения желаний. Я показал твою тетрадку с задачками по физике дружку своему – проректору Бауманки. Вчера звонил. Считает, что в тебе искра божия. В общем, вот адрес. Отправляйся в Москву подавать документы. Как говорится, добрый фут под килем.
Смущенного, раскрасневшегося Граню принялись охлопывать.
– А дружок этот ваш знает, что Оська еврей? – встрял Клыш.
Оживление схлынуло.
– А причем здесь это?! – голос Эйзенмана сделался пронзительно тонким. – Вот скажи, – при чём?! Антисемитизм в СССР изведён на корню! – отчеканил он.
– Может, в СССР и изведён, – негодующий директорский пыл Клыша несколько смутил, но не сбил. – Может, и в десятой школе вы его выжгли. А в Бауманке-то – все говорят – евреев даже с абсолютным баллом прокатывают. Вам ли не знать?
Эйзенман нахмурился.
– Знаю, конечно! – через силу признался он. – И он, проректор то есть, знает. И, прежде чем приглашать, вопрос согласовал… Ты в самом деле очень талантлив, Ося. Но талант нуждается в шлифовке. Остановка в начале пути губительна. А в Бауманке тебе будет за кем тянуться. Да и от дружков-елдоносцев подальше. Помни: главное, надо больше трудиться.
– Так он и так вовсю трудится. Над Светкой! – прыснул Алька.
– Вот совершенная во всех отношениях дылда! – Эйзенман нахмурился, пряча улыбку. – Просто-таки разносторонне недоразвитая личность. Твоего-то, Поплагуев, таланта до сих пор только и хватает, чтоб Наташку под партой тискать да на трубе греметь. А у Граневича искра… В общем, двигай, Осип, в Москву, и поживее.
– Никуда я не поеду, – буркнул Гранечка. – Как я маму на этого долбака оставлю?
Эйзенман заново присмотрелся к свежему кровоподтёку на Оськиной щеке. Изменился в лице.
– Опять?! Думал, это тебе в драке… Он же мне клялся, что больше пальцем не дотронется! Ах, Ося, Ося!
Несмотря на исполнившиеся семнадцать лет, отец по-прежнему поколачивал Осипа. Сначала, как правило, доставалось жене. Гранечка, трепетно любивший мать, при каждом таком случае впадал в неистовство; как в детстве, бесстрашно набрасывался на здоровенного отца. Но защитить ни себя, ни мать не мог.
Как-то затейник Алька подбил его подзаработать – сдать кровь. Оська сдал двести грамм и упал в обморок. Ему быстренько влили двести назад, потом еще двести и – вышибли, предложив больше не появляться. Узнав о таком приработке, Семён Абрамович долго, заливисто хохотал.
– Еще раз мать тронет – убью, – глухо пообещал Гранечка.
Гранечка вообще слыл застенчивым и незлобливым гением – чудаком, слегка не от мира сего. Но окружающие знали, что, дойдя до какого-то предела, кроткий Граневич делался неуправляемым. Похоже, предел этот был достигнут.
– Не дури, Осип, – Эйзенман встревожился. – Только в жизнь вступаешь. И портить её из-за всякого… – он сдержался. – А насчёт приглашения… Такими возможностями не разбрасываются.
Анатолий Арнольдович оглядел всех троих.
– Что ж? Вроде, всё сказано. Хоть я и атеист, но, пожалуй, сегодня поставлю свечку, что от таких ученичков избавился.
– Надеюсь, со следующими вам повезет больше, – пожелал Клыш.
Алька воздел руки вверх.
– Благородные доны! Попрощаемся с родными пенатами, из коих нас безжалостно и, я бы сказал, беспардонно изгоняют, – заунывно протянул он. – Благородные доны-ы!
По его сигналу, все трое изобразили глубокий, «мушкетёрский» поклон. По команде: «И оп!» – развернулись и, стараясь шагать в ногу, замаршировали к выходу. Они не видели лица сурового директора. С томным, почти нежным выражением смотрел он, как удаляется троица молоденьких выпендрюжников, которые совсем скоро, буквально через два-три года, обещали сформироваться в необычных, ни на кого не похожих мужчин.
Провожала их взглядом и Любочка. С томлением глядя на поджарый зад отставленного любовника, она пожалела, что поторопилась с разрывом.
«Отвальную» по школе назначили в Поплагуевской квартире. Родители его на неделю укатили в пансионат.
Поначалу Алька планировал организовать вечеринку у Земских. Но накануне он поднёс тёте Тамарочке подарок: страховой полис, по которому застраховал свою жизнь в её пользу. К удивлению Альки, был он гнан страшным криком. И они до сих пор не помирились.
Всё в этот июньский, прощальный вечер казалось насыщенным особой, ностальгической негой.
Чудно смотрелась красавица Наташка Павелецкая, на правах хозяйки дома распоряжавшаяся сервировкой стола.
Что и подтвердил Гранечка, притащивший целый куст роз, за которым сам Оська едва угадывался.
– Прекрасной хозяйке дома! – галантно объявил он, мокрый от листьев и дождя.
Женщины зааплодировали. Красивую сцену несколько оконфузил Павлюченок.
– Опять в Мичуринский сад, в оранжерею, лазил, – едва глянув на розы, определил он.
Впрочем, компенсацией Гранечке стал заинтересованный, вселивший надежду кивок Светки Литвиновой.
Минутную неловкость сняло появление Гутенко в немыслимой замшевой курточке с позолоченным шитьем, удачно подчеркивавшей его осиную талию и пристроченные к губе усики. Выслушивая комплименты девочек, он ненароком прокручивался тореадором на арене.
В отличие от несколько вертлявого Вальдемара, новоиспечённый кандидат в члены КПСС Павлюченок, сменивший бубенчики на красные клинья, а батник на водолазку, лишней суеты себе не позволял. Кличка Кот Баюн, которой наградил его Поплагуев, подходила Павлюченку идеально. Его большие, с поволокой глаза лениво оглядывали собравшихся девушек обманчиво сонным взглядом изготовившегося к охоте кота. Сегодня, впрочем, Котька был не один, – затащил на вечеринку последнюю свою подружку – фотографа по договору Мари Шторм и то и дело плотоядно косился на её губы – пухлые, будто велосипедные шины. Вообще-то родители-поляки назвали дочь Марысей. Но имени этого эпатажная девица стыдилась и представлялась всем как Мари.
С Котькой пришёл и новый в компании человек – Баулин-младший.
– Знакомьтесь – Роб Баула. Редкостный негодяй и мой большой друг, – представил его Баюн. И тем обеспечил всеобщий интерес.
Впрочем, завладеть вниманием Робик умел и без посторонней помощи.
Оказавшись в новой, незнакомой компании, он напористо врывался в любую беседу. Совершенно неважно было, что он при этом говорил. Начинал он говорить прежде, чем осмысливал предмет разговора. Да предмет ему был и неважен. Важно было вклиниться в разговор и с разгону утвердить себя. Так, например, если в компании рассказывали анекдот, Робик тут же обрадованно хлопал себя по ляжке: «А кстати, забойный анекдотец на ту же тему». И выдавал первое, что приходило на ум. Чаще всего совсем некстати. Но главного достигал – всеобщее внимание переключалось на него.
Сейчас, впрочем, Робик больше зыркал на угол, где выстроились приготовленные батареи столовых вин. Вперемешку стояли «Анапа» крепкое белое; «Портвейн» красный крепкий; «Токай»; «Мадера»; «Ликер лимонный»; «Вино яблочное»; «Лучистое» крепкое; «Грушёвое»; «Золотая осень»; «Солнцедар». Пять штук плодово-ягодного за 92 копейки. В простонародье – «гнилуха». Самое дешёвое и «злое». На него сбрасывались, когда деньги вовсе были на излёте. Отдельно – три бутылки «Рислинга» – для девочек. «Похоже, натащили, кто что смог», – опытным взглядом определил Баулин.
Боря Першуткин, вытянутый стебельком, с прозрачным шёлковым платочком, подвязанным на худенькой шейке, то и дело тревожил рукой свои длинные, по плечи волосы. Тревожил и – страдал. Несмотря на тщательный уход, тонкие волосы выглядели жидковато, и Першуткин завистливо поглядывал на волнистые патлы громогласного Робика Баулина.
Наконец, решился подойти.
– Мы с тобой здесь самые лохматые, – заискивающе произнес он.
Робик пренебрежительно глянул.
– Из одного такого лохматого, как я, можно пошить двух таких лохматых, как ты, – отбрил он. На глазах девчонок ловко закурил, чиркнув спичкой о штанину.
Униженный Боря отошёл к Велькину. Паша единственный, кто не заморачивался по поводу внешнего вида. Костюмы и нейлоновые рубашки ему подбирала Валя Пацаул – в комиссионках. Так выходило дешевле.
Волнующе хороши были дамы.
Светка Литвинова явилась в кремпленовом мини, обтягивающем ее соблазнительную попку.
Рыжеволосая Светка с солнечными веснушками на вздернутом носике разглядывала мужчин своим честным бесстыжим взглядом, оценивая по обыкновению снизу вверх.
Сегодня Светка впервые вывела в свет младшую сестру – Сонечку.
– Прилипла, шалава малолетняя! Не отогнать, – коротко объяснилась она. Сестрёнка в самом деле увязалась за ней, как только прослышала, что на вечеринке будет Павлюченок. Год назад восьмиклассница Сонечка увидела в школьном оркестре стильного литаврщика. И с тех пор волоокие Сонечкины глазищи с ресницами, подведенными тушью до размера крыла бабочки махаон, при встречах с Котькой вперивались в него с откровенностью порочной невинности. Несмотря на юный возраст, Сонечка выглядела совершенно созревшей. Легкий сарафанчик, казалось, готов был треснуть под натиском сочного тела, будто шкурка спелого персика.
Вообще каждая из дам облачилась в наряд, удачно подчеркивавший самые выигрышные детали фигуры.
На Мари Шторм, к примеру, был целиковый брючный костюм в обтяжку – с волнующей молнией на спине, терявшейся меж ягодиц.
Даже приземистая Валя Пацаул втиснулась в вельветовые джинсы. Пуговица угрожающе потрескивала. Так что Валя, от греха подальше, старалась дышать в полвздоха.
За стол пока не садились – ждали Клыша. Впрочем, безупречный вид стола оказался всё-таки нарушен: из мясного салата сама собой исчезла петрушка, – Гранечка со скорбным выражением лица, быстро двигая челюстями, отошел к окну.
В ожидании опаздывающего разбились на две группы: мужскую и женскую.
Женщины говорили о своем – о девичьем, мужчины о своем – о девицах. Несколько нарушал гармонию Боря Першуткин. Привычно затеревшийся на женскую половину и живо включившийся в обсуждение последней коллекции от Зайцева.
В мужской вниманием завладел Робик Баулин.
– Жизнь, други мои, сплошная продираловка сквозь дебри человеконенавистничества, – авторитетно вещал он. – И я рад за вас, что свезло вам познакомиться с человеком, который проведёт вас сквозь перманентную гнусь бытия, аки Моисей по водам. С Робиком не пропадете. Робик – он личность философическая. И потому – безудержная в своей невоздержанности.
Непривычную, витиеватую речь слушали, дивились. Бросали оценивающие взгляды девочки.
Наконец, явился Клыш – в белой марлёвке. Держался Данька со скромным достоинством. О разрыве с Любочкой Павалий знали, и его выдержка перед лицом свалившегося несчастья вызвала восторженный шепоток женщин. На него смотрели с состраданием. Наташка Павелецкая, встречая, как-то по-особенному пожала ему руку. Когда же Клыш с чувством затянул романс «Не искушай меня без нужды», девочки с пониманием переглянулись – это было тонко.
Принялись рассаживаться. Но не все. Исчезли Фома Тиновицкий и Зулия Мустафина. Уединившись в узком чуланчике, в тесноте, колени в колени, шептались.
– Фомик, милый, что могу? – говорила Зулия. – Я уж просилась за тебя. Но отец на своем стоит. Без калыма не отдаст. Никак не может быть без калыма. Что я против него? Говорит: хоть пять тысяч пусть найдет! Иначе – голодранец!
Услышав астрономическую цифру, Фома застонал:
– А то не думал? Даже если байк продам: ну, тыща! Даже если голубей!.. – от страшной перспективы Фома зажмурился.
– У тебя ж отец – стеклодув, – напомнила Зулия. – Сам говорил, хорошо получает. Пусть в долг даст. Отработаем, вернем. Я сама хоть на две работы пойду!
– Отец! Будто не говорил. Веришь, – на колени встал. Упёрся, желваки играют: «Нету!» А знаю, что есть. Не пьёт, не курит. Машина – «Победа». Старьё. По десятку раз перебирали. Он пацаном блокаду пережил. С тех пор откладывает. Куда девает?! Я уж, – Фома приглушил голос, склонился поближе, – дважды квартиру перерыл. Думаю, найду, а потом пусть хоть башку оторвет! Нету! На книжке сберегательной копейки! Горлинка моя! Ведь в армию по осени заберут. Дождёшься ли?
Он жадно вгляделся в округлое личико Зулии, в глаза – блестящие бусинки.
Она отвела взгляд:
– Я бы дождалась!.. Фомик, милый! Поступи ты в политех. Хотя бы на РТМ (Разработка торфяных месторождений). Туда, говорят, всех берут, даже кто баллов не набрал. И военная кафедра есть. Ну что ты упёрся?
– Что РТМ?! Болото после океана! – воскликнул Фома. Он уже дважды поступал на географический факультет МГУ. Дважды проваливался. Но от мечты не отступался.
Он прижался к Зулие, лоб в лоб.
– Меня в Прибалтику на ночные мотогонки зовут. Выигрыш – знаешь, какие деньги? А может, и на регату попаду. Там вообще – хватит, чтоб папашу твоего ненасытного залить. Ты только дождись! – умолял он.
– Я бы дождалась, – отвечала Зулия.
Так и сидели обнявшись.
Когда спохватились и принялись их искать, оба уже тихонько покинули квартиру.
За столом меж тем со значением поднялся Робик Баулин.
– Дети мои! Я знаю вас всего ничего, но полюбил искренне и всяко-разно, – он отеческим жестом приглушил гул, постучал ножом по бокалу. – Позвольте мне как старшему из вас и умудренному тем, чем вам еще только предстоит умудриться, во-первых, назначить себя тамадой, во-вторых, сказать мудрое слово! Возражений нет?
– Есть! – Клышу самозванный, развязный тамада не понравился, жестом опустил его на место. Поднялся сам:
– Традиционный первый тост – за Дом 2 Шелка! Мужчины – стоя!
Все повскакали.
– И я, и я! Добавить! – заторопился Гутенко. Боясь, что перебьют, зачастил: – Благородные доны из исторического дома Шелка! Совсем недавно мы не побоялись встать единым кулаком против банды Кальмара! – глянул гордо на смущенного Велькина. – Ну и где теперь Кальмар? И если кулак не разожмём, то впереди у нас великие свершения. Пришло наше время. Только что новый Генсек объявил курс на ускорение, опору на молодёжь. На нас, значит, – на Дом Шёлка. Гляньте вокруг, сколько нас. Неимоверная туча! Дон к дону, мушкетёр к мушкетёру. Это ж какие социальные пласты все вместе собой закроем! Я после армии в ОБХСС думаю. Так что ментовка, считай, за мной. Павлюченок на комсомол, а следом на партию сядет. Клыш?
– КГБ, – подсказал Алька.
– Замётано. Оська – это даже не обсуждается. Считай, готовый нобелевский лауреат. Трое наших в медицине. Стало быть, здравоохранение перекроем. Железный же кулачина! Лет через пять – десять весь город под себя подомнём. И потому! – он набрал воздуху. – Дом два Шёлка во веки веков!
Выпили по первой, не закусывая. Следом по второй. Затем по третьей – поподробней.
– А теперь – за будущих молодых! Чтоб не тянули со свадьбой, – выкрикнул истомившийся без внимания Баулин. – Горько мне!
– Горько! – подхватили остальные.
Наташка и Алька, счастливые, раскрасневшиеся, поднялись и потянулись друг к другу с поцелуем, – под восторженные крики. Непрошенной поднялась Валя Пацаул, потащила вверх Велькина.
– Мы с Пашей тоже решили пожениться… Скажи!
– Валя говорит: иначе неудобно, – подтвердил Велькин.
– А которые не женятся, те дабы не нарушать гармонию! – возопил Котька и впился в губы соседки – Мари Шторм.
Крики сделались громче.
Кричали все, кроме Сонечки. Она не стыдясь плакала и сквозь слезы завистливо зыркала на Котькину подружку, как ребенок, на глазах у которого поедают любимое мороженое.
Сама переменчивая Мари исподволь поглядывала на румяного хозяина квартиры. Нынешним кавалером она уж пресытилась.
Гул смолк: в дверном проёме в приталенном плащике и с чемоданом стояла Любочка Павалий.
– Там дверь не заперта! – объяснилась она. Смущенно улыбнулась. – Так захотелось перед отъездом всех вас повидать. Сегодня с Владюлей в Москву уезжаем, с родителями его знакомиться. Отпросилась к подругам попрощаться. Вроде девичника. Приютите на пару часиков? Просто посидеть напоследок!
– А то не приютим! А то не родная! А то не проводим! – Валеринька Гутенко ужом подлетел, отставил чемодан, стянул плащик. Как-то само собой освободилось местечко возле Клыша. Сидящий подле Баюн наполнил бокал. Любочка наклонилась, нюхнула:
– Опять сивуху пьёте!.. Ну, разве что символически!
Пригубила.
– А штрафную? А за семейное счастье?! – встрял Баулин.
– Какие же вы обормоты! – Любочка сделала большой глоток. Отставила.
Но уже поднялся Поплагуев.
– Доны и донессы! Сегодня особенный день. Все мы вступаем в жизнь. Как говорит мой папахен, суровую, как солдатская пряжка. Уходит золотое детство. И так совпало, что в знаменательный этот день провожаем первого человека из Дома Шёлка! Нашу, можно сказать, общую любимицу отдаём замуж за неведомого московского человека! – Алька ловко смахнул несуществующую слезу. Шмыгнул носом. – Так давайте, чтоб запомнилось! За тебя, Любочка! До дна! А то счастья не будет!
Прочувствованный спич Любочку растрогал. Она выпила полный фужер, порозовела и весело принимала поздравления.
Меж тем становилось всё шумнее.
Катушечный магнитофон, дотоле «барабанивший» голосом Гнатюка, всхрюкнул и выдал «Падает снег».
– Ой, лапочка Адамо! Любимчик! – первая дворовая оторва и эпатажница Светка Литвинова выскочила на середину комнаты, стянула через голову платье и, оставшись в открытом купальнике с розочкой на плавках, принялась медленно извиваться под музыку.
Конечно, главным здесь был не Адамо, а купальник. Купальник этот она сфарцевала у спекуля и третий день таскала на себе, ища случай публично продемонстрировать.
Глядя на извивающуюся Светку, нахохлившийся Гранечка сжал зубы, яростно схватил пригубленный бокал и, хоть и давясь, впервые в жизни допил до дна. Изумившись самому себе, наполнил заново – дабы закрепить навык.
Воспользовавшись тем, что хлопотавшая по дому Наталья отлучилась на кухню, Мари Шторм очень ловко перехватила в коридоре Альку, безмолвно втолкнула в кладовочку, оставленную Зулиёй и Фомой. – Иди что покажу! – пробормотала она. Захлопнув ногой дверь и прижав его спиной к шкафу, жадно впилась в губы.
– Уймите ваши порывы, барышня! – Алька захихикал. Принялся неловко отбиваться. Но разохотившаяся Мари уже поползла вниз.
– Молчи, дурачок! Сделаю приятно, – горячо прошептала она. Натренированным движением ухватилась за змейку, попыталась дёрнуть.
Дверь распахнулась. Через проём в кладовку полился свет из коридора. И в этом проёме таращилась на них Наташка Павелецкая.
Алька дёрнулся, на сей раз нешуточно, отбросил насильницу в сторону.
– Татка! Это совсем не то, что ты думаешь! – пробормотал он, чувствуя себя полным идиотом.
Почерневшая Наталья, поджав губы, развернулась. Входная дверь хлопнула.
– Ты – дурра! – заорал на Мари Алька. Оправляясь на ходу, кинулся догонять.
– Чего она, шуток не понимает? – удивилась Мари.
Алька добежал до двери, когда снаружи позвонили.
«Вернулась!» – счастливый, готовый упасть на колени, распахнул дверь. Отшатнулся.
Вместо Натальи в квартиру ввалился изможденный, невеликого росточка сорокалетний человек с задранным кончиком носа – в форме башмачка с воронкой посередине, – будто подмётка продырявилась. Это был сосед Поплагуевых по площадке пьяница Николай Сергач. Впрочем, на работе, в Обществе по распространению знаний, где Сергач трудился лектором-международником, он слыл за человека вовсе непьющего, хотя и слабого здоровьем. Спасали хорошая реакция и жена – старшая медсестра в райполиклинике. Всякий раз, готовясь впасть в запой, Сергач успевал оформить больничный.
Судя по мутному, страдающему взгляду, болел марксист-международник не первый день.
– Шум по подъезду стоит. Отец, поди, не знает, чего тут у вас куролесится, – произнёс Сергач со строгостью.
– Не твоя забота, – огрызнулся Алька. Соседа, как и прочих тружеников идеологического фронта, он не переносил на дух. – Выкладывай, чего заявился?
Поняв, что шантаж не удался, Сергач убрал с лица грозность и искательно вздохнул.
– Нальете?
– С чего бы?
– Трубы горят.
– Я! Я-я! – торопясь, протиснулся Баулин. Допустить, чтоб славная шкода обошлась без него, не мог. Сергача он немного знал – как-то видел среди отцовских посетителей. Подмигнул остальным. – Значит, так, гость заморский. Встань на стул и скажи с выражением: «Коммуняки Русь продали».
– Не могу, – отказался Сергач. – Что хошь просите! На колени встану, а этого нельзя.
– Тогда сдохнешь с похмелья.
– Сдохну, – обреченно подтвердил Сергач. – Но партию не продам.
– А вино-то чудо какое! – Робик напузырил полный стакан «Яблочного крепкого». – Ты нюхни, какое из него блаженство истекает!
Сергач втянул воздух своим «башмачком» и застонал, чувствуя себя, должно быть, коммунистом в гестапо.
– Не ты первый, – во всю обхаживал соблазнитель. – Коперник покруче тебя был, и тот отрекся. Делов-то – как взятку в карман сунуть.
Сергач провёл пересохшим языком по нёбу.
– Я взяток не беру! – отчеканил он.
Это была правда – не брал. Но не вся. Взяток лектору Сергачу никто и не предлагал. И Сергач втайне мечтал о другой, «взрослой», должности, на которой станут давать.
Робик отхлебнул. Облизнулся.
Истонченная нервная система дала сбой, – Сергач взрыднул.
– Да бросьте вы мужика мучить, – сердобольная Светка отобрала у Баулина стакан, протянула визитёру.
Поспешно, чавкая и проливая, тот выпил. Допил, огляделся блаженно, – должно быть, ему виделись ангелы. Прояснившимся взором вперился в Светкину зазывную розочку на купальнике.
– Девочку хочу! – сообщил он.
– Ожил, сердешный! – Робик громогласно расхохотался. – А как же моральный облик члена партии?
– Так я на больничном, – нашелся Сергач.
Под общий хохот марксиста-международника развернули и легким тычком выставили из квартиры.
Следом ушли Велькин с Пацаул.
– Ничего не поделаешь – режим, – объяснилась Валентина. – Тренер обещал нас завтра на замену выпустить.
Под осуждающими взглядами покинула квартиру и Мари Шторм. Кажется, в приподнятом настроении. Такова уж была натура Мари: чужое счастье нарушало её душевное равновесие.
Гулянье меж тем перешло на новый виток: разгар сменился угаром.
И вот уже самый беспокойный, Робик Баулин, обнаружил в чулане старые спортивные рапиры. И сама собой возникла идея пофехтовать на природе. Всей компанией высыпали во двор.
Только Осип Граневич не вы́сыпал. Заснул прямо за столом, положив голову в тарелку с мясным салатом и подтягивая языком горошинку. Впервые в жизни Оська напился.
Дальше было смутно. Лазили по пожарной лестнице, фехтовали в беседке. Затеяли ручейки и пятнашки. Пьяненький Алька Поплагуев бродил под окнами пятого подъезда и, рыдая, звал свою ненаглядную Наталью, – горько, но безответно.
– Туська! Лю́бая! Возвращайся! Не отдавай меня подлой Штормихе! Я тебе не изменил! У меня молния заела!
Гордая Наталья рыдала, укрывшись за занавеской.
Минут через сорок, слегка протрезвевшие, вернулись в квартиру.
Упившийся Котька Павлюченок, оставшийся без подруги, ухватил за руку Сонечку и поволок в спальню. Сонечка несильно упиралась. Прежде, чем скрыться, со слезами обернулась к сестре: – Что ж будет-то, Светочка?!
– А что со всеми бывает! – хохоча, отвечала та.
Постепенно квартира погрузилась в ночные хлопоты.
А вот жильцы в подъезде еще долго не могли заснуть от несмолкающего грохота. То неутомимый Роб Баула втиснулся в оцинкованный таз, будто в тачанку, и, потрясая шпагой, катил по ступеням с верхнего этажа на нижний, а сзади с криками: «Даешь ускорение!» – направлял движение Николай Сергач. За каждый спуск лектор-международник получал от весельчака Робика полстакашка «Имбирной».
В квартиру наколобродившийся Баулин вернулся в начале второго, потряхиваясь от озноба. У входа, на тулупчике с подполковничьими погонами, положили бесчувственного Гранечку. Во сне он икал и сблёвывал на овчину.
Из глубины квартиры доносились бормотание и постанывание. В прихожей, на разобранном диване, спали в обнимку Клыш и Любочка. Клыш спал, откинувшись на спине. Из одежды на нем был только использованный презерватив. Любочкина нога, едва прикрытая легким одеяльцем, возлежала на мужском бедре.
В поисках недопитого спиртного Робик перебрался на кухню. Увы!
Разочарованный, он уж собрался объявить матерную побудку, когда услышал, как щелкнула незапертая входная дверь, процокали каблучки.
Робик выглянул из-за косяка и – обомлел. В луче кухонного света посреди прихожей с дорожной сумкой в руке стояла незнакомая девчушка, в платье колоколом и сама стройная, как колокольчик, с длиннющей косой вдоль спины, толстенной и колючей, будто корабельный трос. Стояла и жадно разглядывала парочку на диване.
Робик склонился к ушку.
– Что? Проняло? – шепнул он. Застигнутая с поличным, она резко обернулась и оказалась глаза в глаза с толстогубым парнем, в бандане, опоясывавшей патлатые волосы.
– Я не нарочно. Должна была завтра приехать. Но – поменяли билет, – невнятно объяснилась она.
– Тс-с. Не будем людям мешать, – Робик приложил палец к губам и, прихватив растерявшуюся гостью за плечико, провел на кухню.
– Мне нужен Олег Поплагуев. Ему родители должны были оставить ключи от тёткиной квартиры… Олег, он ведь здесь? – она дождалась игривого кивка. – Что?! Тоже?!
– А то! Все совокупляются аки псы! Даже спиртного Робику не оставили.
Для убедительности Баула пнул пустой винный ящик.
– Главное, не выспалась, – пожаловалась гостья. – Ехала в плацкарте. Какая-то зараза от Бологого храпела. Только и мечтала, как бы до дому добраться. И нате вам, добралась! И уйти в два ночи без ключей некуда. Сейчас вот пойду и разгоню всех к чертовой матери!
– Ни боже мой! – всполошился Робик. – Как же можно сексующихся пугать? От этого импотенция случается.
– По себе, что ли, знаешь?
– Тьфу на вас! – Робик сплюнул через плечо. Подмигнул. – Ладно, не брошу в беде. Сейчас тихонько слиняем и – ко мне на дачу!
– Это с какой радости?
– Так мне и самому прилечь негде. Весь траходром расхватали. А до дачи – всего ничего, пятнадцать минут на такси. Как зовут-то такое диво?
– Кармела.
– Тогда тем более.
Робик ёрничал. Но на самом деле исподтишка любовался миниатюрной оливковой красавицей.
Кармела заколебалась, – деваться было и вправду некуда. Не на вокзал же возвращаться.
– Ладно, поедем, – решилась она. – Только сразу договоримся, чтоб не приставать.
– Как же это – не приставать? – Робик весело оскорбился. – Для чего ж природа-мать разделила человеков на мужчин и женщин? Ты погляди на себя в зеркало, – он легонько повернул ее за плечи. – Можно сказать, просто создана для коитуса!
– Для чего?!
– Для соития.
– Что?!! – Кармела отскочила. – Я вот щас в самом деле Олега разбужу!
– Разбудишь – дура будешь! – Робик поймал её ладошку. – Ну, набьют мне морду лица. И что с того? Тебе все равно пора женщиной становиться, а со мной лучше, чем с другими. Сама же наверняка прикидываешь, как это грамотно сделать. Ну отдашься какому-нибудь прыщавому недоумку-сверстнику. Ты о сексе, как вижу, ничего, он – еще менее того. Вот и будешь бегать стричь аборты. А то еще нежданную венерическую радость занесет. Или наболтает о тебе по округе, что было и чего не было. С Робиком совсем не то. С Робиком это, во-первых, в кайф. Опять же гарантирована полная тайна вкладов и аптекарская, можно сказать, санитария. Да и вообще – это вовсе вкуса надо не иметь, чтоб на Робика не запасть.
Кармела стояла, ошалелая. Не зная, как реагировать на услышанное. Она уже привыкла, что её всё время пытаются соблазнить. И сама научилась поощрять ухажеров, ловко проходя по грани дозволенного, но при этом сохраняя полную власть над ситуацией. С этим же отморозком всё было иначе. Половой акт, на который другие мужчины намекали иносказательно, сбавляя голос и смущаясь, в устах нахального патлатого выглядел совершенно естественно и даже уморительно.
– А ты, случаем, не дебил? – заподозрила Кармела.
– Да не. Нормальный половой урод, – Робик ничуть не обиделся. Интерес к женщине возник в юном Робике едва ли не с детского сада. В пятилетнем возрасте на Кремлевской ёлке он подбил сверстниц – дочерей ответработников – забраться под лестницу и показать друг другу письки. Их застигли.
– Порочный мальчишка! – кричала одна из мамаш. Робик сладко отмалчивался – порочность казалась ему орденом.
Слово «импотент» Робик услышал раньше, чем узнал, что такое вообще потенция, – в ту ночь он подслушивал под дверью родительской спальни.
В период полового созревания Робика трясло от одного вида женщин. Но поначалу успеху мешала сложившаяся репутация законченного хама. Он мог подойти к однокласснице и, изнывая от желания, предложить «впиндюрить по самое не хочу». Встречное желание, быть может, и присутствовало, но прямолинейность отпугивала. Всё изменилось в пятнадцать лет, когда в отцовском шкафу он обнаружил фолиант «Мужчина и женщина». Проштудировав его, напрочь переменил тактику обольщения. То, что раньше звучало как «загнать дурака под кожу», теперь произносилось томно и завлекательно – «копуляция». Он словно заговорил на неведомом, манящем языке. За партой нашёптывал одноклассницам о невинном легком петтинге. С чувственных вывернутых губ горячей мелодией перетекали в девичьи ушки диковинные, волнующие слова: минет, коитус, дефлорация, – преобразующиеся в затуманенном мозгу в экзотические минуэт, кактусы, фламинго. А от загадочных андроген, перверзии, парафилии на девушек веяло мифами древней Греции.
И – успех пришел.
К тому же флер неотразимого соблазнителя придавала ему репутация. Сын высокопоставленного партийного функционера, ведущий богемный образ жизни, – на такую «фишку» девочки западали безотказно.
– Так что? Вызываю такси? – выдохнул Робик, склонившись к девичьей шейке.
Кармела отстранилась.
В принципе, самоуверенный, многое повидавший, он и впрямь выглядел идеальным партнером для первого сексуального опыта.
Но сердце Кармелы Алонсо давно захватил отчаянный мальчишка, которого не видела с далекого пионерлагеря. Вратарь лагерной футбольной сборной, бросавшийся в ноги нападающим, сигавший с откоса в мелководье и – пунцовевший при всяком её взгляде. Да и сюда, в чужую квартиру, под предлогом ключа, приехала среди ночи в надежде увидеть его. Увидела, называется!
С дивана донёсся легкий стон. Через приоткрытую кухонную дверь хорошо были видны любовники. Клыш пошевелился во сне, одеяло соскользнуло на пол, но он так и не проснулся. Зато Любочка от ночной свежести заново возбудилась. Не раскрывая глаз, извернулась змеей.
– Маленький херувимчик натрудился, теперь спит, – заворковала она. – А вот мы эту соню разбудим. Лучше меня никто будить не умеет.
Через долю секунды воспрянувший Херувим, не раскрыв глаз и, кажется, не проснувшись, опрокинул ее на спину.
– Да! Да! Да-а!! – разорвал ночную тишину придушенный женский крик.
Боль исказила личико Кармелы.
– Вон из этого вертепа! – она подхватила сумку.
– Ко мне? – Робик засуетился.
– Да хоть куда!
Когда утром квартира Поплагуевых пробудилась ото сна, Робика в ней не было. А о приезде Кармелы Алонсо никто не узнал.
Проснулся Клыш, словно от толчка.
На углу тахты сидела совершенно одетая Любочка Повалий и курила, яростно стряхивая пепел на персидский ковер.
– Доброе утро, – осторожно произнес Данька, не уверенный, что попал в масть.
– Кому доброе, – Любочка не обернулась.
Рывком он сел рядом. Ткнул в благоухающий подполковничий тулупчик.
– Тут Граня вроде спал?..
– Его Алый за стеклом отправил. Стёкла вчера в подъезде перебили, доны хреновы… Теперь вставлять надо срочно, пока Алькины предки не вернулись. Скинулись, у кого что осталось.
– А сам Алька?
– К Наташке побежал замиряться. Только ничего у него с этой гордячкой не выгорит.
Клыш осторожно тронул ногой брошенный подле чемодан.
– А нету больше жениха! – коротко ответила на незаданный вопрос Любочка. – Всю ночь меня в квартире прождал, пока родители врали невесть что. А к утру, как врать стало нечего, уехал. Всё к черту! Какая же я дура! Считай, одной ногой в Москве была!
С накапливающимся раздражением она следила за бессистемными перемещениями любовника.
– Господи! Ты-то чего мечешься? Ну скажи что-нибудь!
– Да вот понимаешь, – Клыш заглянул под диван. – В горле – помойка. Не помнишь, я вчера не догадался бутылёк заначить?
– Сволочь! – Любочка подхватила чемодан и выскочила из квартиры, с чувством долбанув входную дверь.
Дверь вновь раскрылась, – вернулся Алька.
Любочка как в воду глядела: лица на нём не было.
– Не открыла Туська, – пожаловался он.
Приподнял тулупчик, обнюхал брезгливо:
– Вот это уж вовсе напрасно. Полушубок папаша не простит. Говорит, реликвия.
– А где Баула? – полюбопытствовал Данька.
– Кто его знает. Сто лет бы эту сволочь не видел. Я, говорит, сексуал-демократ. А сам оказался бобслеист на всю голову. Три стекла в подъезде повышибал. Хорошо, если до родителей не дойдет. Хотя какое там! Соседи такую гнусь подняли. Жалобу коллективную настрополили. Окна вставим, хоть накал чуток собьём. Буди, кстати, Павлюченка. Этот всю ночь Сонечку пахал. Сейчас ему самое время смыться.
– С чего вдруг?
– Зря, что ль, Сонечка, едва рассвело, свинтила. Рупь за сто – мамочке жаловаться помчалась. А она, на минутку, малолетка! Вникаешь?..
Алька оказался пророком. Спустя пяток минут в квартиру ворвалась нечёсанная, в цветастом своём халате-размахае Фаина Африкановна.
Цепким взглядом прошлась по гостиной.
– Где этот дристоман?! – злым, простуженным голосом рыкнула она.
Не дожидаясь ответа, кинулась в спальню. Через минуту появилась вновь. На крепком кулаке был намотан галстук. На галстуке – полуголый, непроспавшийся Павлюченок.
– Кто? Чего? Зачем? – лепетал он.
– Ну? И чего с тобой делать будем?! – вопросила Фаина Африкановна. Грозно.
Котька кое-как продрал глаза. Удивился.
– А ты вообще кто?!
– Смерть твоя! – Фаина Африкановна подбоченилась. – Ты, вражина, дочку мою, хворостиночку нежную, изнасиловал. Жизнь ребёнку покалечил. – Она развернулась и закатила оплеуху, от которой обессилевшего Котьку заново мотнуло на галстуке.
От страха и боли он побелел.
– Так чего делать будем? – заново подступилась Фаина Африкановна. – В тюрьму за изнасилование малолетки или жениться?
– Жениться! – без паузы выбрал Котька.
– Дочурку хоть любишь?
– Обожаю.
– Да? – Фаина Африкановна, изготовившаяся к долгой осаде, несколько смешалась. – Ну, не знаю. Кто отец?
– Моряк.
– С печки бряк?
– П-почему? Подводник.
– Тогда ничего. Так что? Готов, что ли, в ЗАГС?
– Мечтаю! – Павлюченок проникновенно приложил руки к груди.
– По мне, я б тебе, охальнику, яйца поотрывала. Но больно доча заступается, – неохотно смягчилась Фаина Африкановна. Несколько огорчённая, что не довелось полноценно поскандалить, поднялась.
– Вечером ждём свататься! – рявкнула она напоследок.
– Йес! – Котька вытянулся в струнку. Убедился, что дверь захлопнулась.
– Вот ведь какие падлы бывают, – пожаловался он.
– С новобрачной Вас! – съехидничал Алька.
– Да вы чо? Во им обломится! – Павлюченок сложил кукиш. – Живьём не дамся. Нашли лоха! Сам кого хошь на кривой козе объеду. На крайняк в армию сбегу!
Из коридора послышалось топанье, тяжелое, будто шаги командора, и в образовавшемся проеме образовалось дивное видение – Гранечка. В руках он с трудом удерживал сразу четыре бутылки «Токайского». Еще две выглядывали из боковых карманов.
– Тебя за чем посылали, скотина?! – простонал Алька. – Тебя за стеклом посылали!
– Да я как-то думал, думал, – сокрушенно протянул Гранечка. – И потом, кто скажет, что это не стекло, пусть первым бросит в меня камень.
– Э, пропади оно! Отвечать, так за всё разом! – Алька выхватил одну из бутылок, оббил сургуч о батарею, ловко содрал зубами полиэтиленовую пробку. Теперь он точно знал: если провалится в вуз, от армии его не спасет никакая сила.
Осень разметала выпускников.
Даньку Клыша, не без протекции дяди Славы, приняли на престижный юрфак Ленинградского университета. Упрямец Гранечка в Бауманку так и не поехал. Армия с его плоскостопием ему не грозила. Подал документы на заочный факультет в химико-технологический и поступил помощником мастера на химкомбинат – чтоб не зависеть материально от отца.
Алька Поплагуев отправился поступать на исторический факультет МГУ. На вступительном экзамене затеял спор с профессором о теории пассионарности Льва Гумилёва, которой как раз увлёкся. Спорили долго, остервенело. И, к всеобщему изумлению, – был зачислен.
Смирив гордыню, сделал новую попытку примириться с Наташкой. Но оказалось, что та, сдав единственный положенный для золотой медалистки экзамен, на лето уехала к тётке в Прибалтику.
Огорченный Алька загулял и в колхоз, куда направлялись все первокурсники, не поехал. Вместо этого предъявил справку о болезни, что прямо в ресторане «Селигер» сфабриковал новый дружок – доктор Аграновский. Справка была выписана на барной стойке мотеля «Берёзовая роща». Прочитать её перед подачей Алька не удосужился, и тут же был отчислен, – на справке красовался штамп гинекологического отделения.
И июньская пьянка вышла-таки ему боком. Вернувшийся из длительной командировки Поплагуев-старший получил повестку: явиться в товарищеский суд ЖЭКа для разбирательства по факту мелкого хулиганства со стороны гражданина Поплагуева Олега Михайловича. Унизительная повестка в товарищеский суд, да еще по факту мелкого хулиганства, крепко задела прокурорское самолюбие. Это ему-то, бравшемуся за дело не иначе как с перспективой смертной казни. Но окончательно вывел его из себя обнаруженный тулупчик с погонами – потрепанный, с впитавшимся запахом рвоты.
– Падаль ты человеческая! – потрясая овчиной, кричал он на сына. – На святое посягнул! Я ж в этом полушубке Берлин брал!
Алька недоверчиво хмыкнул. Но на сей раз отец сказал чистую правду. Берлин лейтенант Поплагуев действительно брал. После окончания войны по линии НКВД отвечал за вывоз трофейного имущества.
– Сгною в стройбате! – процедил Михаил Дмитриевич.
Дожидаться, когда отец исполнит свою угрозу, самолюбивый Алька не стал. Сам «забрился».
В райвоенкомате под выцветшим плакатом «Советский призывник – самый гуманный в мире» Поплагуева провожали друзья: Клыш и Граневич. До последней минуты Алька вертел головой, но не дождался. Гордая Наталья Павелецкая на проводы не явилась, – так и не простила измены.
Котьке Павлюченку после окончания вуза грозила всего-навсего годичная служба рядовым. Но и от этого секретарь крупнейшей комсомольской организации города собирался отлынить. Однако под угрозой принудительной женитьбы Павлюченок добровольно явился в военкомат и сообщил, что хочет отдаться Родине. Родина удивилась, но не погнушалась.
Увы, выполнение священного долга не спасло его от исполнения долга семейного. Карающая рука бдительной Фаины Африкановны настигла дезертира, и за неделю до дня явки был он оженен. Причем на всех свадебных фотографиях молодые оказались запечатлены втроем. Справа от ошалелого новобрачного улыбалась очаровательная Сонечка. Слева зятя цепко держала за плечо могучая мать невесты.
Котька Павлюченок не сразу догадался, в какое счастье ввалился.
В отличие от дочери, Фаина Африкановна новоиспеченного зятя не признала категорически. С самого начала, как только проклятый кобель лишил невинности ее младшенькую, разъяренная мать попыталась заставить дочь написать заявление об изнасиловании. И только неожиданное упрямство Сонечки да насмешки старшей – Светки вынудили Фаину Африкановну отступиться. Но оскорбления она не забыла. Собственно, Сонечка и на замужестве настояла, – впервые пойдя против воли матери. В одном она покорилась – пообещала, что жить молодые будут вместе с Фаиной Африкановной, которая не могла даже помыслить расстаться с любимицей. Котька, ютившийся с матерью в комнатёнке, не возражал.
В результате первая брачная ночь едва не оказалась для него последней.
Фаина Африкановна как раз перемахнула бальзаковский возраст. То есть еще далеко не была стара. Но то ли в силу затянувшегося одиночества, то ли – всё того же советского воспитания, при слове «секс» она вздрагивала, как при публичной нецензурной брани, а к тому, что предшествует деторождению, относилась подозрительно, как к занятию постыдному, хотя и необходимому, – что-то вроде мочеиспускания. В брачную ночь приспособилась подсматривать за молодыми в заранее пробуравленную дырочку. Даже табуреточку придвинула. Увиденное и услышанное Фаину Африкановну ужаснуло. Стало несомненно – крошка-дочурка попала в лапы гнусного извращенца. Наутро, прежде чем молодожены поднялись, она отправилась к участковому – с требованием посадить зятя за изнасилование.
– В чем изнасилование-то? – перепивший накануне участковый изо всех сил пытался осмыслить написанное.
– Там все указано! – Фаина Африкановна насупилась. – Склонял к непристойному соитию мою дочь.
Она замолчала, гордая удачно ввёрнутым ученым словцом.
– В смысле, жену? – веселея, уточнил участковый. – И в чем выразилась непристойность?
– Он ей свою пакость в рот совал.
Участковый, извинившись, вышел. Вернулся в компании оперов. Глаза у всех предвкушающе блестели.
– Так и что, стало быть, делал? – торжествующе косясь на друзей, повторил вопрос участковый.
– Сказано же, пакость в рот засовывал. Вот такую пакость (Ф.А. развела руки) – живому человеку!
Оживление сделалось всеобщим.
– А она что, сопротивлялась? – задал вопрос наиболее нетерпеливый.
– Нет, покорилась, бедняжка, – со вздохом признала Фаина Африкановна. – Я ж ее, горлицу, в покорности вырастила. А после так чавкала, так хлюпала. Боялась, не захлебнется ли. Посадить его, извращенца, и все дела!
Посадить, к огорчению Фаины Африкановны, не удалось. Более того, после разговора с участковым Сонечка впервые в жизни наорала на мать. Обескураженная нежданной переменой в ласковой любимице Фаина Африкановна лишь хлопала большими, как у дочери, глазами:
– Господи, дочурка. Да как же ты так на маму можешь? Ты ж не Светка-оторва! Ведь единственно за тебя заступиться хотела. Все равно с кобелиной этим у нас жизни не будет.
Через неделю после свадьбы молодожён убыл к новому месту службы – в штаб войск ПВО Киевского округа.
На проводах Баюн как-то сноровисто надрался и слёзно просил остающихся приятелей приглядеть за женой. Последнее ему было обещано столь охотно, что Котька зарыдал – горько и прозорливо.
А спустя еще месяц семейство Литвиновых сыграло вторую свадьбу. Старшая, Светка, нечаянно забеременела и скоропостижно вышла замуж за вечного претендента – беззаветно влюбленного в неё Осипа Граневича. За небогатым свадебным столом был единственный истинно счастливый человек – новобрачный.
Свадьба, свидетелем на которой был, само собой, Данька Клыш, состоялась в субботу. А в понедельник Гранечка выехал на два дня в Кашин – навестить в пульманологическом санатории мать. Автобус по дороге сломался, и ближе к ночи на попутках молодой вернулся домой. Тихонько, предвкушая сюрприз, открыл дверь. И – сюрприз состоялся. Его не ждали, – супружеское ложе осквернялось со скрипом и стонами.
Светка при виде мужа, надо сказать, слегка смутилась.
– Чего вернулся? Забыл что, растяпа? – поинтересовалась она.
Наутро не оправившийся от потрясения Гранечка поделился горем с собственным свидетелем.
– Представляешь, через день после свадьбы! – для убедительности Гранечка растопырил два пальца. – Главное, отъехал на какие-то пятнадцать километров. И на тебе – успела!
– Еще бы не успеть! – посочувствовал Клыш. – Пятнадцать! Чего? Ки-ло-метров! А членчик, между прочим, всего-то как раз пятнадцать! чего? Сан-ти-метров. Ты сравни расстояние! Короче, разводись и поставь свечку, что быстренько всё разъяснилось. А то б так и жил, – она тебе рога наставляет, а ты, дурашка, мучаешься. Понял?
– Понял, – Гранечка безысходно вздохнул. – Может, переговоришь с ней?
– О чем?!
– Вообще. Может, как-то ошиблась. Я бы, наверное, простил.
– О, как запущено-то, – обескураженный Данька отправился к Светке.
Та как раз собирала вещи.
– Дура я! – с порога залепила она. – Достали отовсюду: ребенку нужен отец! Только мне-то он зачем?
– Ребенок хоть Гранькин?
– Может, и его. Почем я знаю? Он в те дни тоже краем зацепил. Не, гори оно всё – чем за каждый мелкий перетрах отчитываться, уж лучше проживу матерью-одиночкой. Честнее!
В тот же день Светка вернулась к Фаине Африкановне. Но стать матерью-одиночкой ей не довелось. Осип Граневич категорически отказался дать официальный развод, заявив, что ЕГО ребенок безотцовщиной расти не будет.
В тот год военкомат собрал в доме Шёлка богатый урожай. Из армии все призывники писали Гранечке.
Валеринька Гутенко, угодивший в Группу советских войск в Германии, по обыкновению, привирал. Сообщал о каких-то немыслимых попойках в компании сисястых немок, которых он, само собой, трахал новым, стенобитным способом, а именно – приставив к Берлинской стене, так что зад их сотрясался в пределах социалистического лагеря, а голова и подрагивающие груди таранили стену, пробиваясь к капитализму; об угнанных и пропитых танках и, что уж вовсе невероятно, о тесной своей дружбе с авторитетнейшим человеком – начальником штаба дивизии полковником Танцурой, которого учит играть на баяне. Но, должно быть, про начальника штаба Валеринька всё-таки не соврал. Потому что всего через полгода был каким-то диковинным образом переведён во внутренние войска, а оттуда направлен в Таллинскую среднюю специальную школу милиции, готовящую оперативников ОБХСС.
Котька Павлюченок, хоть и в душевном раздрае, предусмотрительно прихватил характеристики и рекомендации от комбината и от обкома комсомола. Так что по прибытии на место был назначен директором гарнизонного клуба, где организовывал смотры самодеятельности и даже прослыл экспертом по джазу. Через год, перед самой демобилизацией, был принят в партию – уже в качестве полноценного члена.
Невезучий Фома Тиновицкий ухитрялся сохранить невезучесть, даже оказавшись лучше прочих. На первых же стрельбах, стреляя из гранатомёта, дважды поразил цель. Ему перед строем объявили благодарность и назначили гранатомётчиком. Отныне на учениях он таскал на себе тяжёлую железную трубу. Остальные – не столь меткие – бегали налегке с автоматами. Помимо Гранечки, писал Фома и Зулейке – на Главпочтамт до востребования. Ответов не получал.
(7 МАЯ 1985 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и постановление Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»)
Глава 3. Зигзаг удачи Даньки Клыша
Зимний семестр третьего курса Данька Клыш заканчивал с абсолютным баллом.
За два дня до последнего экзамена Клыша разыскали в одной из аудиторий и потребовали немедленно прибыть в кабинет к декану. Тот без предисловий протянул лежащую на столе трубку:
– Из КГБ.
Звонил дядя Слава.
– Как экзамены? – бессмысленно произнес он, будто только из любопытства отвлёк от дела массу занятых людей.
– Последний остался. Послезавтра, – сообщил Клыш. Он не выдержал. – Говорите же, что случилось.
Где-то вдалеке дядя Слава засопел – в унисон с телефонными хрипами:
– Такое дело, парень. Отец у тебя погиб.
Клыш почувствовал, как внутренности ухнули вниз.
– Сам вчера узнал. Вот… сообщаю.
– А похороны? – еще не закончив фразу, Клыш понял ее бессмысленность.
– О чем ты? И где захоронен, неизвестно. Такая его боевая доля, – дядя Слава будто взрыднул.
– Мама как? – Клыш представил рыдающую мать, и у него сжало горло.
– Известно как. Но ничего. Не одна, – среди людей. В общем, мы тут с ней поговорили. Сдавай свой экзамен, чтоб подчистую. Дотерпи, так сказать. Ты ж у нас мужик. А после ждем с победой. Получается, через три дня. Так?
– Так, – глухо подтвердил Клыш. Он положил трубку и уже знал, что надо немедленно сделать. Оставлять маму одну наедине с таким горем – вот это точно не по-мужски.
Ранним утром Клыш выскочил из скорого поезда со стоянкой одна минута и поспешил домой, торопясь застать мать до того, как уйдет она на работу. Скорее всего, уйдет. С её характером переносить горе легче на людях. Клыш представил себе измученную, исстрадавшуюся мать. Если сумела заснуть, то какой же неожиданной радостью станет для нее пробуждение, когда увидит сидящего на кровати сына. Она потеряла одного мужчину. Но хотя бы рядом окажется другой – повзрослевший сын, которым Нина Николаевна так смешно и невпопад гордилась. И от мысли, как бросится она, рыдая, к нему на шею, даже чуть улыбнулся.
У Даньки не хватило терпения дождаться троллейбуса. Просто побежал вдоль проспекта по хрумкающему снежку, то и дело оглядываясь через плечо. Даже не сомневался, что если троллейбус появится, то он надбавит в беге и успеет к остановке. На проспекте то тут, то там, возле винных магазинов, обнаруживал кишащие скопления людей. Магазины ещё были закрыты. Но люди гудели беспокойными шмелями, готовясь к штурму. Вовсю шла борьба с пьянством и алкоголизмом.
На лестничной площадке Данька, тихонько придерживая ключи, чтоб не звякали, отпер квартирную дверь, разулся в темноте, на цыпочках подошел к спальне, старательно, по памяти стараясь не ступить на скрипящую половицу. И все-таки наступил на что-то. Он наклонился и поднял мужскую туфлю. Рядом на боку валялась еще одна, очевидно, также сброшенная в спешке. Обувь была ему незнакома. Но по качественной лакированной коже, что-то за сорок – пятьдесят рублей, догадался, чья она.
Данька ощутил во рту горьковато-кислую слюну. Заглянул в соседнюю, свою комнату, уговаривая себя, что именно там спит гость. Комната была пуста.
С недобрым предчувствием пальцами толкнул от себя дверь материнской спальни. И, уже увидев всё, пожалел. Потому что понял: как бы ни сложилась жизнь дальше, эта внезапная картинка навсегда впечаталась в его мозг, расколов сознание на «до» и «после».
Мать, чуть прикрытая скомкавшимся одеялом, лежала на спине, а сверху, поверх одеяла, на ее бедрах по-хозяйски возлежала масластая мужская нога. Дыхание матери было едва уловимым. А вот дядя Слава Филатов сопел во сне напористо, натруженно.
«Еще и башмаков не износила», – отчего-то заплясало в Данькиной голове.
Захотелось так же тихо, как вошел, испариться.
Он переступил ногами. Половица под ногой всё-таки скрипнула. То ли от скрипа, то ли от привычки просыпаться точно в это время, мать размежила веки, едва улыбнувшись слабому зимнему лучу. В следующую секунду она будто воткнулась в расширенные глаза прислонившегося к косяку сына. Ужас исказил умиротворенное перед тем лицо ее. Мать сглотнула судорожно и страшно закричала.
Крик этот, пронзительный, от осознания непоправимости случившегося, взметнул с постели дядю Славу. Как был голый, он дико вгляделся в застывшее у дверей привидение. Заметил, что взгляд Даньки прикован к вялому его кончику, болтающемуся под расползшимся животом, и механически дернул на себя одеяло, тем самым обнажив любовницу. И только когда она отчаянно вцепилась в свой край, окончательно проснулся, разжал руку и ухватил первое, что подвернулось – подушку, которой и прикрылся.
– Скорбите? – усмехнулся Клыш.
Он вернулся в прихожую, заново принялся натягивать обувь.
Из спальни донёсся придушенный шёпот матери. Затем что-то упало, видно, сбитое в спешке. В коридор, натягивая рвущийся по швам женский халат, выскочил дядя Слава.
– Даниил! Ты должен понять! – выпалил он.
– Да понял. Чего не понять? Как не утешить вдову друга? – процедил Клыш.
Дядя Слава с силой ухватил его за бицепс.
– Слушай, ты! Я ведь могу и по-мужски! У тебя нет права плохо думать о матери! Понимаешь, не смей о ней плохо думать.
Данька заметил тень на дверном стекле, – мать, затаившись, жадно вслушивалась. Губы Клыша сложились в скобку.
– Я еще и думать не должен, – рыкнул он. Предостерегающе скосился на плечо. – Уйди-ка с дороги от греха, утешитель!
Ему и впрямь до зуда захотелось избить материнского хахеля. Даже прикинул, как пройдёт пристрелянный правый боковой.
И крупный дядя Слава отступил, признав в прежнем задиристом пацанёнке нового, вылупившегося, опасного человека.
– С матерью бы все-таки поздоровался, – попросил он.
Не ответив, Данька выбежал на лестничную клетку.
Прямо у подъезда наткнулся на дворника Хариса. Опершись на совковую лопату, тот внимательно вглядывался в ладного, смутно знакомого парня. Вспомнил, кивнул. Данька не ответил. Он вообще ощущал, будто внутри образовалась какая-то пленка, отгородившая его от окружающего мира. Чтоб никого не встретить, забежал за кусты акации. Накануне выпал первый снег, и едва не весь дом выскочил выбивать ковры. Теперь поляна перед сараями лежала будто шахматная доска – в белую и грязно-серую клетку.
Но даже этого Клыш не заметил. Мир рухнул. Был легендарный отец, мать – безупречная жена, которую поддразнивал «Ярославна на Путивле», был верный друг отца, готовый прийти на помощь. И вдруг всё это рассыпалось осколками, будто зеркало тролля. И осколки впились в него.
Хрумкая подошвами, брёл он по пустынному утреннему двору вдоль сараев, мимо трансформаторной будки. Мимо сколоченной к зиме деревянной горки, на которой сам когда-то слыл признанным царь-горы.
Уткнулся в деревянный барьер. Оказывается, ноги сами принесли его в беседку. С детства – спасательный якорь. Он уселся на заваленную снегом скамейку.
Таких потрясений в недолгой Данькиной жизни еще не случалось.
Надо было уходить, – он не сомневался, что перепуганная мать выбежит следом. И, конечно, первым делом побежит к беседке, откуда годами привыкла извлекать его к концу дня. Представить, что сейчас ему придется что-то говорить, что-то отвечать, когда в глазах всё еще стоит постельная сцена, ему было тягостно. Но – поразительное дело – и уйти не мог. Будто жила надежда, что мать сможет объяснить ему что-то такое, что вновь восстановит лопнувший мир.
Мать и впрямь вскорости появилась. Он увидел, как выскочила она из-за угла, в наскоро накинутом поверх халата пальто, полусапожки – кажется, на босу ногу. Подбежала к Харису, и тот метлой показал в сторону беседки. По непривычно всполошным жестам Данька понял то, что поначалу не приходило в голову: мать боялась, как бы он не совершил чего над собой.
Обогнув трансформаторную будку, Нина Николаевна увидела сына и перешла на мелкий, робкий шаг. Будто страх за жизнь сына, что нес её, иссяк и уступил место другому страху.
Данька, опершись спиной о столб беседки, продолжал сидеть с прикрытыми глазами, словно дремал. Мать робко подсела.
– Данечка! Сыночек, – пробормотала она с покаянной интонацией. – То, что произошло, – ужасно. Но это не должно отгородить нас друг от друга. Нас ведь только двое. И ты всегда для меня был самым дорогим… Главным моим человечком. И остаёшься.
Сын отстраненно молчал. Мать продолжила.
– Именно потому я скажу тебе то, что иначе не сказала бы никогда. Просто не смогла бы. Помнишь, я рассказывала тебе, что время от времени езжу на тайные встречи с папой. Даже обещала, когда подрастешь, взять и тебя. Я врала тебе, сын, потому что ты этого очень хотел. На самом деле, в последний раз мы виделись с твоим отцом тринадцать лет назад, когда ты сам его запомнил.
– И что?! – выкрикнул, с надрывом, Данька. – Он там, на другом конце земли, за Родину… – он сорвался. – Думает, что здесь его ждут, любят, а ты! Как последняя…
Он едва удержался от оскорбления. Но сквозь размеженные веки увидел, как спрятала мать пылающее лицо в ладонях, будто защищаясь.
Она выдохнула, окончательно решаясь:
– Нет, сынок. Он так не думал. У него самого уже много лет в Америке другая семья.
– Что?! Это тебе твой любовничек наплёл?! Который под личиной друга… – Данька запнулся, выискивая словечко побольнее.
– Папа сам рассказал! – выкрикнула, опережая, Нина Николаевна. – Как раз тогда. И сам предложил на моё усмотрение развестись.
По тому, с каким трудом гордой матери далась эта фраза, Данька понял, что услышал правду. И еще понял, из-за чего она отказалась от развода. Не из-за денег, что регулярно присылали. Из-за него. Сыну нужен был отец, пусть и виртуальный. И она обрекла себя на роль «соломенной» вдовы.
Нина Николаевна, нервы которой были обострены, в свою очередь, угадала, что творится в душе сына.
– Отец тоже не виноват, – вступилась она за покойного. – Ему ж там жить – сроки на десятилетия отмерены. Оказалось, – до конца жизни. А мужчина без семьи, когда ты весь на виду, – заведомый провал. Всюду глаза и уши. Все судят, приглядываются… Никто не виноват, – убежденно повторила она.
Замолчала выжидательно.
– Как давно вы с… этим? – процедил Данька.
– Мы старались, чтоб ты не узнал.
– У него ж в Москве, сколь помнится, своя семья.
– Он давно разведён. Много раз предлагал сойтись. Но это было невозможно.
В этих словах было всё. Невозможно – потому что это разрушило бы мир в душе сына. И даже внезапная смерть отца ничего бы не изменила, если бы не сегодняшняя случайность. – Пойдём домой, а? – робко предложила мать. – Дядя Слава… Он уехал. Я сказала, чтоб не появлялся, пока… ты сам не решишь.
– Что уж тут решать? – Данька поднялся над сгорбившейся матерью. Жалость к ней толкала обхватить ее голову, прижать, поцеловать в макушку. Но утренняя сцена, засевшая в голове, делала прежнюю нежность невозможной. Никогда уж не забыть ему вида голого материнского живота с возложенной по-хозяйски мужской волосатой лапой. И значит, никогда он не сможет быть с матерью таким, каким был до сих пор. Даже поймал себя на том, что мысленно вместо привычного «мама» произносит жёсткое – «мать».
– Я по друзьям. После приду, – сказал он. Мать вскинулась испуганно.
– Приду, приду, – успокоил он её.
Превозмогая себя, примирительно потрепал мать по волосам. И пошел к арке.
Он не оборачивался. Но знал, что мать будет провожать его взглядом, пока он не скроется из виду.
За аркой он свернул к девятому подъезду, к наружному, выходящему на проспект выходу. Вбежал на третий этаж. Дверь открыла тётя Тамарочка. В кухонном фартуке, с «Герцеговиной флор» в зубах.
Из глубины квартиры доносился напористый голос дяди Толечки.
– Клышонок! – непритворно обрадовалась тётя Тамарочка.
Данька смутился:
– Я насчёт Альки спросить! Как он там?
– Этот-то? Непутёвый? Ну отец у него полный дурак, даром что прокурор! Хотя, может, потому и прокурор, что дурак… Но мы-то что ж? Неужто не освободили бы? Нет, забрился втайне, будто неродные. Уж как дядя Толечка возмущался!
– Пишет?
– Да пусть бы и вовсе не писал, баламут! Вот скажи, не паразит ли?
Тётя Тамарочка запыхтела, словно едва остывший чайник, заново поставленный на комфорку.
И – без перехода – захлопотала:
– Голодный, конечно. Я как раз пельмени замесила.
Она продемонстрировала обляпанные фаршем руки. Тыльная сторона покрылась паутинкой да мешки под глазами оттянулись и побурели.
– Пройди пока к дяде Толечке. Через полчаса за стол сядем. Расскажешь про себя.
Клыш прошел в гостиную. Земский, непривычно хмурый, с телефонной трубкой в руке, навис над столом, уперев локти в скатерть. Будто острыми этими локтями давил невидимого собеседника.
При виде Даньки брови его на секунду сложились домиком – удивленно и обрадовано. Взметнул приветственно кулак. Но тут же вновь насупился.
– Да что ты мне, Дмитрий, хрень городишь! – рыкнул он. – Я тебе про Фому, а ты!.. Не надо мне по третьему разу рассказывать, что не ты эту антиакогольную, прости Господи, компанию затеял! И исконно русскими вопросами не дави. Решать станем в порядке поступления. Сначала – что делать. А уж после – кто виноват. Ты мне ребят вызволи!.. Что ж опять бубнёж заладил?! Да в чем виноваты?! Три взрослых мужика, один из которых главный инженер крупнейшего комбината, другой и вовсе – парторг! – вечером! пошли в баню отметить день рождения. А на выходе их встретили. Милицейский патруль. То, что этого стукача-банщика отныне разве что в котельной к лопате допустят, я позабочусь. Но кто-то же его из твоих или из милицейских настрополил. И кто их, кроме тебя, в узде держать должен? Не псы всё-таки цепные, чтоб за каждым ату впереди собственного визга гнать!
Он помолчал, тяжело отдуваясь. Отмахнулся от тёти Тамарочки, вбежавшей с прижатым к губам пальцем.
– …Если б протокол составить не успели, так и разговора бы не было. А ты их вот так освободи – с протоколом. Мне без разницы, успели в райком стукануть или нет, но чтоб ребят освободил! Ты не на контроль бери. Ты выпусти! Запиши фамилии… Да нет, запиши: откажешь, пусть тебе потом пофамильно стыдно будет. Значит, Горошко, Оплетин и третий с ними… Фамилию не расслышал. Помню, что имя редкое – Роберт… А! Займешься? А ты не просто займись. Ты скажи по-русски – сделаю!.. Вот это уже конкретно.
Лицо его чуть разгладилось:
– Значит, так, Дима! Через сорок минут жду тебя вместе с моими ребятами в чайной. А нет, так, не обессудь, – нет!
По комнате разнеслось гулкое пикание.
– Что за диковинное диво – русский человек? – дядя Толечка показал Даньке трубку. – Почему любую, даже сто́ящую мысль, нужно вывернуть маткой наружу? Генсек-пьяница – беда. Так, оказывается, генсек-трезвенник – беда ещё худшая. Недавно звонок из Грузии – дружок мой стародавний, винный академик, застрелился. Всю жизнь лозу суперлюперособенную растил. Элиту небывалую! Дрожал над ней, как над детьми не дрожал. На загрансимпозиум поехал с докладом по ней. Вернулся, – лежит, под корень порубленная. Местный секретарь райкома отчитался. И как же так выходит, что в бутерброде человеческом при всяком нажиме по краям выдавливаются дураки. А сверху ещё и мерзавцы наипервейшие! Вот тебе, кстати, на будущее лакмусовая бумажка: если в каком деле наверх пробивается что есть талантливого и деятельного, значит, с главным порядок. А если сверху серость карьерная, значит, и в начинке гниль. И тогда беда…
Он, наконец, с чувством впечатал перемотанную трубку в рычажки, так что очередной кусочек пластмассы отлетел на край стола, обхватил Даньку за плечи, подвёл к окну:
– Дай-ка тебя разглядеть! Окреп! Всерьез окреп!.. А вот третий дружок ваш как был пухлячком-пуховичком, таким и остается. Вся сила в мозг ушла.
– Оська?
– Был Оська, да весь вышел, – дядя Толечка добродушно хохотнул. – За два года вуз экстерном закончил. Да что ему этот вуз? Разрешили бы, за семестр всё б отщелкал. Он у меня уж с год без всякого диплома сначала сменным инженером был, а ныне – с дипломом – за начальника цеха. А по уровню, скажу: у нас Горошко – главный инженер. Как раз при тебе из кутузки вызволяю. Не вызволю, так завтра партбилет на стол положит, голову на плаху. Тоже голова немалая. Но дай год-другой, – за Граневичем бумаги на подпись носить станет. Папку, да! – мысли его вновь переключились. – Отпуск я Осипу, правда, на неделю дал. Отца он схоронил.
– Мать написала, – подтвердил Данька.
– Сильный доминошник был! – дядя Толечка вдохнул. – Ладно, впрочем, когда старики умирают. Жалко, конечно… Но вот юность! Уж кому жить-то… На кладбище успел побывать?
– На кладбище? Почему?
– Ну, у Натальи на могиле.
– Какой Натальи? – Клыш заставил себя вернуться в настоящее. Что-то из того, о чем говорил дядя Толечка, он не расслышал.
– Как то есть?! Альки нашего любовь. Наташка Павелецкая.
– Что Наташка?!
– Так десять дней назад погибла. Ты что?! Неужто мать не сообщила?.. Данька, погоди!
Хлопнула входная дверь. В гостиную с кастрюлькой в руках, вся в фрикаделичном пару, вбежала Тамара:
– Дверь, слышу… А где?..
– Понимаешь, Тома, – Анатолий Фёдорович озадаченно поскреб крутую лысину. – Он, оказывается, не знал про Наталью-то.
Пригрело. Первый, ранний снег стаял, растёкся грязью по жухлой траве, по трещинам в асфальте. Промозглый двор был пуст. Лишь на скамейке у седьмого подъезда взмокшим грачонком нахохлился Гранечка. На подсгнившем брёвнышке стоял мутный, заляпанный стакашек, и таким же мутным казался Оськин взгляд, когда поднял он оплывшее лицо. Мутным и безысходным.
– Дани-ил! – в запевной своей манере протянул он. – А у меня папаша откинулся. В ванной мылся пьяный и – лампу уронил. А я как чувствовал – предупреждал.
Он угрюмо хихикнул.
– Мать перед этим опять избил. И – уронил. Судьба. Аз есмь воздастся! – отчеканил он, то ли Клышу объясняя, а скорее – в какой раз вдалбливая эту мысль в себя.
– С Наташкой что, правда?.. – Клыш зачем-то показал на окна Земских.
– Да, погиб ангел наш, Наташенька, – витиевато забормотал Гранечка. Опережая вопрос, воздел руку. – Как истинный ангел, – от молнии. К тетке в деревню ездила, и по полю на велосипеде, в грозу. Спряталась под дерево. Там и дерево-то, говорят, одно на все поле было. Прямехонько и… Хоронили в белом платье и фате, – вечная теперь невеста. Лежит, в лице ни кровинки. Как лист бумаги. А уж как Светочка рыдала. Как рыдала!
Он выудил из кармана початую липкую бутылку с кубинским ромом «Гавана» – наипаскуднейшим из всех существующих ромов – раскрутил и, давясь слезами и отвращением, сделал несколько глотков прямо из горлышка, – раньше у него так не получалось.
– Алька насчёт Наташки знает?
– В первый же день телеграмму послали. Раз не приехал, значит, не отпустили. Армия – не санаторий. А так, формально, – даже не жена.
– Как бы с горя в самоволку не рванул, – Клыш представил себе, как за тысячу километров отсюда рвется с короткого поводка вольнолюбец Поплагуев. Поёжился. Отобрал бутылку, глотнул, вернул Оське. – Где достаешь-то в безалкогольном городе?
– Это всё Фома! Раньше среди байкеров верховодил, теперь у винных магазинов. Ему тоже нынче свет с копеечку. Вернулся на гражданку, а Зулию-то Харис выдал. За Меркина, директора овощного магазина. Вот и пьёт беспробудно. Виртуозничает, как прежде, на мотоцикле.
– Как же он на байке – пьяный?
– Не-е! Байк на приколе. К вечеру выводит попастись. Растворит сарай, заведёт, голубятню откроет. Байк тарахтит, а он рядом среди дворняг. И – голуби в небе.
Из подъезда в светлом прорезиненном плаще, в жёлтых резиновых сапожках вышла Светка Литвинова. Приветливо помахала Клышу. Без церемоний отобрала у Грани недопитую бутылку.
– Хватит про Фому! Сам какой день жрешь без просыху! – Гранечка покорно сморгнул. – Ну представился папаша твой несусветный. Что ж теперь? Зато мать целее будет. Сам же говорил, – праздник!
– Праздник, – уныло согласился Гранечка. Он обхватил Светкины колени, вжался лицом. – Как жить-то с этим, Светочка?
– Вот урод, – Светка зыркнула на циферблат. Что-то прикинула. – Ладно, ступай, забегу прямо сейчас на часок.
– А не обманешь опять?! – Гранечка обнадеженно вскинул голову.
– Иди! Горе моё.
Боясь, что она передумает, Оська вскочил. Неловко кивнув Клышу, заспешил в подъезд. Перед дверью задержался:
– Сам-то надолго?
– Думал, надолго.
Светка проводила пухлую фигуру взглядом.
– Жалко его, недотепу.
– Он не недотепа. Он – нежный, – возразил Клыш. Заметил горькую усмешку. Подобрался. – Насчёт отца его… Ты что, на Оську думаешь?
– И думать не хочу! Вот уж о ком не пожалею! – оборвала разговор Светка.
Настаивать Клыш не стал. Мотнул подбородком на сарай Тиновицких.
– Оська говорит, Харис Алию замуж выдал? Как же согласилась?
– А чего она? Овца и есть овца. Стеганули и – пошла в стойло. Одно слово, – татарка!
– Как Фома перенёс?
– Нормально перенёс. Пьёт запоем.
Светка, махнув ручкой, вернулась в подъезд – вслед за Оськой.
Клыш бесцельно брёл по проспекту.
Город после первого снега стоял сырой и хмурый, будто с похмелья. Накрапывало. Потому улицы опустели.
Зато у винного, за татарской мечетью, где прежде давали с заднего хода, бесновалась толпа.
Клыш задержался у крыльца.
Оставалась минута-другая до открытия. Несколько старушек, из тех, что кормились перепродажей очереди, изо всех сил пытались сохранить порядок, выстраивая людей по номерам. Среди них Клыш приметил бабу Шуру, когда-то торговавшую в Шёлке опивками из детсадов. В пальтице с вытертым лисьим воротником, она бойко размахивала списком номеров.
И тут магазин открыли. И – все, с рёвом, криками, ринулись разом. Кто-то смял, кого-то оттёрли.
Баба Шура попыталась перегородить собою вход. Острый локоть врезался ей в зубы, отбросив к перилам. Клацнув, она осела. Вытащила разбитую вставную челюсть, попробовала соединить и – зарыдала. Смятый, бессмысленный листок с номерами валялся рядом.
Образовался бурун: из магазина принялись выбираться всклокоченные, победно трясущие стеклянной добычей люди. В узком проёме они сталкивались с прущими внутрь. Матерная ругань клубилась над крыльцом, будто гром, предвещающий грозу. В воздухе запахло дракой.
Из подсобки вышел Фома Тиновицкий. Увидел Клыша, ощерился, широко развёл руки, приобнял, окатив крепким духом.
– Здорово, кровавый!
– И вам, байкерам, безаварийной езды.
При слове «байкеры» Фома досадливо поморщился. Ткнул в крыльцо, на котором как раз начинался мордобой.
– Что? По мозгам?
– Никогда бы не подумал, что трезвость так омерзительна, – Данька повёл плечами.
– Накатим за встречу? – предложил Фома. – Я тут коны держу.
Он щелкнул пальцами в сторону одной из старушек, и та понятливо устремилась в подсобку.
Клыш отрицательно мотнул головой, – настроения распивать за углом у него не было.
Но пьяненькому Фоме, похоже, не терпелось выговориться.
– Алия-то моя замуж вышла, – сообщил он. – Муж завидный, не мне чета. Одних брюк, говорят, в шифоньере с десяток пар. И все без бахромы. Мигом с Харисом сторговались.
Он икнул.
– С геофаком что? Завязал с мечтой?
Фома горько скривился.
– Какой уж геофак? Будто сам не видишь? И регаты с ралли там же. – Сам заметил, что выговорилась двусмыслица, но отвлекаться не стал. – Знаешь, Данька, махну с утра – вроде, в душе развиднеется и сразу – мечта на горизонте. А потом опять хмарь так накатит, – кажется, разогнал бы байк под завязку и – в какую-нибудь фуру – лоб в лоб! Чтоб ничего больше. А дабы не разогнать, накачу ещё стопарь-другой – и опять в нирване. Такая вот ныне моя мечтательная география.
– А без пития никак?
– Почему никак? Запросто, – Фома ухмыльнулся. – Но вот если выпил, остановиться не могу. Тормозную систему закачать в организм забыли… Я тут место на кладбище для себя откупил, – сообщил он неожиданно. – Кладбищенским с выпивкой подсобил. А они в ответку – место персональное. Боковая аллея, недалеко от входа, березка рядом. И недорого. Подумал – чего тянуть? Как полагаешь – не прогадал?
– Прекрасный выбор, – одобрил Данька.
Он сочувствующе потрепал приятеля по плечу и побрёл из переулка. На углу обернулся. Фома стоял, покачиваясь и широко расставив ноги, – как прежде, на яхте в сильную волну. Сплёвывая, наблюдал за магазинным крыльцом, где мордобой уж перерос в массовую драку.
«Пожалуй, это будет кровопролитней, чем взятие Зимнего», – Клыш сцыкнул.
Хлынул пронизывающий, гонимый северным ветром дождь с градом. Клыша, в лёгкой ветровке, мигом слепило с одеждой. Он припустил бегом, высматривая, где бы укрыться. Проскочил мимо городских бань с запертыми дверями. Метрах в двухстах по Миллионной, рядом с вывеской «Чайная», углядел две прижатые к бордюру «Волги», одну из которых, с шофёром за рулём, узнал.
Служебная машина дяди Толечки.
Клыш нырнул в подвальчик. Энергично помотал головой, окатив водяными брызгами стены.
Прежде «Чайная» была «Рюмочной». Здесь торговали на разлив. Вдоль прилавка стояли высокие, на металлической ножке, столики, вокруг которых кучковался похмельный люд. Изредка выбиралась из подсобки пьяненькая уборщица с вонючей тряпкой в руке, проводила ею по липким мраморным столешницам, отчего в рюмочной установился едкий, неистребимый запах мочи; ею же охаживала перепивших.
Не было уж тех столешниц. На их месте расставили чинные, покрытые скатертями столики с самоварами. Но не стало и посетителей.
Правда, из дальнего, за аркой, зала доносились возбуждённые мужские голоса. Среди них привычная, весело подначивающая хрипотца Земского. Такая, какой Клыш запомнил её при хмельных посиделках. Наскоро отерев воду с волос и лица, Данька заглянул. Зальчик на пять столиков. Два оставались пусты. Зато три других, сдвинутые, составили общий, длинный стол.
Во главе его тамадой восседал дядя Толечка. Только вместо бутылок посреди стола стоял пузатый, подмятый самовар, вместо закуски – блюдечки с маковыми сушками, вместо рюмок – чайные граненые стаканы в подстаканниках. Справа от Земского сидел моложавый мужчина с депутатским значком на лацкане пиджака. Сухой, жилистый. С бесстрастным лицом. Длинные, как карандаши, пальцы, нервно постукивали по скатерти. Рядом с ним – рослый привлекательный, несмотря на оттопыренные уши, майор милиции, с любопытством изучающий соседей по столу. Остальных, комбинатовских, Клыш признал. По левую руку Земского виновато нахохлился главный инженер Валентин Горошко, возле него – секретарь парткома Оплетин и, что удивительно, – с нижнего конца стола Клышу подмигивал всклокоченный, припухший Роб Баулин.
Дядя Толечка заметил Даньку, замахал:
– Даниил, к нам!.. Знакомы? – обратился он к соседу справа. – Это сын Нины Николаевны Клыш, дружок нашего Альки. А это…
– Девятьяров, – коротко представился сосед. Руку не протянул. Ограничился скупым кивком.
– Если кто не знаком с Даниилом… – дядя Толечка изобразил общий жест.
– Как же-с! Как же-с! Наслышаны, – Баулин потянулся с поцелуем. Данька уклонился. Уселся рядом с потеснившимся Горошко.
– Танечка! – Земский похлопал в ладоши. Из подсобки вышла молоденькая пухлоколенная официанточка с приколотым бумажным фартучком. К Данькиному изумлению, дядя Толечка прихватил её за талию. – Детка! Сообрази-ка нам ещё заварной чайничек! Видишь, парень насквозь промок. Как бы без горячего чайку в горячке не свалился.
Официантка зашептала ему в ухо.
– Что ж, что шумим. Хороший чаёк всегда бодрит, – возразил Земский. Кивнул Горошко.
Тот, не мешкая, сцедил из заварного чайничка остатки в бурый стакан. Хватило наполовину. Подвинул Клышу.
– Мне б щас чего покрепче, – Данька ощутил озноб.
– А ты махни! – настойчиво предложил дядя Толечка. – Иногда и чаёк целебен.
Клыш из вежливости отхлебнул. Глаза выпучились. В горле загорелось, зажгло в желудке. Отдышался. Принюхался.
– Умеете умно и тонко пошутить, – оценил он под общий хохот. В чайнике оказался коньяк.
– Вот и славненько. Зато не заболеешь, – порадовался дядя Толечка. Прислушался к далекому грозовому гулу голосов от винного магазина.
– Драка там, – сообщил Данька.
– Что делают с людьми? Самое мерзкое, что в глубинах таилось, наружу попёрло, – Земский в сердцах пристукнул стол. – Вот ты, Дима, как наш новый зам председателя райисполкома, объяснись перед нами, избирателями, с чего вдруг власть собственному народу войну объявила?
– Ну, у меня ещё совещание, – Девятьяров, не желая быть причастным к крамольному разговору, пошарил по скамье в поисках шляпы.
– Да и мне пора, – согласился с ним майор.
– Не-не-не! Посошок! – захмелевший Горошко подхватил наполненный на треть стакан. – Поднимаю за Анатолия Фёдоровича! Главного спасателя комбината. А отныне он и наш с Оплетиным индивидуальный спаситель. Анатолий Фёдорович! Чтоб знали: ваша реконструкция!..
– Да не моя! – рассердился Земский.
– Общая, но под Вашим знаменем, – вывернулся тостёр. – Потому что все вашими идеями пропитались. Короче! Куда Земский, туда и земство. Не секрет, я из корда вышел. Моё производство! Каждого работягу знаю. Но раз Земский решил, что корд сворачиваем, – всё! Как команды в строю. Вот при всех: надо будет голову на плаху за реконструкцию – положу! Веришь, Фёдорыч?! Я тебе до нутра верный!
– Делу надо быть верным, – не повёлся на лесть Земский. – Все мы одному делу служим!
Он протянул руку Девятьярову.
– Спасибо за выручку, Дима. По правде, засомневался в тебе. Боялся, в сторону отойдёшь. Извини, что плохо подумал. Можешь записать в должники.
– Так некуда. Там уж вся страница исписана! – Девятьяров попробовал улыбнуться. Непривычные мышцы раздвинулись в оскал. – А по большому счёту, начальника райотдела благодарите. Если б Трифонов на свой страх и риск не порвал протоколы, ничего я бы не сделал.
Земский охотно приобнял майора:
– Рад нашему знакомству, Андрей Иванович. Много слышал о вас удивительного. Теперь вижу, что, если человек решителен, так во всём. Надеюсь, видеться чаще.
– Только уж не за самоваром! – майор неожиданно расхохотался, красиво, раскатисто. Коротко козырнув, пошёл к выходу. И тотчас вслед ему заулыбались остальные.
Земский придержал руку Девятьярова. Сбавил голос:
– Прости, что больного касаюсь. Знаю, конечно, насчёт твоей матери. Мы ведь с ней не раз пересекались. Помогали друг другу. Так и не вышли до сих пор на след убийц?
Девятьяров отрицательно мотнул головой.
– Я не с тем, чтоб любопытство потешить, – заспешил Земский. – Но если хоть чем-то могу пригодиться! Хоть чем-то!.. Это не к тому, – он ткнул на самовар. – Просто маму твою уважал.
– Дело приостановлено за неустановлением виновных, – сухо ответил Девятьяров.
И вдруг не удержался – холодное лицо задрожало, губы задёргались.
– Сейчас… Мама ведь для меня всем была! Единственная, к кому прислониться мог! С любым, что на душе! Потому что любила, каков есть! Прав, виноват! Неважно. И убили за просто так, походя! В горкомовском доме, с ментом у подъезда! Секретаря горкома, как курицу, пристрелили! И с концами! А горе-сыщики замылить пытаются. Но я не дам. Сколько жить буду, столько искать. И уж когда найду упырей!..
– А как насчёт заповеди прощать? – встрял с нижнего конца стола Робик.
Девятьяров развернулся к нему всем корпусом.
– Кого угодно прощу! – отчеканил он. – Но сначала повешу за яйца.
Он зажмурился от сладкого предвкушения.
Земский, изумлённый вспышкой ярости в прохладном этом человеке, приобнял его за плечо:
– Дима! Насчёт отца?..
Девятьяров заметил, что к разговору прислушиваются остальные. На лице его восстановилось прежнее, бесстрастное выражение.
– Для меня мама и за отца, и за мать была, – уклонился он от ответа.
Поднялся, подняв и других.
Все, кроме Робика и Даньки, потянулись к выходу.
Земский подманил пухлоколенную официанточку. Пошептал.
– До семи… – ответила та. – Лучше как обычно.
Анатолий Фёдорович перехватил Данькин взгляд исподлобья. Смутился.
– Насчёт этого… – он мотнул шеей вслед официантке. – Тёте Тамарочке ни звука.
Вышел за остальными.
– Знаменитый по городу шкода, – глумливо бросил Баула. – За шестьдесят мужику. До таких лет дожить, и то за подарок. А этот с живинкой! Вот так бы по жизни просвистеть, и – копыта откинуть не жалко.
Оживление сошло с его физиономии: в чайную возвратился Девятьяров. Робик быстро склонился к Даньке.
– Вернулся, инквизитор. Сейчас душу тянуть начнёт. Ты только не уходи. Дождись. Потрендим ещё, шкоду какую-нибудь подпустим.
Клыш кивнул безразлично, – торопиться ему было некуда.
– Вот втолковываю молодому, что мужик, он по натуре охотник, – развязно поделился Робик с подошедшим Девятьяровым. – Отловил бабу, сперму сбросил, обновился. И опять нырк в семью. А иначе – застой и отстой. Знаешь: старый друг лучше новых двух? Так вот, с бабами наоборот. У тебя, Диман, у самого как с женой? А то есть тёлка на примете.
Девятьяров без слова крепкой когтистой рукой прихватил Робика. Оттащил за соседний, пустой столик. Подсел напротив.
– Да я вообще не при делах! – с ходу сообщил Баулин. – В бане встретились. Махнули за день рождения… Дни рождения-то ваша партия ещё не отменила?
– Язык свой поганый придержи! – Девятьяров повёл шеей, убеждаясь, что их не слушают. Клыш и впрямь поначалу не прислушивался, но – всё слышал. – Вечно у тебя – не виноват.
– Ну тут-то в чём?!
– В том, что обстановку не просекаешь! Сегодня тебе опять повезло. Думаешь, стал бы влезать из-за чужих, когда все под топором ходим? В последнюю минуту Земский поименно перечислил. Вот и пришлось из-за тебя, шкодника, шкурой рискнуть. Сколько ещё придётся, как думаешь?
– Да будет, Димон!.. Шкурой! Никто и не просил… Мне вообще эти ваши алкогольные игрища – по фигу метель! В трезвенников все вдруг перекрасились. Завтра религию восстановят, кинетесь толпой к мощам прикладываться. А я как был, так и есть кот, что сам по себе. Ну кинули бы, штрафанули. Что со мной ещё сделаешь?
– С тобой-то, может, ничего. Говно, известно, не тонет. А – отец?! – напомнил Девятьяров.
Заглянул в наглые пьяные глаза, остервенел.
– Слушай, ты, – глист единокровный! Такое слово – байстрюк – доводилось слышать?!
– Кому как не тебе знать?
– Да, это я, – через силу подтвердил Девятьяров. – Я в город приехал чистым, – никто и ничего. С паспортом на материну фамилию. Потому что отец наш меня, незаконного, официально не признал. Хорошо хоть после маминой смерти на произвол судьбы не бросил. В команду принял, за собой локомотивом тащит. Не станет его, не станет меня. А его не станет, если младший сын-хлюст – раз за разом подставы делать будет.
Девятьяров заново взъярился.
– Знаешь хоть, сколько желающих нашего отца схавать! А ты – как граната меж ног! Пойми, наконец! Все мы в цепочке. Меня отец тянет. Я – других. И вот тебя ещё в нагрузку получил. Сам по себе он! Кому ты это впариваешь, котяра облезлый? Потому и колобродишь, что подпорку под жопой чувствуешь. А если выбьют подпорку? Тебя-то с твоими прибабахами закопать куда-нибудь на зону – как высморкаться. По-прежнему в Москве билетами спекулируешь?
– Фарцую, – аккуратно подправил Робик.
– Считай, отфарцевался. То, что у Гуська ОБХСС на хвосте, знаешь? – рубанул Девятьяров. Робик посерел. – У него – значит, у тебя. И спасти тебя можем только мы с отцом… Пока ещё можем! Ну ты ж не полный дурак.
– Не полный! – согласился Робик.
– Так ляг на дно. Да хоть в комсомол! Куда-нибудь в Лесной район на годик. Пересидишь, вернёшься чистым. С анкеткой. Сколько предлагал!
– Не-к-ка! Неохота! – тоном сказочного Емели протянул Робик. – Там в галстуке ходить надо.
– Всё лучше, чем на зоне в робе.
– Роба в робе, – тотчас ухватил Баулин, прикинув, как пустит по городу новую хохму. Демонстративно заскулил.
– Чего ты меня, Димон, всё на слабо́ берёшь? Посадят, не посадят – бабушка надвое! Зато знаю за что рискую. Всегда забашлить могу! Снял навар – «бабки» на кармане. А что взамен? Копеечная зарплата, костюмчик с камвольного комбината да трендение про светлое будущее? Хочешь обратить в свою веру – посади меня на деньги. Тогда я без всякой агитации твой!
– Так проворуешься!
– С чего бы? – Робик оскорбился. – Зря, что ль, в финансовом пять лет оттрубил? А финансы – это как раз и есть наука воровать из прибылей. То есть чтоб никто не заметил.
– Больно ты шалый! – усомнился брат.
– Это я без денег шалый. Пока карманы зашиты.
Девятьяров призадумался, вновь забарабанил пальцами по столешнице.
Страну накрывала муть: кооперативы; какие-то диковинные СП да Малые предприятия попёрли грибами после дождя. Пресечь на корню не получилось, – слишком велик оказался напор либералов, бесконечно дующих доверчивому Генсеку в уши. Но и пускать дальнейшее на самотёк было бы недальновидно. Человеком, вокруг которого сбились здравомыслящие силы, стал Лигачёв. Сделал свой выбор и отец. Тем более что с Егором Кузьмичом приятельствовал со времен ВПШ. Выбранная сплотившейся командой стратегия Девятьярову была понятна: не можешь отменить – возглавь. Раз уж вынуждают играть по новым правилам, то правила эти необходимо приспособить под своих. Не входя в прямой конфликт, притормозить и перенацелить. Упёрлись в кооперативы? Что ж, создадим их при комсомоле. Пошли разговоры о частных банках? Комсомол – в закапёрщики. Главное – не упустить высот. С них видней, куда дальше двинуться, да и выцеливать удобней. В этой схеме своё место отвели Девятьярову. Сначала подпустили в самостоятельное плавание – зампредом в райисполком. Теперь как одного из самых молодых в команде перебрасывают на обком комсомола. Как раз с целью обкатать и попробовать на зуб то новое, что ломится в двери. И тогда уже ему самому понадобится команда, на которую можно опереться. Расставить на ключевые места своих людей, – так виделась на сегодня задача. А Робик при всех взбрыках далеко не дурак. Хоть и грозил ему тюрьмой, но знал: уж не первый год московские обэзээсники подступаются к билетной мафии. Выхватывают то одну группку, то другую. Но зацепить всерьёз не получается, – слишком хитро налажен внутренний учёт. И диковинную схему, о которую ломают зубы проверяющие, как узнал Девятьяров, придумал не кто иной, как Баулин-младший. Казалось бы, откровенный пофигист. Без совести, без принципов. Но наглый, хваткий, вёрткий. Может, и впрямь время таких ушлых наступает?
Девятьяров тяжелым взглядом прошёлся по пьяненькой, глумливой физиономии сводного брата. Довериться пока не решился.
– Ладно, подумаю! – намекнул он. Заметил, как оживились глазки напротив. – Но пока, чтоб ни пятнышка. От Гуська своего отойди. Его все равно за то ли, за другое посадят! И, само собой, – упаси боже ещё раз в ментовку загреметь. Иначе!..
Прижал длинный палец Робику к виску, будто дуло пистолета.
– Так что? – глянул на часы. Заторопился.
– Да понял, не дурак! Дурак бы не понял, – отмолотил одну из своих скороговорок Робик.
Девятьяров поднялся, подхватил шляпу.
– И ещё! – припомнил он. – Знаю, что не вылезаешь от девки своей. Мёдом, видно, намазана. Но жениться не вздумай!
– Ты мне ещё и баб подбирать будешь?! – заново взвился Робик.
– Иностранка. А это – пятно, – холодно объяснился брат.
Робик провожал уходящего брата глазами – впервые со спины. Рослый, сухопарый, плечи коромыслом. Плоский, упрямый затылок. Дуролом, конечно. Но прислониться можно. Тем более что в Москве и впрямь сделалось стрёмно. Не подступятся к главному, все равно найдут, за что посадить. Да хоть та же новая среди ментов фишка – наркоту подбросят. А садиться Робику не хотелось.
– Достали папашины холуи! – громко пожаловался Робик. – И когда только они от меня отстебаются?!
Пересел к Клышу. По брошенному искоса взгляду понял, что тот всё слышал.
– Ну да, брательник, – признал он. – Всё одно падаль.
– Что ж вокруг тебя одна падаль? – Данька усмехнулся. – Где ни встречу, обязательно среди падали.
– Потому что у любого, если копнуть, – внутри падаль, – не задержался с ответом Баулин.
– Может, и хорошее что бывает?
– Сомневаюсь, – Робик почмокал полными губами. – Но если и впрямь нашел – замри. Глубже не копай! Чтоб не разочароваться. Потому что, если ещё на полштыка глубже, – всё едино…
– Падаль? – веселея, догадался Клыш. – И дружбы вовсе нет?
– Конечно! Первая заповедь: хочешь остаться при друзьях, не говори того, что думаешь. И не мешай врать другим. Они тебе не по правде, и ты им – понарошку! Вот попробуй дружбану сказать, что на самом деле думаешь. И что на выходе? Одним другом меньше.
– Может, он и вовсе не был твоим другом?
– Брось эти ля-ля! – Робик аж взвизгнул. – Дружба – фройншафт! Повторяем друг за другом. А на самом деле все на подлянке живём! Выгоден – друг, невыгоден – проходи-подвинься.
Клыш, сощурившись, слушал пьяного балабола. Иногда хмыкал, – беспутный эпатажник отвлекал от собственных, тяготящих раздумий.
Робик взболтнул опустевший чайничек. Намекающе показал официантке. Но с уходом Земского приветливость в ней иссякла.
– Идите себе. И так уж с чая качает.
Они вышли на сырую, серую улицу.
Робик поглядывал на вышагивающего рядом Клыша. В парне этом, с ироничным прищуром, углублённым в какие-то свои раздумья, угадывалась взрывная, дерзкая сила, перед которой шумливый Баулин невольно робел.
Дождь закончился, но по мостовой лились потоки. Водители прижимали заляпанные машины ближе в тротуару, окатывая редких прохожих. Те, беззащитные, жались к домам.
– Гомо советикус – чмо дрожащее! Вот и в жизни по углам жмёмся! – подметил Робик. – А страх этот, что в людишек вколотили, его выбивать надо. Как матрас!
Как с ним не раз бывало, внезапный прилив удали подхватил его. Да и больно захотелось поразить нового приятеля.
– Эх, душа просит поантисоветничать… – взгляд Робика заметался. Впереди открывался девятиэтажный массив обкома партии.
– Чего просит? – забеспокоился Клыш. Но остановить Баулина не успел.
– Душа, говорю, не согласная!
В следующую секунду Робик подбежал к углу дома, на котором был закреплен флаг СССР. Подтянулся. Ловко выдернул древко из металлического держателя, развернул.
Трое случайных прохожих застыли как вкопанные. У какой-то тетки с бидоном смешно раскрылся рот. Из переулка выпорхнула группка лет по семнадцать-восемнадцать. Озадаченно притихла.
– Студенты?! – громогласно определил Робик. – А я приват-доцент. Провожу первый политсеминар.
Выскочил на трамвайные пути, развернул знамя. Гикнул.
– А ну, вольный студент, который не ссыкун, становись в колонну! Тряхнем обывателя!
Те неуверенно подошли. Затоптались.
– С левой ноги! Др-ружно! Подтягивай… Бо-оже царя храни!
С древком в руках, чеканя шаг и горланя во всю глотку, Баулин двинулся по трамвайным путям мимо обкома партии. Следом, потирая подбородок и озираясь, побрел Клыш. За ним, нервно перемигиваясь и пересмеиваясь, шло пацаньё.
На переходе соляным столбом застыл колоритный пожилой мужчина. Несмотря на возраст, импозантный, ухоженный: в шейном платочке, бежевом вельветовом пальто, с аккуратной седоватой бородкой, с хвостиком на залысой голове. Он беспрерывно водил ладонью перед лицом, не веря тому, что видели собственные глаза.
Робик глянул орлом на озадаченного Клыша.
– Что? Любо вот так-то? Считай минуты свободы! – пошутил он.
Долго считать не пришлось.
Из-за здания обкома партии на Миллионную вылетел милицейский жигулёнок. Затормозил поперёк трамвайных путей. Из распахнувшихся дверец один за другим высыпали сразу пятеро милиционеров. Трое бросились за брызнувшими в стороны пацанами, двое других устремились к знаменосцу.
Первым, прямо на Робика, бежал раскормленный, краснолицый сержант.
– Об асфальт размажу! – выдохнул он. Робика окатило острым запахом чесночного перегара. Мутный взгляд налитых ненавистью глаз парализовал.
Словно в замедленной съемке увидел, как сержантская лапища сжимается в кулак, разворачивается для удара. От смачного тычка в губы упал, выпустив из руки древко.
Сержанта по инерции пронесло мимо, но бежавший следом занёс для удара ногу в сапоге.
– Не бейте! – закричал Робик. Удаль как накатила, так и схлынула. Стало по-настоящему страшно. – Это ж прикол был! Верну я вам вашу тряпку на место.
Пытаясь защитить голову, обхватил её руками. Внезапно милиционер споткнулся. А над Робиком склонилось злое лицо Клыша.
– Пулей в подворотню! – с ненавистью процедил он. – Там возле забора бочка. С неё на забор и – ждёшь меня! Как следом перемахну – сбивай бочку ногой. Ментам не перелезть! Двигай, поп Гапон хренов!
Приподнял обмякшего Баулина, встряхнул.
Робик, пыхтя, побежал в заданном направлении, нырнул в узкую арку, подбежал к высоченному забору, перегородившему выход на соседнюю, тихую улочку. Если б не металлическая бочка из-под солидола, что разглядел глазастый Клыш, нипочем не перелезть. Робик вскарабкался на бочонок, заелозил пузом на заборе. Оглянулся. Клыш, пятясь, принимал на себя удары двух наседавших милиционеров и косился через плечо. Положение его было отчаянное.
Не мешкая более, Робик дотянулся до бочки ногой, толчком опрокинул в высокую траву. Перевалился на другую сторону, ударился коленом о край обломленной доски, вскочил и, подволакивая ушибленную ногу, побежал по переулку Крылова к полуразобранному двухэтажному дому. В развалинах затаился. Вдалеке, на Миллионной улице, удаляясь, заливались милицейские трели. Нежданно-негаданно в переулок выскочил Клыш. Из щеки, будто наждаком содранной, хлестала кровь. Озираясь, помчался по Крылова.
– Сюда! – Робик выглянул из развалин, замахал. – Ушел-таки? – обрадовался он. – Вот молодца! А я думал, хана тебе!
Он принялся отряхивать приятеля.
– И была б хана, если б в высоту прыгать не научили, – буркнул Клыш. – Чего бочка опрокинулась?
– Так я сам её смахнул, чтоб менты следом не перелезли!
Клыш ошарашенно почесал подбородок. То, что, сбив бочку, он тем самым обрёк на арест товарища, в соображение не принималось.
– Рыло тебе, что ли, начистить, подлецу? – задушевно прикинул Данька.
– А чего рыло? С чего сразу рыло? – притворно загорячился Робик. – Погоди, замою.
Он поплевал на свежий платок, заботливо отёр кровоточащую щёку. – И потом – за что? Ну попали бы оба. А мне в ментовке светиться нельзя. Как раз при тебе последнее китайское предупреждение получил.
– Редкостный ты прохвост! – только что не восхитился Клыш.
– Пожалуй, что и прохвост, – охотно согласился Робик, сообразивший, что бить не будут. – Зато честный! Вот если б случись наоборот, неужто сам так же не сделал бы? Все мы на подлянке живём.
Заметил, что опасные глаза вновь сузились, заторопился:
– Заныкаться нам на время надо! Менты наверняка город шерстить начнут!
Непосредственная опасность миновала. И Робик вновь ожил. Всколыхнулся:
– В «гадюшник» нырнём! Там отсидимся. «Божественную комедию» Данте помнишь?
– Допустим.
– А хоть и не допустим. Сейчас наглядишься. Все круги ада в одном флаконе.
Гадюшником в городе называли студенческое общежитие. Изначально отстроили его для политеха и мединститута – пополам. Но в стародавние времена после Ташкентского землетрясения третий городской вуз – педагогический – в порядке братской помощи принял на учёбу двести студентов-узбеков. Решением исполкома разместили их как беженцев на двух верхних этажах общежития. Временно, конечно. С тех пор прошло два десятка лет.
– Ага! Как же – временно, держи карман! – в радостном предвкушении тараторил Робик. – Узбеки, вроде тараканов. Завелись, так уж никаким дустом не выведешь. Зато какое общество собирается! Сплошной отстой! Артисты после спектакля захаживают. Познакомишься – оценишь, глаз не оторвёшь. Шпана с Советской кучкуется. Может, самого Лапу застанем. На крайняк у меня там чувиха. Если что, приютит. Ты, главное, Робика держись! С Робиком не пропадёшь.
О том, что сам втянул приятеля в мутную, гнилую историю, а после бросил, Баулин уже благополучно забыл.
В «гадюшник» пробирались тихими, двухэтажными закоулками, прижимаясь к домам. Пару раз на параллельных улицах завывала милицейская сирена. Они ныркали в арки, пережидали. Робик вошёл во вкус и вёл Клыша за собой – с видом лазутчика на вражеской территории.
Перебежками добрались до обшарпанного пятиэтажного здания с вывеской «Общежитие № 1». Постояли напротив, укрывшись под клёнами. Ни милицейских машин, ни милиционеров в форме не увидели.
– Ну, Бог не выдаст! – Робик размашисто перекрестился.
Прежде чем шагнуть, подтолкнул Клыша локтем, задорно подмигнул:
– А классная всё-таки шкода выдалась! Будут помнить!
Клыш не нашёлся, что ответить. Такого удивительного, искреннего подонка встречать ему не доводилось.
Внутри, прямо напротив входа, в пролёте меж двумя разбегающимися лестницами, за обшарпанным столом сидел вахтёр в форменном, с вытертыми галунами пиджаке, с установившимся желчным выражением на старческом лице.
– Приготовить пропуска! – проскрипел он. Потянулся к очкам на столе.
– К кому идём?
– А к кому посоветуешь? – Робик склонился. Выдернул книгу, что тот читал. Показал Клышу. Это был томик Достоевского – «Бедные люди».
– Роберт! А я-то сослепу… – сиплый голос вахтёра сделался благостным. – Дружков, видать, проведать забежал… Как раз на третьем этаже бузят. Я уж упреждал, чтоб потише. Как бы кто не проинформировал!
Робик подмигнул приятелю.
– Знакомься, Даниил. Всевидящий дед Аркаша. Старый, как фекал мамонта. Но принципиальный: за бесплатно таракан мимо не прошуршит.
– Служба у меня такая – без принципиальности нельзя, – не без гордости подтвердил дед Аркаша.
– Как при Сталине вербанулся, так до сих пор бдит, – не унимался Робик. – Тетрадочку свою стукаческую не потерял, часом?
– Весёлый человек! Всегда с прибаутками, – подхихикнул вахтёр, будто и впрямь услышал изящнейшую шутку. Но, когда Данька на лестничном проёме обернулся, старик как раз вытягивал из стола клеёнчатую тетрадь и предвкушающе слюнявил пальцы.
Поднялись на третий этаж.
Старенькое общежитие, пропитавшееся неистребимым запахом чесночной колбасы и прелых простынь, выглядело полупустым. Сессия закончилась, и большинство студентов разъехалось на каникулы. По узеньким коридорчикам изредка пробегали нечёсаные девушки в байковых, прикрывающих голые коленки халатиках. Зато по широкой лестнице вверх-вниз сновали узбеки и узбечки со спецфакультета. Этих было без счёту. На площадке третьего этажа все они как один боязливо косились и добавляли шагу. Из глубин коридора под гитарные переборы лилось хрипловатое пение, сопровождавшееся пьяными выкриками.
– Посторонись, иноверцы! – донеслось сверху. По лестнице стремительно нёсся вниз щуплый паренёк с прилипшими к потному лбу длинными жидкими волосами. Непослушные ноги владели его лёгоньким телом и увлекали, разгоняя, со ступеньки на ступеньку, и наверняка оббило бы его о стену ближайшего пролёта, если б Баулин не остановил этот полёт, выставив шлагбаумом руку.
Паренёк потряс головой. Сощурился. Худенькое, спитое личико озарилось:
– О! Робка! Приполз-таки проводить в последний путь старика поэта!
Цепким взглядом обшарил одежду Баулина. Огорчился.
– Не принёс, вижу, выпивки! С утра не везёт: никто не налил. Даже узбечки!.. Хотел у любимочки, у Ниночки Челия, стаканчик одеколону попросить, – она меня жалеет, всегда наливает. Поднялся, а там девки блажат, крики какие-то… Совсем я пропадаю, – без паузы пожаловался он почему-то Клышу. – Поутру, если грамм сто пятьдесят не пригублю, – никакой. И делать ничего уж не могу. Прежде хоть рифмы спасали. А ныне – и они разбежались.
– Знакомься, Данька, – предложил Робик. – Николай Рак. Бывший комбайнёр. Из глубинки, от сохи. Чистый, звонкий! В семнадцать отвёз стихи в Москву. Признали за будущего Есенина. Собрались даже книжицу издать. Предлагали в Москву, в Литинститут. По дурости поступил в пед, поближе к дому. Два года прошло – получите и распишитесь: хронический алкоголик. Хорошо хоть колоться не начал.
– А начал! – радостно сообщил Рак. – Как раз намедни Кучум кольнул. Только чего-то не разобрало.
Тяжко вздохнул:
– Заявление я в деканат подал на академический отпуск в связи с хроническим алкоголизмом. Ведь по закону – болезнь. А меня исключили. Теперь, должно, в Кувшиново к мамке вернусь, – с зябкой обречённостью сообщил он. – На трактор ново-заново сяду. Раньше-то земля-мать спасала. Как полагаешь?
Он подёргал за рукав Клыша, в котором угадал сочувствие, безысходно кивнул:
– Попробую всё-таки.
Тут же, кого-то увидев, сжал энергично кулачок и заплетающейся походкой побежал по лестнице вниз.
– Может, ещё и удастся сгоношить! – выкрикнул он на ходу.
Клыш озадаченно повёл шеей.
– Хорош экземпляр? То ли ещё будет! – Робик подтолкнул спутника локтем. – Такого паноптикума, гарантирую, не видел.
Кажется, он и впрямь ощущал себя Вергилием, ведущим Данте по кругам ада.
Комнату, в которую они шли, Данька определил без труда: именно из неё лилась песня да доносились громкие разудалые выкрики, торжествовавшие над притихшим общежитием.
– Он и есть. Самый что ни на есть «гадюшник», – в сладостном предвкушении пробормотал Робик.
Дверь была приоткрыта, и Клыш, ещё из коридора, среди сдвинутых в угол металлических кроватей разглядел стол, созданный как письменный, но давно, похоже, не знавший запаха чернил. Сейчас он был заставлен пустыми водочными бутылками, завален ломтями «сопливой» колбасы, несколькими банками вспоротых рыбных консервов, банками лечо, на колотой тарелке умирали объедки студня с воткнутыми «бычками». В самом центре стола посреди впитавшегося масляного пятна, присыпанного хлебными крошками, покачивался воткнутый в покорябанную полировку здоровенный тесак.
Баулин, без всякой надобности, с чувством долбанул по хлипкой двери ногой. Сидящие за столом встревоженно вскинули головы.











