Читать онлайн Лихомара
- Автор: Наталия Ермильченко
- Жанр: Современная русская литература
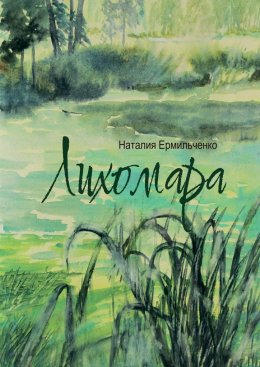
Для обложки использована акварель автора.
Иллюстрации автора
Иллюстратор Наталия Ермильченко
© Наталия Ермильченко, 2025
© Наталия Ермильченко, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0064-7558-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Лихомара
– Смотрю: опять они наливают из пакета. Я говорю: «Нет и нет! ТАКОЕ молоко – не лакаю!» Лапой пару раз царапнул по полу, чтоб лучше поняли, и пошел от блюдца. Спокойно так пошел. Валечка сразу: «Мурик! Мурик! Ты куда, моя ласточка? Петь, он рыбки хочет!» А Петя: «Ты ему, – говорит, – морковочки вареной потри…»!
– Я бы вылакал, – заметил на это Муриков собеседник. – Уж и забыл, какое оно на вкус. Так, все больше с помоек питаюсь… Или к Любе зайду. Знаешь Любу? Вон дача, где девять кошек. У них только сухой корм. Непривычно как-то. Тут и ферма есть, шесть коров, молока – море. Но туда не пробьешься, там своя мафия.
– Вот Петя раньше с этой фермы-то молоко и носил, а теперь чего-то перестал. Далеко она?
– Рядом, брысях в семи-восьми…
– В чем, в чем?
– Кошки-мышки! Он вырос, не зная слова «брысь»! Надо же, какой домашний! Брысь, красавец, это мера длины. Это расстояние от того места, с которого ты рванешь, когда тебе скажут: «Брысь!» до того, где ты потом дух переведешь.
– Да нет, слово-то я слышал, но думал, оно неприличное. А насчет молока… Могу тебя провести в кухню, только позже, когда Валечка с Петей ужинать сядут. Пусть видят. А то еще подумают, что я сдался. Так не успеешь оглянуться, и морковку подсунут.
– Что, вот прямо так прийти и вылакать у них на глазах?
– Ну, я тебя представлю. Тебя как зовут-то?
– Меня? Ах-Ты. Тут, на дачных участках меня все зовут Ах-Ты. На самом деле, имя, конечно, другое. Я вообще-то потомок египетского фараона Оцараписа. Ты про историю столько же знаешь, сколько про слово «брысь»?
– Я историю хорошо знаю, – заявил Мурик. – Потому что мой предок – тоже исторический кот, великий римский полководец Муррус. Меня и назвали в его честь.
– Оцарапис был мудрее всех котов всех времен и народов. О как! – важно сказал Ах-Ты.
– А Муррус – храбрее! – прибавил Мурик.
Тут Моня чуть не выпала из окна со второго этажа, потому что рядом совершенно неожиданно завопила Горошина:
– Монечка, идем чай пить!
Тьфу! Надо ж было так не вовремя! Такая удача… Подошла к окну полюбоваться на котов – а они разговаривают, причем все понятно, каждое слово. Понятно, представляете? Да какой тут чай!
Но Горошине ничего не стоило опять завопить и спугнуть котов.
Они сидели совсем близко, на иве, на нижней ветке, которая с улицы тянулась к окну. Мурик жил у соседей через дорогу. В его трехцветный мех Моня могла погрузить руку по самое запястье, а Горошина – она же мелкая – вообще чуть не по локоть. Второй кот, гладкошерстный и черный, был ничей. Моня его подкармливала и надеялась когда-нибудь увезти с собой в Москву.
– Что у нас к чаю? – со вздохом спросила она.
– У нас Буланкина, – сказала Горошина. – И она говорит, что сердце с собой прихватила.
Моне вовсе расхотелось пить чай. «Какое еще сердце! – подумала она. – Сердца у Буланкиной нету никакого». Эту Буланкину все Монины знакомые старались обходить стороной – чем дальше, тем лучше. А то она потом жаловалась их родственникам, что с ней слишком тихо поздоровались, или что мимо нее слишком быстро проехали на велосипеде, или что при ней свистели в стручок акации.
– …Ужасное выдалось лето, – стонала Буланкина, стоя в дверях – Огурцов мало, яблок мало, за дачу плату повысили… И сердце вот опять прихватило.
– Сейчас тебе валидольчику принесу, – сказала Бабуля.
Она Буланкину жалела.
Когда Бабуля вышла из кухни, Буланкина села за стол и сверкнула на Моню очками.
– Что, клубнику-то уже начали обрабатывать?
– Не знаю, – ответила Моня.
– А что ж ты делаешь целыми днями? Большая уже девица. Работать пора, бабке помогать.
– С Горошиной играю.
– Что это вы ее все Горошиной зовете? Имени, что ли, нет?
– Есть… Мы же только дома, а не дома – Верой. Это папа придумал, потому что маленькая.
– Папа?! – Очки у Буланкиной съехали на кончик носа и стали как будто еще круглей и больше. – Что это он детей приучает прозвища давать! Прозвища бывают у животных!
Хм… Моня промолчала, но, между прочим, у самой Буланкиной прозвище давно было – Жаба. Тоже широкая, бородавчатая, тоже рот большой и глаза навыкате. Но придумала не Моня, а Носков, хоть и младше на год. Это, разумеется, секрет; из домашних знал только папа. И папа, кстати, сказал, что зря они с Носковым так: жабы, пусть и бородавчатые, зато очень умные – и не вредные, если их не пугать.
– Моня, я хочу «Коровку»! – пропищала Горошина.
Буланкина скосила очки в ее сторону.
– Она не Моня, а Маня! Моня – это мужское имя, девочек так не называют.
– Нет, Моня! – заупрямилась Горошина.
– А тебя надо было с детским садом на дачу отправить. Бессовестные какие родители – совсем не жалеют стариков!
– Ну, Бабуля все-таки немножко молодая, – возразила Горошина, – а в детский сад я не пойду.
Буланкина нагнула голову, как будто собралась ее забодать.
– Будешь со старшими спорить – придет лихомара и утащит тебя в болото!
Моня рассердилась. Так рассердилась, что даже перестала бояться Буланкину. Чтоб ее саму кто-нибудь утащил в болото! Все – теперь Горошина испугается и долго не заснет. И не почитаешь уже толком, и телевизор не включишь.
– Не бойся, – сказала она строгим голосом. – На самом деле, никаких лихомар нет.
– Она как привидение, – настаивала Буланкина, приближая к Горошине свои очки, – вся белая и мутная. Кажется, что лицо, а это туман!
– Нет, это просто говорят: «Ах, ты, лихомара такая!» – объяснила Горошина.
Буланкина отодвинулась.
– Кто ж тебя ругаться-то научил? Старшая сестра, небось?
В это время вернулась Бабуля, и Буланкина отвлеклась. Рассасывая таблетку, морщась от валидола, пустилась рассказывать, о том, как скандалит с соседями, потому что их черноплодка свешивает ветки к ней на участок. Она всегда об этом рассказывала, когда приходила пить чай.
Перед ужином Моня повела Горошину гулять.
– Мы сегодня в лесок пойдем, – предупредила она.
– Только до ворот, – сказала Бабуля.
– Почему?
– Поздно уже, туман идет.
– Ну, и что?
Бабуля взглянула на нее как-то тревожно, помолчала, потом повторила:
– Только до ворот. Нечего там делать в такое время, в леске в этом.
…Низкое «дооо», долгое, как дорога, протянулось через небо и стихло где-то у горизонта. Лень было вертеть головой, но Моня и так знала, что это самолет. Ей нравился этот звук. По вечерам он был слышнее и означал, что погода теплая, дождя нет и все, в общем, хорошо.
Почти одновременно за Муриковым участком к небу взметнулся еще один звук, опал, как струя фонтана, потом взметнулся снова. Только звук этот ничем не напоминал шум воды. Пронзительный и внезапный, он был похож на рыдание пополам с подвыванием и пробирал насквозь, как промозглая погода. Но все добродушно улыбались, когда слышали, потому что понимали: это радуется пролетающему самолету Мурикова соседка Дита (сокращенное от Афродита), йоркширский терьер. Дита радовалась каждому самолету, не пропускала ни одного. И если учесть, что сравнительно недалеко Внуковский аэродром, то жизнь у нее, можно считать, удалась. Слышно ее было не только у ворот, – и в леске, и в деревне Брехово, – наверняка и в самолете тоже. Кто бы мог подумать, что у этого существа размером с кошку такой сильный голос!
Хотя лесок все на дачах так именно и называли, он вовсе не был маленьким лесом, а был, пожалуй, просторным лугом, на котором росли редкие осины и несколько дубов. Моня слышала, что раньше, давно, тут жил какой-то граф, и на этом самом месте, где лесок, он гулял в парке. Но ничего похожего на аллеи уже не осталось. Справа от ворот, где больше дубов, лесок теснили своим забором чужие дачи, левым краем он касался деревни Брехово. В той стороне в бывшем графском парке каждый день дотемна паслась чья-то корова.
За воротами висело облачко плясавших в воздухе комаров. Под комарами цвел иван-чай, тускнея от наступавших сумерек.
Их ворота были намного лучше чужого забора в глубине леска. Глухие заборы Моне вообще никогда не нравились. К тому же, чужой забор с каждым годом придвигался все ближе к их воротам, а леска оставалось все меньше. А их ворота сделаны из отдельных досок, между которыми широкие щели. И за эти доски удобно держаться, когда катаешься на правой створке. Правда, долго кататься не получалось, потому что прибегали тетя Валя и дядя Петя, Муриковы хозяева, и начинали возмущаться.
А если идти от ворот прямо, лесок подводил к болоту, – не то, чтобы кочкам и топи, а просто к широкой и длинной канаве с рогозом, ряской и головастиками. За ней поднимался бугор, а за бугром в низине текла речка. Полоса осоки отмечала частые зигзаги ее русла…
Но сейчас даже бугра видно не было. Напротив Мони за осинками стоял туман.
– А почему корова все время головой вниз? Ее травка за нос тянет? – допытывалась Горошина?
Моня ничего не ответила, потому что в это время говорила про себя. Обращалась она к Буланкиной.
Моня все еще злилась. «Если бы у нас в болоте жила настоящая лихомара – другое дело! – повторяла она про себя. – Но уж выдумывать всяких чудищ, чтобы пугать маленьких детей, нечестно. Во-первых. А во-вторых, запугивать вредно. Потому что если каждый будет чего-нибудь бояться, он станет в старости таким же некрасивым, как вы!» После третьего или четвертого повтора Моне пришло в голову, что и Буланкина, видать, чего-то боится, раз вид у нее теперь не очень. Может, ей самой в детстве рассказывали про лихомар?
– …нельзя маленьких детей в болото утаскивать, я тебе не разрешаю! – пробормотала Горошина, глядя перед собой.
Моня вдруг поняла, что туман придвинулся ближе. Словно бы стену тумана пробили у основания, и она теперь валилась на лесок. Осины, хоть и не рушились от тумана, но превращались в тени. Высотой стена была примерно от земли до неба и легко могла накрыть иван-чай, ворота и Моню с Горошиной. Попадет ли на дом?
Их дом стоял недалеко от ворот. Надо только пройти мимо дачи, где живет Мурик, и свернуть налево. Если бы Моня оглянулась, то увидела бы макушки двух елок, что росли по обеим сторонам их с Горошиной калитки. Но Моня почему-то не оглядывалась. В ужасе наблюдала она падение тумана и готовилась превратиться в осинку.
Сзади совсем близко послышался Бабулин голос:
– Ма-а-ша-а!
Моня наконец очнулась, схватила Горошину за руку и потащила к дому.
Когда они проходили мимо Мурикова забора, тетя Валя сердито сказала кому-то в глубине участка:
– Лихомара!
Читать Горошина еще не умела. Читала ей, разумеется, Моня, Бабуле было некогда. Сначала Моня не имела ничего против: это был самый простой способ заставить Горошину посидеть спокойно. Но лето шло, а родители все не могли добраться до книжного магазина, чтобы подкупить сказок. И когда Моня поняла, что некоторые главы уже помнит наизусть почти целиком, нервы у нее не выдержали, и она забросила книжки куда подальше.
Горошина приспособилась добывать чтиво самостоятельно. Из какого-нибудь дальнего угла она извлекала старый номер «Вокруг света» или журнал «Юность», вышедший примерно в пору юности родителей, раскрывала наугад и тащила Моне.
– Нет! – кричала Моня. – Ни за что!
Но однажды Горошина застала ее врасплох.
Моня объедала войлочную вишню, а дело это требовало внимания. Про себя она считала до трех. На счет «три» надо было положить в рот новую ягоду. И только Моня полностью сосредоточилась, как Горошина запищала из-под куста:
– Монечка, а что тут написано?
Чтобы не наглотаться косточек, Моня схватила эту потрепанную книженцию и прочитала именно те строки, в которые Горошина тыкала пальцем: «Наши лихомары бывают тощие, безрукие, уроды такие, что хуже смерти; не умеют ни войти в избу, ни отворить дверей. Если голодны, то, как сироточки стоят, пригорюнясь у притолоки, выжидая, не выйдет ли кто из виноватых».
– Что?! – закричала Моня. – Это что такое?
С того самого дня ни о чем другом Горошина говорить не желала. Особенно ее разбирало к вечеру. Она ходила за Моней по пятам и задавала всякие вопросы.
– Монечка, а что такое притолока?
– Не знаю! – огрызалась Моня.
– А у нашей притолоки лихомара не стоит?
– А ты что, провинилась? Лихомары только виноватых ловят.
– И что они с ними делают? – спрашивала Горошина и замирала.
Моня закатывала глаза. В книжке было написано и об этом, но как-то туманно: «сумеют потрясть и познобить».
– О, господи! Ну наверно, температура у людей сразу повышается, вот их и начинает знобить.
Моня хватала книжку и бежала к Бабуле.
– Бабуль, ты умеешь смывать лихомар? Тут написано, что их надо смывать. Давай смоем! Может, Горошина уймется.
– Миленькая, уйди со шланга; видишь, я цветы поливаю, – отвечала Бабуля. – Эта книжка давно написана, давным-ддавно; уже про лихомар все и думать забыли.
Ничего себе забыли! Совсем недавно Буланкина пугала Горошину, что ее лихомара в болото утащит! А тетя Валя кого-то лихомарой ругает. Она что имела в виду: «Ты урод»? Или «Вот безрукий»?
Бабуля сказала на это:
– Не знаю, я так не ругаюсь.
– Да? А ты зато говоришь: «Ну их а болото!»
– Больше не буду, – пообещала Бабуля. – Что вы вцепились так в эту книжку? Разве читать больше нечего?
– Нечего!
– Ну, поиграли бы в «Зоологическое лото».
Спасибо, в «Зоологическое лото» Моня с Горошиной сто раз уже играла!
Она даже вызвалась показать Горошине, как цветут кувшинки, хотя понимала, что придется бесконечно долго тащить ее за собой к речке. Сама Моня многое была способна забыть, глядя на кувшинки, и надеялась, что Горошина тоже на такое способна, – сестра все-таки.
Моня знала только одно место на реке, где они росли. Дно там было вязкое, вместо твердого берега – кочки, вокруг них – стебли осоки, такие острые, что чуть коснешься – сразу кровь пойдет. Лучше бы они росли у мостика, где летают над водой голубые стрекозы. Или возле пляжика – правда, там пиявки у берега… Ну хотя бы рядом с рогозом: он такой красивый, похож на эскимо. Но кувшинки, как видно, к эскимо были равнодушны.
Любоваться ими сквозь осоку Горошине быстро надоело. Моня подумала, не сводить ли сестру к пиявкам, это было недалеко. Однако Горошина твердо поглядела ей в глаза и сказала:
– Хочу сушку!
Моня тяжело вздохнула. Сушку-то она с собой взяла – никогда не знаешь, чего этой кулеме понадобится. Но подвиг получился напрасным.
Пришлось взобраться на бугор и усадить Горошину под деревом. Пока она мусолила сушку, Моня походила вдоль болотца, посмотрела, как по ряске бегали паучки-водомерки.
– Монечка, а почему лихомары тощие, безрукие и уродины? – пропищала сверху Горошина.
Только чудом Моня не свалилась в болото.
– Потому что в книжке так написано! – сердито сказала она. – Ты доела сушку?
– Нет. А лихомара нас слышит в болоте?
– Да нет ее в болоте, я же тебе говорила сто раз; они в аду живут, под землей, – простонала Моня. – Вылезают только зимой, от холода, и тогда их смывают.
– А Буланкина говорит, что в болоте…
– Ну, и дура она! – в сердцах выпалила Моня. – Она сама как лихомара: голодная и все время ищет виноватых.
А если Горошина проболтается – наплевать!
«Одно плохо: если в книжке написано про лихомар, значит, это все-таки не совсем выдумка, – размышляла Моня по дороге домой. – Может, они раньше были. А теперь зато их нет! А если даже где-нибудь остались, то уж не в болоте. А если даже и в болоте, то уж не в этом!»
Между тем лихомара очень даже была, и именно в болоте – и именно в этом.
На слух она не жаловалась, вот только онемела. Они никогда не думала, что живет в адских условиях. Выглянешь из болота – с одной стороны бывший графский парк, с другой – бывший графский пруд. Ничего, что в нем не осталось воды. Вдоль речки на дне его громадного котлована еще стоят три острова – один даже с бухтой. А что они заросли бузиной и крапивой, не беда.
Подруга, лихомара из деревни Зайцево, ей завидует. У нее-то ни парка, ни островов, только пруд, давно уже заболоченный, да комары. Летними вечерами, и в сентябре тоже, бывший пруд наполняется густым туманом, и подруга прилетает иногда из своего Зайцева в нем плескаться. Сама лихомара всегда отказывается: как это, простите, плескаться, а тем более нырять, когда в тумане ни зги не видно? А зайцевская подруга удивляется: «Вот ненормальная! Все отлично видно, гораздо лучше, чем при солнечном свете». Но лихомара, как ненормальная, ложится спать. То ли дело утром, когда еще не жарко, полететь в бухту – и сидеть на бугорке под ивой на свободном от крапивы месте, представлять, что приплыла сюда на лодке. А в дождь гулять в бывшем парке среди осинок и дубов, как графиня…
Лихомара вынырнула из болота, отогнала к берегу ряску и зависла над водой, глядя на свое отражение. Внешность как внешность. Вода под нею помутнела, отражая… нет, не обрывок облака и не клок тумана, как сказал бы какой-нибудь дачник, не разобравшись. А нормальную лихомару, не хуже других. Хоть зайцевская подруга и обзывает ее ненормальной, а с виду такая же. И еще у них есть приятельница, лихомара из деревни Ямищево…
Безрукими ругают – да что ж такое! Впрочем, раньше лихомара старалась выглядеть по-человечески даже дома: чтоб и руки, и ноги, и голова, и наряды. Ну, казалось, что это красиво. И как-то нагрянула в гости подруга из Зайцева. «Ты чего это, – говорит, – выпендриваешься?» Лихомара в ответ мямлит: «А что такого? У людей вон есть, к примеру, руки, а мне нельзя, что ли?» А подруга ей: «Вот ненормальная! Им огороды копать, дрова колоть, еду готовить. А твоими-то руками ни лопату не возьмешь, ни топор, в них силы нет. Удержишь только то, что ветер носит. Даже дверь не отворишь. Да и зачем тебе? Надо будет – в любую щель просочишься; что ты – не лихомара, что ли! Еда тебе не нужна, дрова тоже: под водой не холодно; разве что в мороз болото насквозь промерзнет, но это вряд ли». В общем, убедила.
В одном лихомара все-таки не могла себе отказать: в том, чтобы гулять, как графиня. Чтобы тонкая талия, юбка, блузка, рюши, зонт – и не по воздуху плыть, а ступать по земле. Может, графини и не оставляют за собой влажные следы на траве, но, во-первых, никто не проверял, а во вторых, в дождь все равно не заметно.
Подруге из Зайцева рассказать об этом было невозможно, как невозможно пожаловаться на книжку, которая позорит лихомар, и на девчонок, которые этого безобразия начитались. Подруга сразу скажет: «Так чего стоишь – тряси и зноби!» Она вообще любит повторять: «Наше лихомарское дело – напускать туману да трясти виноватых!» Ага, знать бы еще, как. А спросить неудобно. Пришлось бы признаться, что туман набирается сам собой, а знобить не доводилось. Подруге проще – у нее пруд посреди деревни. Живет в гуще событий, вечно кто-нибудь находится виноватый, она и трясет. А тут канава на отшибе, деревенские не ходят, только дачники чинно прогуливаются мимо… Одним словом, тренировки никакой.
Подумать только – «вылезают зимой от холода»! Да какая лихомара в здравом уме вылезет зимой из болота? Тут же заледенеешь и проваляешься без чувств до ближайшей оттепели.
«Что ж, придется знобить», – вздохнула про себя лихомара.
И, как жара спала, отправилась к дачам искать виноватых. Надо признать, что, когда лихомара плыла по воздуху через лесок, со стороны она казалась довольно-таки тощей.
В пути лихомару мучили сомнения. Она думала: «Девчонки-то маленькие еще – откуда им знать, что в книжке неправду написали? А этот, который написал, тоже, может, не виноват. Ему кто-то наговорил гадостей про лихомар, он и поверил». Тут же она представила себе подругу из деревни Зайцево. Как та ворчит: «Вот пусть бы не верил, а проверил. Не проверил – знобить!» И как это ей не противно – знобить, трясти…
Лихомара влетела в ворота, вечно распахнутые настежь, миновала Муриков участок и остановилась на перекрестке у столба с фонарем. В какую сторону ни глянь – ни души. Только Ах-Ты примостился под чьим-то забором на краю канавы и разминал лапы на куске рубероида.
Пусто! Этого она не учла. Как же теперь искать виноватых? Подруга сейчас опять сказала бы: «Вот ненормальная!» Она-то утверждала, что у нее на виноватых чутье. Наверно, так и надо, но у лихомары его не было. «Лучше вообще сидеть дома и никуда не вылезать, тогда кажется, что все хорошо!» – подумала она. Потом подумала: «Ну что ж теперь! Намерение познобить было, но виноватые скрылись. А на нет и суда нет». И она бы развернулась и умчалась, если бы не кот. Ужасно хотелось его погладить. А подруга еще спрашивает, для чего руки нужны!
Лихомара пристроилась с ним рядом под забором и сказала:
– Киса!
Ах-Ты заерзал, но усидел на рубероиде.
Когда лихомара в первый раз потянулась его погладить, он попытался цапнуть ее за руку и был потрясен, обнаружив, что куснул сырой воздух. В следующий раз он стерпел, но потом встряхнулся, будто ему вода попала на загривок. Хотя вода с лихомар не капает, они влажные, вот и все… В общем, лихомара поняла – что ж тут непонятного. Но не обиделась, а подумала: «Буду пока с ним разговаривать, а там он, глядишь, привыкнет и перестанет встряхиваться».
А кот подумал, что если бежать со всех лап, то лихомара его точно не догонит. Просто больше никто не называет его кисой…
– Когти точишь? – приветливо спросила лихомара.
Ах-Ты чуть отодвинулся и ответил строго, чтоб не гладила:
– Письмена выцарапываю. Будущим поколениям бродячих котов посвящается. Я назвал свое произведение «Малый атлас бабушек».
– Ишь ты! – удивилась лихомара.
– Кошки-мышки! Я тебе не Ишь-Ты, а Ах-Ты.
Кот уселся на свои письмена, обернулся хвостом и распушил белый «галстук» на груди.
– Короче, так. Из обширного класса дачников наибольший для нас интерес представляет отряд бабушек. Именно у них, как правило, проще всего добывать еду. О как! Поэтому их надо приручать.
– Бабушек? – переспросила лихомара? – Что-то знакомое… Кажется, у меня когда-то была бабушка.
– Дачная? – заинтересовался Ах-Ты. – Ручная?
– Просто бабушка, мамина мама. Или папина, я не помню…
– А у меня тут про дачников, – строго сказал кот.
Лихомара на сей раз промолчала, соображая, была ли у нее, на самом деле, бабушка, и положены ли бабушки лихомарам. Вроде подруга ничего такого о себе не говорила.
Кот немного послушал, как она молчит. Будь ты даже фараоном Оцараписом, который мудрее всех котов всех времен и народов, не поймешь, что на уме у лихомары. Но все-таки похоже было на то, что дело пока обойдется без поглаживаний. И это хорошо, потому что, когда у тебя есть идея, так и тянет кому-нибудь о ней рассказать…
– Я тут исследование провожу, – начал Ах-Ты. – На дачных участках, в смысле. Не первый год уже. И, короче, открыл несколько видов бабушек.
Лихомара очнулась.
– Ух ты! – сказала она.
– Кошки-мышки! Я тебе не Ух-Ты, я Ах-Ты! Так вот, я говорю, не все из них полезны для бродячих котов.
Допустим, Бабушка Залетная Однодневная. Вид довольно редкий. На даче появляется на несколько часов и исчезает. Как правило, рвет или косит траву. Питается чаем. Ты чай пробовала когда-нибудь?
– Нет, киса, нам еда не нужна.
– Странно, что так бывает, – заметил Ах-Ты. – Но я-то чай пробовал. И это, доложу я, не еда. Это вовсе никакая не еда! А есть еще так называемая Гарпия Огородная. Встречается часто. Постоянно роется в земле, это ее главная примета. Способна подолгу обходиться без пищи. Только наблюдать за ней лучше издали, исключительно в научных целях, потому что Гарпии – вид, опасный для бродячих котов.
Лихомара подумала, что, будь у нее эта самая еда, Ах-Ты, наверное, согласился бы, чтобы она его гладила.
– А полезные виды какие? – спросила она.
Кот улегся, подвернув «калачиком» передние лапы. Белый «галстук» нижним своим концом коснулся рубероида.
– О! Правильный задаешь вопрос, – одобрил Ах-Ты. – Отвечаю: это Бабушки Домашние. О них я нацарапаю подробнее, потому что они делятся на подвиды. Скажем, Бабушка-Генерал. Добывает и запасает много продуктов, значит, полезна. Но добровольно их не отдает, бродячих котов с участка гоняет, приручению поддается плохо.
Другое дело – Бабушка Перелетная. Она пять дней не здесь, потом два – здесь, потом опять пять не здесь и снова два здесь. О как! У птиц тоже так: то здесь, то не здесь. Потому я и назвал подвид – Перелетная.
– А зачем это им? – удивилась лихомара.
– Что?
– «Два здесь». Теплее, что ли?
– Не угадала. Чтобы собрать букет цветов. Думаю, на остальные пять дней им это зачем-то нужно. Но еда у перелетных бабушек тоже есть, причем многие из них почти совсем ручные.
– А еду может унести ветром? – спросила лихомара.
– Что? Не, ни разу не прилетала.
Лихомара подумала: «Так. Значит, накормить его не получится. Но все же интересно, как она выглядит, эта еда, о которой он все время твердит…»
– Киса, а вот если тебе прямо сейчас надо поесть, ты к какой бабушке пойдешь?
Ах-Ты вскочил. Дельный вопрос!
– Это мой любимый подвид, – с гордостью сказал он, – Бабушка Домашняя Обыкновенная. Вот на этой даче обитает великолепный экземпляр. Сейчас ты его увидишь. Идем!
И кот пролез под калиткой.
Домик с высокой крышей стоял в тени двух елок и двух берез. Окна его смотрели на улицу поверх кустов чубушника. Выкрашенный в хвойный цвет, он и сам казался не то деревом, не то кустом. Кто бы догадался, что когда-то на этом самом месте стоял графский дом…
– Ох ты! – воскликнула лихомара.
На траве под березой лежала панама. Она была прекрасна, светла и нежна. Подруга из деревни Зайцево одно время хранила шляпку. Говорит, в поле нашла, когда граф еще был жив и ездил охотиться на зайцев. Шляпка темная, плотная, с жесткими полями, но невесомая, как туман. Может, оттого ее и сдуло ветром с головы графини – а поднимать было некогда. Хотя к чему это гоняться за зайцами, когда есть такая шляпка?.. Подруге она совсем не шла. А лихомара почему-то постеснялась попросить примерить, хотя очень хотелось. Потом шляпка размокла и развалилась…
Ах-Ты оглянулся:
– Кошки-мышки! Я тебе не Ох-Ты, а Ах-Ты! В чем дело?
– Ни в чем…
Панама манила, но не только это останавливало. Как-то всегда неловко было входить в чужие владения, даже если приглашали, а тут получалось, что лихомара вторгается незваная. Что скажут хозяева? Может, не ходить? И с подругой не посоветуешься… Она бы, пожалуй, ответила: «Вот ненормальная! Ну, прикинься кошкой, в чем дело?» А ведь и правда! Играет же она в графиню с зонтиком, так почему бы иногда не побыть кошкой… Но, с другой стороны, как-то даже неприлично после графини превращаться в кошку, ходить на четвереньках…
Ах-Ты, не дожидаясь ее, прошел по садовой дорожке вдоль веранды – и сел. «Что я делаю! Какой ужас!» – подумала лихомара.
– Котя! – пропищал невидимый пока, но очень знакомый голос.
– Пришел! – Еще один знакомый голос. – Бабуль, черный кот опять пришел! Можно, я дам ему колбасы?
«Виноватые!» – вздрогнула лихомара и выглянула из-за угла веранды.
На крыльце сидели две нарядные барышни, одна маленькая, другая постарше. Вот незадача! Что ж теперь, знобить?.. «Ненормальная! – сказала себе лихомара. – Ты что, забыла? Знобить нельзя: кот останется голодным».
Из дома вышла женщина в сарафане – должно быть, Бабушка Домашняя Обыкновенная – и стала обсуждать с барышнями, что лучше: угостить Ах-Ты сосиской, или отрезать кусок колбасы. Ну… лихомара подумала, что если у нее и была когда-то бабушка, то не такая. «Увидела? Теперь домой! – велела она себе. – Сухо, жарко, так и испариться недолго!» Впрочем, нет, надо было еще взглянуть на эту волшебную сосиску, ради которой Ах-Ты разрешал барышням себя гладить, да еще мурлыкал.
Конечно, пришлось опять выглянуть – даже высунуться – из-за угла веранды, и, конечно, ее заметили.
– Ой, тут и кошка! – воскликнула старшая барышня. – Какая странная! Бабуль, посмотри, это что за порода?
Лихомаре немедленно захотелось превратиться в ежа, а еще лучше в божью коровку, но съеживаться уже было некуда. Все же она попробовала, но лучшее – враг хорошего. (Кто это ей говорил? Не бабушка ли?) Только раздалась и стала как три кошки.
– Привидение! – ахнула старшая внучка и завизжала.
– Боюсь, боюсь! – зашептала младшая.
– Что такое, миленькая? Где ты привидение увидела? Там?
Великолепный экземпляр самого полезного подвида бабушек снова явился на крыльце и со словами: «Ах ты, лихомара!» замахнулся на лихомару веником.
Моня сидела за столом, напротив сидела Горошина, между ними стояла кружка молока. Горошина смотрела на Моню, Моня смотрела в окно и размышляла, включать ли свет. Под окном что-то шуршало. Если включить свет, их будет видно с улицы.
Вообще-то раньше она мечтала увидеть настоящее привидение. А теперь нет, спасибо, не надо. Ей и кошачьего хватило. Надо же – белое и мутное. Кажется, что и лапы есть, и хвост, и мордочка – а это туман!
– Монечка, я не хочу парное молоко, – громко сказала Горошина.
– Пей, миленькая! – крикнула из кухни Бабуля. – Тебе расти надо.
Бабуля гордилась тем, что внучки у нее «растут на парном молоке». И почти каждый вечер с наступлением сумерек приносила его с фермы. Папа называл его музыкальным, потому что хозяйку фермы звали Лирой, а лира – музыкальный инструмент. Иногда Моня думала: «Какое счастье, что нас с Горошиной не назвали в честь музыкальных инструментов, а то прямо непонятно было бы, как жить!» Правда, хозяйка фермы жила хорошо. У нее были кошки, барашек, куры и цесарки. Ну и шесть коров.
Моня к парному молоку относилась нормально, а Горошина – нет. Она становилась абсолютно ненормальной. Поэтому Бабуля приносила ей молоко в комнату, а сама уходила на кухню, и с Горошиной оставалась Моня.
Моня-то считала, что незачем навязывать человеку то, что он не любит. Она не рвалась уговаривать Горошину. Особенно сейчас, после такого дня.
Мало им привидения, так еще эта кулема потеряла свою панаму, белую в горошек цвета бледно-розовой розы сорта, кажется, «Барбара Остин» или что-то вроде того. И с лентой вокруг тульи. Надо было сделать вид, что ничего не случилось. А они с Бабулей взялись искать на глазах у Горошины. Она и взвыла. В таких случаях папа говорит, что когда-нибудь отдаст свою младшую дочь в пожарную команду работать сиреной.
Измученная скандалом и поисками панамы, Моня смотрела, как все темнее становятся елки у калитки, листья чубушника под окном, ветви ивы. У Мурика в доме загорелся свет.
– Где же моя панамка?! – спохватилась Горошина.
– Маша, закрывай окно, туману в дом напустишь! – крикнула Бабуля.
Моня встала из-за стола и включила свет.
– Так ты будешь молоко пить? – спросила она.
– Не буду, – тихо сказала Горошина.
– Оно уже остыло.
Горошина начала сползать под стол.
Моня пожала плечами.
– Как хочешь.
Она взяла кружку, выплеснула молоко в чубушниковый куст и закрыла окно. Куст в ответ сошел с ума: замолотил ветками в стекло и выплюнул какую-то белую пену. Как будто молока в него попало целое ведро, и оно все вскипело и убежало. По сравнению с этим зрелищем подвывания Горошины могли сойти за продолжение передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Лихомара проснулась ни свет, ни заря – туман еще не до конца рассеялся. Ее разбудили слова: «Где же моя панамка?!» Слова прозвучали не снаружи, а внутри и подействовали так, что ей стало сухо, хотя кругом была вода. Раз в жизни решила искать виноватых – и вот, пожалуйста. Сидела бы дома!
«И что на меня нашло?» – думала она. В конце концов, чтобы трясти и знобить, незачем забираться на дачи. Рано или поздно каждый дачник сам отправляется через лесок к болоту – гулять. Да лихомара до вчерашнего дня летом на дачи и не летала. Только в апреле и в октябре, когда на улицах и на участках пусто. Просто в слове «дача» есть что-то хорошее, вот она и пыталась понять, что…
Прекрасную панаму она давеча подхватила с травы, не удержалась. Надо ж было чем-то себя утешить после такого конфуза. Она оказалась легонькой – «то, что ветер носит», как подруга говорила. Лихомара до захода солнца вертелась в ней над водой, не могла наглядеться на свое отражение. Думала, где будет хранить это сокровище, чтобы не размокло. Панама-то смотрелась на ней куда интересней, чем та шляпка на подруге!
А к вечеру к лихомаре под панаму закралась ужасная мысль. Одно дело, когда вещь потерялась во время охоты: ищи шляпку в поле! И совсем другое, когда ее обронили на дачном участке размером чуть больше графского дома.
Что же получалось? Что она эту панаму… украла? И кто тут виноватый, скажите на милость? Лихомару начало потрясывать и познабливать. А она ведь сроду чужого не брала!
– Верну! – решила лихомара.
Даже не стала ждать до утра, хотя бывший пруд уже наполнялся туманом, а это значило, что того и гляди туман повалит в лесок и будет, как обычно, валить, пока не остановится у дачных ворот. Подруга, которая в тумане видела хорошо, утопить в нем свое Зайцево не могла – а пробовала. У нее над прудом, над самой ряской, стелился по утрам реденький туманчик – и только. Может, и по ночам стелился, но лихомара после захода солнца в гости не летала, боялась на обратном пути заблудиться в собственном тумане, который был, на самом деле, чужим.
– Как ты его делаешь? – допытывалась подруга.
И все не верила, что лихомара тут ни при чем. Само. Природное явление, так сказать. Просто каждый вечер приходила одна дачница, стояла на бугре под ивой, смотрела на речку, потом уходила. И сразу начинался туман.
Дачницу хотелось назвать теткой, хоть это и невежливо. Вид у нее был такой, будто она редко пользовалась словами «спасибо» и «пожалуйста» и вряд ли догадывалась, что существуют фразы вроде «Добро пожаловать», или «Прошу прощения», или «Рада вас видеть». Пожалуй, она никого не рада была видеть. Крайне недовольно смотрела сквозь очки и на закат, и на осинки, и на речку, и уж тем более – на болото. Лихомара ее побаивалась, а почему – сама не знала. Но сентябрь любила больше всего за то, что дачница исчезала, а с ней и туман. Вот бы показать ее подруге: вдруг захочет потрясти и познобить. Но подруга ведь скажет: «А сама-то что же?»
Лихомара дождалась, пока тетка… э… неприятная особа отойдет подальше от болота, сгребла панаму и полетела следом. Особа, кстати, к воротам не пошла; у нее была своя калитка в лесок.
Панаму лихомара собиралась оставить там, где взяла: на траве под березой. И сразу домой. Но ближнее окно – как раз над кустом чубушника – было открыто, и совершенно случайно она услышала: «Монечка, я не хочу парное молоко!»
В слове «молоко» было что-то очень притягательное, и лихомара подобралась поближе к окну. Не для того, чтобы подслушивать, – всякий же знает, что это некрасиво! – а просто хотелось еще раз услышать это слово. Ей показалось, что она слышала его и раньше – давно, когда у нее была бабушка. И представьте себе, какое совпадение! Только заинтересовалась – и вот оно, проливается из окна. Действительно, знакомое вещество.
Это было бы забавно, если бы оно почти все не попало на панаму. Кстати, не от бабушки ли она слышала: молоком еще чистят белые перчатки – люди, не лихомары. Перчатки, а не панамы, панамы от него пачкаются!
Как лихомара ни стряхивала его под куст, панама, увы, намокла. А чужие вещи полагается возвращать чистыми.
«Чего спешила?! – ругала себя лихомара, пока мчалась обратно навстречу туману. – Завтра бы слетала и сразу бы отделалась».
Да, теперь так просто не отделаешься… Теперь вместо того, чтобы сидеть в бухте и грезить, придется полоскать панаму в речке, сушить и нести хозяевам. И хорошо, если обойдется без приключений. Окунать ее вечером в болото лихомара не стала: ряска и все такое – позеленеет еще. А речку в тумане не найдешь.
«Довольно причитать!» – одернула себя лихомара и, собравшись с духом, вынырнула из болота.
Хорошо, что она собралась с духом. Панама лежала на берегу там, где ее накануне аккуратно положили, но что-то с ней было не то. Лихомара пригляделась. Сначала ей показалось, что сквозь панаму проросла трава. Потом она поняла, что все еще хуже: проросла сама панама. Вместо трех… нет, четырех… нет, пяти верхних горошин зеленели какие-то растеньица! Два повыше, три пониже, а те, что повыше, еще и с усиками.
Она потянула одно усатое растеньице – и вынула его с корнем из панамы. На его месте осталась ровная круглая дырка. Лихомара схватила панаму, расправила, поставила тульей кверху: да, и с другого бока испорченные горошины; лента, правда, уцелела. «Пей, миленькая, тебе расти надо», – вспомнила она. Неужели это все от молока? Ну, знаете!
Лихомара бросилась в воду и до полудня просидела на дне. К полудню стало ясно, что о возращении панамы теперь не может быть и речи, и отчасти это даже к лучшему. Растеньица можно повыдергивать, а остатки панамы – носить! Самой!
Тогда лихомара снова выбралась на берег – взглянуть на сокровище, теперь уж точно не чужое. От того, что она увидела, впору было тоже завыть: «Где же моя панамка?» От панамы остались лента да поля. Середина пропала. То, что проросло из нее, подросло и выросло в нечто невиданное. Нижняя часть этого невиданного нечто была ажурной, но только такой ажур не связала бы, пожалуй, ни одна бабушка – ни Домашняя Обыкновенная, ни даже Генерал. Изящные, воздушные стебли как бы склонялись в полупоклоне, закручивали спиралями усики не толще уса Ах-Ты, полураскрытым веером держали листья. В верхней же части парили цветы, похожие на бабочек, какие никогда еще не пролетали над лихомариным болотом. Бабочек цвета бледно-розовой розы сорта «Барбара Остин», или вроде того… В незнакомых растениях было что-то изысканно-графское.
Ну вот, теперь ни наденешь, ни вернешь – ничего с этой панамой не сделаешь. Потому что букет живых цветов ветер точно не унесет, – значит, и лихомара тоже. Зато она может проникнуть в любую щель, и лихомара проникла: проверила, на всякий случай, что там под панамой. Увидела корешки. «Правильней называть это клумбой», – решила она. Цветы были явно садовые, и лихомара почувствовала себя немного дачницей. Она даже приняла вид графини – все равно, подруга не видит – и немного побродила вокруг своей «клумбы» в длинной юбке и блузке с рюшами. Потом вспомнила Бабушку Домашнюю Обыкновенную, сменила свой наряд на сарафан и еще немного побродила. Все же блузка с юбкой были привычнее.
Потом лихомара подумала, что долго играть в дачницу не получится: цветы ведь, наверное, скоро завянут. Вон у графа были цветники размером с ее болото, – там розы сорта «Барбара Остин» или вроде того, там георгины… И между цветниками ходил садовник с лейкой. А эти как поливать? И долго ли смогут они расти из панамы – обычные-то цветы растут из земли… Лихомара отыскала в траве тот стебелек, что успела выдернуть. Он совсем не подрос и немного привял. «Ох, прости, пожалуйста, – сказала она ему, – сейчас поставлю тебя в воду».
Потом она уселась возле бывшей панамы (в юбке и блузке), думая о том, что для цветника размером с болото нужно, должно быть, воды целый пруд. И еще о том, что она, кажется, понимает Бабушек Залетных Однодневных: интересно быть дачницей, но не каждый день.
За серым глухим забором, который зачем-то построили возле болота, кто-то закричал пронзительно и страшно:
– Брысь!!!
От забора немедленно что-то отвалилось и не то полетело, не то покатилось в сторону лихомары. А когда докатилось и долетело, оказалось, что это Ах-Ты.
– Киса! – удивилась лихомара. – Ты чего?
Ах-Ты совсем не хотел докладывать ей, что нарвался на Гарпию Огородную, но, как всегда, не смог пробежать мимо слова «киса».
– Да так, решил измерить расстояние от забора до болота, – сказал он.
– И сколько?
– Ровно один брысь, о как!
Лихомара рассмеялась.
– В чем дело? – спросил Ах-Ты.
– Ни в чем. Все хорошо. Тебе очень идет твой белый «галстучек».
Ах-Ты оторопел. Это было второе потрясение за день после Гарпии Огородной. Его никто никогда не хвалил. Он не знал, что с этим делать, но лизнул свой «галстук», чтоб стал еще белее.
Лихомара кивнула на неведомые цветы:
– А у меня теперь своя дача, видишь?
– Не. Если дома нет, то это не дача, – отозвался кот.
– А дом-то зачем? – удивилась лихомара.
– Чтоб обои драть. Я сам не пробовал, но у меня тут приятель есть, Мурик, и он говорит, это что-то. Ощущения ни с чем не сравнить. Особенно если зайти с угла, подняться на задние лапы, а передними дотянуться как можно выше и потом вести когтями сверху вниз. О как!
– Киса, а ты ямки рыть умеешь? – спросила лихомара.
Ах-Ты вздрогнул.
– Это ты на что намекаешь?
– На ямку. Мне цветок бы в землю посадить. А копать нечем.
– Тогда другое дело. Как ты, прямо, умеешь резко менять тему! Глубокую не вырою, это надо звать собаку. Но без меня.
– Мелкую, мелкую, – заверила лихомара. – К чему тут собаки?
– Вот и я думаю: к чему они? Ямки разве что копать…
Лихомара перенесла мокрое растеньице в ямку, кот подгреб землю поближе к стеблю, и сел рядом, немного досадуя про себя, что купился на слово «киса». Купишься – и будешь потом ямки рыть вместо того, чтобы гордо гулять, где вздумается.
– Умница! – похвалила лихомара, а сама подумала: «Погладить, или рано еще? Пожалуй, рановато…»
«Так, – сказал себе Ах-Ты, – сейчас ты, красавец, встанешь и пойдешь отсюда, не оглядываясь. Иначе раскиснешь от комплиментов и не то, что ямки рыть будешь – морковь сажать!»
Но лихомара пока что не собиралась сажать морковь – пока что ей хватало цветов.
– Ты, случайно, не знаешь, как они называются?
– Вон у нее спроси, – сказал Ах-Ты, – а мне пора.
И быстрым шагом направился в сторону деревни Брехово.
Лихомара огляделась.
Через лесок ехала на велосипеде Моня.
После обеда Горошину удалось уложить спать, и Моня поехала кататься. Зачем свернула в лесок, сама не знала: земля там была неровная, в траве сучки, стекляшки, можно шину проколоть. Просто покатилась под горку, а ворота, как всегда, нараспашку, вот и не стала тормозить.
У болота Моня собиралась развернуться, но заметила, что в цепь попала травинка, и слезла с велосипеда. Ей навстречу поднялась незнакомая женщина. Моня ее сначала и не увидела. Наверное, сидела на берегу болота. Хотя на этом берегу обычно никто не сидит: он низкий, сыроватый, и с него, вообще-то, почти ничего не видно – только бугор напротив и воду чуть-чуть. Лучше пройти дальше, подняться на бугор и сесть под ивой. Оттуда и болото хорошо видно – правда, все смотрят на речку и острова, а у болота только землянику собирают.
– Это не ты потеряла? – спросила незнакомка.
Моня даже не сразу поняла вопрос, потому что уставилась на ее наряд. Цвет ей не очень понравился – такой серовато-белый, а вот фасон… Длинная, до земли, юбка с мягкими складками, широкий пояс. Блузка с высоким воротником, а по краю воротника рюши, и по краю манжет тоже, и еще там, где пуговицы, но не до самого пояса. Именно рюши, не воланы, Моня умела отличать, ей Бабуля уже давно объяснила. Смешное слово – «рюши», слово «волан» Моне больше нравилось, но тогда сразу вспоминался воланчик для бадминтона. А еще смешнее слово «жабо». Жабо тоже бывает на блузках, но не на этой.
«Класс! – подумала Моня. – Значит, мода изменилась, пока мы на даче живем? А мама в прошлый раз ничего не сказала! Надо будет в субботу спросить. Но блузку с длинным рукавом я бы в такую жару надевать не стала! Ни за что!» Нет, на самом деле, рукав (довольно пышный, кстати) просто локоть прикрывал, но, все равно, так никто на даче обычно не наряжался.
Волосы у незнакомки были совсем седые, но очень пушистые, похожие на облачко – и, кажется, сверху на этом облачке сидел пучок. А лицо очень бледное – прямо ужасно бледное, в цвет блузки. Мама недавно уговаривала Бабулю красить волосы и объясняла, что седина бледнит. «Точно, так и есть! – решила Моня. – Зря тетенька не красится, было бы лучше. А на вид она не старше мамы».
Тут только Моня заметила у ног незнакомки цветное пятно, невероятно яркое на фоне ее наряда.
– Ой, душистый горошек! – воскликнула она. – У нас тоже был в прошлом году, а в этом семена не успели купить.
– Кто-то оставил, – сказала незнакомка, – а он тут без воды пропадет. Может, возьмешь его себе?
Голос ее тоже хотелось назвать бледным: он был очень тихим и как будто влажным.
В такую удачу трудно было поверить сразу.
– А вы? – спросила Моня.
– Я цветы разводить не умею. Да и донести не смогу.
– Вы, наверное, совсем недавно дачу здесь купили? – вежливо спросила Моня, кивая в сторону противного серого забора.
– Нет, я оттуда, – ответила незнакомка и махнула рюшами куда-то назад.
А у нее за спиной, за болотом, за бугром, на котором росла ива, за речкой, за островами, на бывшем другом берегу бывшего пруда стоял еще один забор (не глухой). За ним жили своей жизнью заречные дачи. И туда тащить охапку душистого горошка было, действительно, далековато.
Моня сказала:
– Да? А вы не знаете, случайно, можно как-нибудь перейти речку поближе к большому острову? Очень хочется туда попасть, но только не в обход.
– Кажется, там есть бревно…
Незнакомка повернула голову в сторону острова, и Моня увидела пышный пучок у нее на затылке. «Какие у нее длинные волосы! – подумала она. – Наверное, их труднее красить, вот она и не красится».
– Но не знаю прочное ли оно… – продолжала незнакомка. – Вот мост у деревни, тот, конечно, надежнее…
– Да видела я этот бетонный мост, – махнула рукой Моня. – Он некрасивый. Я люблю другой мостик, деревянный, но от него до острова еще дальше. К тому же, я терпеть не могу ходить через Брехово. Обязательно выскочит какая-нибудь тетка и начнет ругаться, что нечего тут делать посторонним в их деревне. Наверно, это и значит – брехать. Брехово – деревня, где все ругаются!
– Нет, – улыбнулась незнакомка. – Брехать – значит, лаять. Видишь ли, тут был когда-то граф. Он жил в той стороне, откуда ты приехала, а в деревне держал охотничьих собак. Вот ее так и назвали.
Лицо у нее было добрым, особенно когда она улыбалась. И, пожалуй, красивым. Вот только глаза непонятного цвета – тоже какие-то бледные. «Вдруг она чем-нибудь болеет?» – подумала Моня, но спросить не решилась. И, вообще-то, пора было забирать цветы, а то еще завянут.
– Спасибо большое, – сказала она. – Меня зовут Маша, а вас?
Незнакомка то ли удивилась, то ли растерялась. Может, невежливо было ее спрашивать?..
– И меня Маша, – ответила она, помедлив.
Моня нагнулась, чтобы поднять подарок, – и увидела на траве розовую ленту очень знакомого цвета бледно-розовой розы сорта «Барбара Остин» или вроде того. И полосу белой ткани под нею – поля пропавшей панамы. Лента, поля, а в середине – цветы…
– Мамочки! – прошептала Моня, подняла голову и встретилась глазами с бледными глазами незнакомки.
То есть теперь они уже были знакомы.
– Да, я сама удивилась, – кивнула ее тезка. – Там снизу корешки.
Моне вдруг стало холодно, причем особенно замерзли руки. Левой она неловко подхватила горошек вместе с остатками панамы, правой кое-как подняла с земли велосипед и покатила его через лесок к воротам. Медленно, с остановками, потому что держать его одной рукой было ужасно неудобно. Моне даже пришло в голову, что надо было попросить новую знакомую проводить ее хотя бы до ворот. Но когда она, остановившись в очередной раз, оглянулась, у болота уже никого не было.
Горошина, к счастью, еще спала, зато в дверях стояла Буланкина. Вечно она стоит в дверях!
Обычно Буланкина поворачивалась к Моне, направляла на нее свои очки и ждала, пока первой поздоровается. А тут сразу спросила:
– Что это ты притащила?
Недовольным таким тоном спросила. Можно подумать, Моня к ней притащила, а не к себе домой!
Моня опустила велосипед на землю у крыльца и перехватила цветы так, чтоб хоть немного прикрыть ленту с полями.
– Это душистый горошек, – объяснила она не столько Буланкиной, сколько Бабуле, которая выглядывала у нее из-за плеча. – Прямо с корнями, осталось только посадить. Мы же в этом году не успели семена купить, теперь зато будет сразу цветущий.
– Да вижу, что душистый горошек, – сердито сказала Буланкина. – А что это там из-под него торчит?
Надо же – заметила!
Моня очень не любила врать. Но не рассказывать же Буланкиной про панаму! Поэтому она дернула плечом, – правым, к левому прислонились цветы, – и ответила небрежно:
– Наверное, упаковка.
– Где ж ты такую упаковку нашла, на какой помойке? – продолжала допрос Буланкина.
– Не на помойке, а в леске!
Буланкина спустилась с крыльца.
– Ну-ка, покажи!
«Жаба!» – подумала Моня, хоть это было невежливо… э… по отношению к жабам, и опустила цветы на ступеньку.
– Вот!
Буланкина вдруг плюхнулась рядом с ними на ступеньку и обернулась к Бабуле:
– Дай водички!
– Сердце прихватило? – испугалась Бабуля.
– Не знаю… нет… что-то мне нехорошо. Сухость какая-то…
Буланкина выпила залпом кружку воды, тяжело поднялась на ноги и сказала Бабуле:
– Пойду. Ты на собрании-то будешь в субботу?
К душистому горошку она неожиданно потеряла всякий интерес.
– А как же, – кивнула Бабуля.
– Опять, небось, деньги собирать хотят, – пробормотала Буланкина и удалилась.
Бабуля долго ахала – сначала из-за панамы, потом из-за того, что не смогла разделить растения; уж очень они крепко держались друг за друга усиками. И, в конце концов, посадила душистый горошек возле сарая вместе с лентой и полями. Моня решила, что так даже лучше: по крайней мере, Горошина не будет вопить из-за дырок.
А лихомара давно уже сидела дома и переживала, потому что, как и Моня, не любила врать.
Утром, когда заканчивали завтракать, со стороны калитки долетел слабый свист. Точнее, два свиста, длинных.
Моня воскликнула:
– О! Носков! Бабуль, можно, я полчасика погуляю?
Бабуля, понятно, не стала возражать. Потому что жестоко было бы не отпустить человека повидаться с другом детства, который уезжал аж на три недели. Уезжал Носков в Коктебель, он каждый год туда уезжал с родителями. А два длинных свиста означали два тире – букву «М» в азбуке Морзе. Самого Носкова надо было вызывать коротким свистом и длинным: точкой и тире, потому что у него имя начиналось на «А». Азбукой Морзе увлекался их общий знакомый, у которого дача наискосок от Носкова. Но знакомому сейчас свистеть вообще не имело смысла: он сам усвистел – на Рижское взморье. Своих родителей Моня уже не раз спрашивала, когда же они-то с Горошиной побывают на море. И мама отвечала: «Я надеюсь, когда-нибудь побываем». А папа уверял: «Да что море! Это только кажется, что там лучше. В сущности, везде одно и то же». Как это – одно и то же, если там море есть, а тут, на даче, нет?
– Наконец-то я вернулся! – объявил Носков, когда Моня вышла к нему за калитку.
Он всегда так говорил, когда приезжал из Коктебеля.
– Носков, ты так говоришь, как будто тебя там мучили, – заметила Моня. – А сам вон, какой загорелый! И потолстел.
– А что там делать? Только купаться да есть, вот я и ел, – объяснил Носков, сворачивая в лесок.
Потому что, если не ходить по улице, то прогулка на полчасика – это до болота и обратно.
Носков сам настаивал на том, чтобы его звали по фамилии, хотя и жаловался, что в школе дразнят то Носком, то Чулком, а иногда и Гольфом. Родители и бабушка звали его Аликом, и Носков утверждал, что иногда прямо не хочется отзываться, так его раздражает это уменьшительное имя. Ему, как ни странно, нравилось полное – Альберт. Но оно плохо сочеталось с фамилией. И Носков дожидался получения паспорта, чтобы тогда что-нибудь поменять – имя или фамилию. Только не мог пока решить, что. То ли другую фамилию к имени подобрать – например, Альберт Нарский или Апрелевский (потому что это самые удобные электрички к ним на дачу, нарские и апрелевские). То ли все-таки оставить фамилию, потому что потом его уже дразнить не будут, а имя выбрать новое, не такое альбертистое.
Моня была за Альберта и против Носкова, но считала, что среди остановок электрички (за Апрелевкой) есть более подходящие варианты: допустим, Альберт Бекасов или Рассудов. Алабин – тоже ничего. Можно даже Альберт Калугин (дальше Калуги электрички не ходят). Но от Калугина Носков отказался сразу, потому что калужские электрички у них на станции не останавливаются.
– Мне там только музей Волошина нравится, – продолжал Носков. – Когда вырасту, у меня тоже, может, будет такая мастерская: с большими окнами в сторону моря. И то подумаю: Ба говорит, что зимой в большие окна будет ветер задувать. А в горы нельзя – там заповедник. А на пляже скучно.
– А здесь, что, не скучно, что ли? – возразила Моня.
– Да? А ты знаешь, что у нас в леске каждый вечер туман? В поле нет, на улице нет, на дороге нет, а в леске есть?
– Не знаю, – сказала Моня. – Бабуля вечером в лесок ходить не разрешает.
– И мне Ба не разрешает. Даже ту калитку запирает на замок, чтоб я не убежал и не заблудился. А что я, ненормальный, что ли? Подходишь к забору, а за ним ничего не видно, все белое и мутное. И над забором как будто стена. Хорошо, что этот туман хоть на участок к нам не лезет!
Носков вообще-то удобно устроился: у него были две калитки. Одна обычная, на улицу, а вторая – собственный выход в лесок. У всех, кто жил в этом ряду, вплотную к общественному забору, были свои калитки в лесок, – и у Мурика, и у Диты, а Моне приходилось ходить через общие ворота. И Носков с Муриком жили с правой стороны от ворот, а были еще участки слева, и у всех тоже калитки в лесок. Даже, между прочим, у Буланкиной, а она-то уж точно этого не заслужила.
– Я, кстати, видела недавно от ворот, как в лесок валил туман, – вспомнила Моня. – Мамочки! Это страшно. Он как раз оттуда валил, куда мы идем. Может, из болота. Или из речки.
– Я тоже думал, что из болота, а он от Буланкиной!
– Что?!
Носков был серьезен и печален. Прямо не Носков, а Альберт Нарский – в крайнем случае, Апрелевский.
– По-моему, она только чай пить умеет у нас в гостях, – сердито сказала Моня. – И с соседями ругаться из-за черноплодки. И ко всем придираться. И еще Горошину лихомарой пугать.
– Чем-чем? – удивился Носков.
– Она заявила, что если Горошина будет с ней спорить, придет лихомара и утащит ее в болото. Она, видите ли, как призрак: белая и мутная; кажется, что лицо, а это туман. Вот кто после этого Буланкина?
– Жаба, – подтвердил Носков.
– Даже хуже! – уточнила Моня. – Жабы хоть никого нарочно не запугивают.
– А может, у нас есть в болоте лихомара? – с надеждой спросил Носков. – Я узнаю у Ба. Это она мне сказала, что Буланкина каждый вечер гуляет в леске. И как пройдет мимо забора, так потом и начинается туман!
К тому моменту они как раз дошли до болота и остановились.
– Правда, что ли? – прошептала Моня. – Мамочки! Что ж ты раньше молчал?
– Да я же в Коктебеле был! – воскликнул Носков. – Я же перед самым отъездом узнал. И придумал план! А тут Коктебель! Я прямо не знал, как проживу там эти три недели!
Вот сейчас он был никакой не Альберт.
– Носков, ты чего так разорался? – сказала ему Моня. – Хочешь, чтоб Буланкина услышала?
– Ну и пусть! – расхрабрился Носков. – Придет, напустит туману, заблудится в нем и свалится в болото!
– Не свалится, – вздохнула Моня. – Если правда, что туман из-за нее, значит, она в нем хорошо видит.
– А мы проверим. Спрячемся у меня под забором и посмотрим, как Буланкина будет мимо проходить.
– А потом?
– Потом придумаем новый план.
– Интересно, как она его напускает? – сказала Моня.
– Наверно, выдыхает, как дракон пламя! – предположил Носков.
Моня тут же представила себе, как туман клубами вырывается у Буланкиной из ноздрей, струйками вытекает из ушей, валит из пасти… в смысле, изо рта… И, короче, всю обратную дорогу они с Носковым веселились, обзывая Буланкину туманодышащим драконом.
Лихомара была дома. Она только-только перестала переживать из-за вчерашнего своего вранья, а тут узнала голос и вспомнила, как представилась Машей. Ни у подруги из Зайцева, ни у приятельницы из Ямищева имени не было, но раньше она об этом как-то не задумывалась. Лихомары друг к другу обращались по названию ближайшей деревни: Бреховская, Зайцевская, Ямищевская… Иногда только Ямищевская говорила ей добродушно: «Ну, ты и Маша!» Но это было примерно то же самое, что услышать: «Вот ненормальная!» от зайцевской подруги.
На ямищевскую приятельницу лихомара тоже не обижалась: ей нравилось слово «Маша». Только стало немного грустно, что она на него не имеет права. А тут еще услышала фамилию. Почему у людей даже неприятным особам положены фамилии, хоть какие-то, вроде «Буланкина», а у лихомар такого нет?
И после того, как Моня с Носковым ушли, лихомара до самого тумана представляла себе, будто она на самом деле Маша, и думала, какая бы у нее могла быть фамилия.
Но ничего, кроме «Бреховская» в голову не приходило.
– …Как подумаю, каким был Муррус храбрым, аж страшно становится! Однажды он плыл по морю на корабле, а тут пираты. Как захватят в плен, как потребуют выкуп!
– Кошки-мышки! – сказал Ах-Ты. – А какой они хотели выкуп?
– Деньги. Кучу денег. Вот не знаю точно, сколько это будет в пересчете на мышей. Допустим, двести.
– Совсем обалдели! Куда им столько мышей?
– Естественно, обалдели! – подтвердил Мурик. – Они же пираты! Пираты мышей вообще не едят. А они: «Двести мышей – или продадим в рабство!»
– О как!
– А Муррус был не один – с ним вместе плыл Юлий Цезарь. Тоже полководец; он был Муррусу очень предан. Он потом устроился императором в городе Рим-муре (иногда еще его называют просто Рим). Специально, чтобы Муррус ни в чем не нуждался. Куда ж его в рабство, сам понимаешь, кто тогда будет императором? Но Муррус нисколько не испугался. И Юлий Цезарь говорит пиратам: «Да вы знаете, с кем имеете дело? За такого кота двести мышей? Пятьсот – вот достойный выкуп!»
– И что? – с интересом спросил Ах-Ты.
– И они отправили свою команду на берег за выкупом, а сами остались у пиратов. Но Муррус вел себя там прямо по-хозяйски! Например, перед тем, как вздремнуть, он посылал Цезаря приказать пиратам, чтобы не шумели.
– Класс!
– Так это еще не все! Муррус мурлыкал песни, а Цезарь читал стихи – свои. Пиратам. А тех, кто не хвалил, они царапали и ругали собаками.
– А пираты?
– Терпели. Все тридцать восемь дней. Потом вернулась команда с выкупом, и Мурруса с Цезарем освободили. Но они тут же снарядили новый корабль, напали на пиратов и не оставили от них ни шерстинки, вот!
На слове «вот» налетел ветер – даже ветрище. Мигом раскачал еловые лапы, разлохматил иву, а чубушник заставил кланяться до земли. И пригнал тучу, которая встала над забором, накрыв тенью котов. Мурик и Ах-Ты, не прощаясь, разлетелись от этой тени в разные стороны, легко, как бумажки от сквозняка.
Моня закрыла окно и помчалась вниз, сообщить Бабуле, что скоро начнется гроза.
– Да, миленькая, – подтвердила Бабуля, обернувшись к ней от плиты.
– Ни с того, ни с сего! – сказала Моня с возмущением.
– Наверное, Алевтина Семеновна приехала, – улыбнулась Бабуля.
Тут же на пороге возникла Горошина и пропищала:
– Где Семеновна?
Алевтина Семеновна, еще одна соседка, на даче бывала наездами. И как-то так ухитрялась появляться, что сразу начиналась гроза. И это при том, что пережидать грозу ей было особо негде. Дом у нее давным-давно набился разными вещами, так что самой Алевтине Семеновне места в нем не осталось. Только на веранде немножко. Там она ночевала, когда ночи были теплые. А когда холодные, просилась к Моне с Бабулей. Еще она приходила ужинать и восторгалась всем, что Бабуля ставила на стол. У себя Алевтина Семеновна ела только картошку с подсолнечным маслом.
Моня за ней наблюдала с интересом. Столько веснушек, сколько у Алевтины Семеновны, она не видела больше ни у кого. Не только на носу и щеках, но еще на руках, на плечах и даже на ногах – это было заметно, когда Алевтина Семеновна приходила в сарафане. Волосы у нее были рыжеватые – судя по тем прядям, которые выбивались из-под косынки. А голос – стрекочущий. Когда она разговаривала с кем-нибудь у себя на участке, можно было подумать, что это трещит сорока. А косынку, кроме Алевтины Семеновны, из знакомых не носил, кажется, никто. Всегда одна и та же, линяло-красного цвета, она закрывала лоб почти до самых бровей и сзади завязывалась узлом. В таких косынках иногда изображают пиратов в книжках для детей. У пиратов они тоже линялые – а может, на солнце выгорели. И в чем бы ни появилась Алевтина Семеновна, все было не то линялое, не то выгоревшее. Прямо пират!
Линялые вещи Моне не очень нравились, но недостаток Алевтины Семеновны она видела в другом – правда, всего один. Когда Моня была еще маленькой, Алевтина Семеновна, стоило прийти в гости, сразу хватала ее, сажала к себе на колени и начинала читать стих про сороконожку:
У сороконожки народились крошки.
Что за восхишенье, радость без конца!
Дети эти – прямо вылитая мама:
То же выраженье милого лица.
Моню это бесило. К счастью, она быстро выросла, и они с Алевтиной Семеновной оказались почти что одного роста, так что схватить Моню и посадить на колени стало слабо. К тому же, Моня наотрез отказалась ходить с Бабулей к Алевтине Семеновне в гости, а за ужином Алевтина Семеновна стихи не читала.
Но тут родилась Горошина. Алевтина Семеновна страшно обрадовалась и при первой же возможности схватила ее и застрекотала про сороконожку. Моня пришла в ужас, а Горошине, как ни странно, понравилось. И, видимо, она решила, что Алевтина Семеновна для того и живет на свете, чтобы читать ей это стихотворение. Сестра называется! В общем, как ни печально, сороконожки пролезли в дом. Моня закатывала глаза и выходила из кухни, но было ясно, что когда-нибудь Горошина выучит стих наизусть, хоть он и длинный.
Зато Буланкина, застав у них в гостях Алевтину Семеновну, быстро убиралась восвояси. Иногда Моня думала, что ради этого сороконожек можно и потерпеть.
– Бабуль, а зачем четвертая тарелка? – спросила Моня, когда они садились ужинать. – Правда, что ли, Алевтина Семеновна приехала?
– Ну, гроза-то была, – засмеялась Бабуля.
Моня глянула в окно на калитку (просто так, само глянулось), – и как раз увидела Алевтину Семеновну в дачной косынке – той самой, линяло-красной. Опять примета сработала!
Алевтина Семеновна прямо с порога ласково застрекотала, обращаясь к Горошине. Моня терпеть не могла всяких там «зайчиков» и «птичек», а от «рыбонек» и «деточек» ей становилось худо. Но, с другой стороны, раз после ужина вместе прогулки будут «Сороконожки», можно смотаться к Носкову. Он сказал, что если Моню не отпустят, то начнет выслеживать Буланкину сам, а то уже август, и можно до школы не успеть. Досадно же, если Носков увидит, а она нет!
Алевтина Семеновна села поближе к Горошине:
– Деточка, ну расскажи мне, как ты живешь? Боже мой! Картофельное пюре! Какое счастье! – Это она уже Бабуле. И снова Горошине: – Ты любишь картофельное пюре? Твоя Бабуля готовит его лучше всех!
– Люблю, – сказала Горшина. – Только у нас закончились сказки!
– Вот как? Ну-у, это не беда! – обрадовалась Алевтина Семеновна. – Я тебе сейчас расскажу сказку. Ты про что хочешь послушать?
– Про лихомару! – пропищала Горошина.
– Вон что ты знаешь! – удивилась Алевтина Семеновна.
– Гм… может, не надо? – пробормотала Моня.
– Нет, я хочу про лихомару! – уперлась Горошина. – Про то, как она всех утаскивает к себе в болото.
– Деточка, да нет, она никого не утаскивает, – застрекотала Алевтина Семеновна. – Ну посуди сама: в этих заросших прудах, в этих заболоченных канавах чего только нет. И лягушки там живут, и ручейники, и водомерки. Там и ряска растет, и цветы всякие болотные. И одной лихомаре места мало, а если она утащит, получится вторая! А вдвоем уже тесно. И потом, она даже такую, как я, с места не сдвинет. Она же как облачко или туманчик…
Горошина потыкала вилкой в пюре.
– А кого она знобит?
– Веруша, давай сначала поужинаем! – сказала Бабуля. – Алевтина Семеновна…
– Да, да! Кабачки бесподобны! Деточка, их надо обязательно съесть, пока они еще теплые! У лихомар такого пира не бывает.
– А какой бывает? – заинтересовалась Горошина.
– Веруша, кушай! – напомнила Бабуля.
– Да им вообще никакой еды не нужно, деточка, только вода. Они сырые. Потому от них и знобит. Но не всех. Вот если человек что-то сделает очень плохое, лихомара это почувствует, подкрадется сзади – рраз! – Алевтина Семеновна бросила вилку и схватила Горошину сзади за плечи, – и его прошибет озноб. И он начнет думать о том, как сильно провинился.
Как только Алевтина Семеновна снова взяла вилку, Горошина схватила свою и принялась наворачивать. Может, ей не хватало сказок за ужином, а то лучше бы ела?
– У нас есть книжка, где про лихомар написано, – сказала Моня, – но не так подробно, как вы рассказываете. Значит, они добрые?
– Они не злые, деточка. Кроме одной.
Алевтина Семеновна поправила свою пиратскую косынку – натянула поглубже на уши.
– А то очки спадают, – пояснила она. – Великоваты, а проститься с ними не могу: они мне очень идут!
– А можно завязать под подбородком, тогда очки не спадут, – предложила Моня.
Алевтина Семеновна отодвинула тарелку и повернулась к ней.
– Верно, деточка, но это хорошо для прохладной погоды. Сейчас я так запарюсь. Ты ведь слышала, что тут было когда-то графское поместье? Парк, пруд, цветники, дом большой…
– Да, – кивнула Моня.
– Я-то имею в виду самого последнего графа. До него тут его папа жил, а еще раньше дедушка, прадедушка. А последнему графу не повезло: случилась революция, все изменилось, поместье у него отобрали, а графский титул отменили. Но ему и вообще не везло. Говорят, у него была не то сестра, не то племянница. Очень хорошая. И вот ее здешняя лихомара вроде бы заманила в густой туман, как раз в эту канаву с головастиками, и бедняжка сама стала лихомарой!
– Вы же говорили, им вдвоем тесно…
– Так настоящая лихомара и не собиралась там с ней жить, она превратилась в эту барышню, не то сестру, не то племянницу! Ей хотелось быть графиней.
– Они так могут?! – ужаснулась Моня.
– Лихомары? Я только один такой случай знаю. Видишь, могут, но не имеют права. Получается, что она пошла на преступление ради красивой жизни. Ну, помнишь, как на портрете Орловой кисти Серова, но та вообще была княгиня… Не помнишь? Обязательно посмотри! Чтобы тебе диван, роскошное платье, декольте, бархотка на шее, бриллианты в ушах…
– И никто ничего не заметил?
– Заметили, конечно! Что графиня, как вернулась из тумана, стала ужасной придирой. До этого ее любили, а теперь всех от нее прямо трясло. И кто-то догадался, иначе я бы тебе эту историю не рассказывала. Но потом графа из поместья выгнали, и стало не до того.
Бабуля налила всем чаю и поставила на стол конфеты.
– А ведь сколько после революции было тяжелого, Алевтина Семеновна, – сказала она. – И настоящую графиню никто не тронул в болоте, а ненастоящая, небось, пропала.
– Да, не удалось ей всласть побыть графиней! – подтвердила Алевтина Семеновна с довольным видом и развернула конфету. – Так ей и надо. Чай со смородиновым листом? Прелесть! Только она не пропала, не скажите, такие не пропадают. До сих пор кому-то портит жизнь.
Носков на свист не отозвался. Ни на азбуку Морзе (точка и тире), ни на просто свист. А стручки акации в августе уже не те, чтоб в них свистеть, слишком жесткие. Пришлось зайти на участок без спроса, хоть Моня и рисковала. Ба Носкова была вообще-то довольно нервной бабушкой и запросто могла накричать не только на внука, а и на кого угодно.
Калитка у Носкова отсутствовала. Точней, она была, но скромно стояла в сторонке, проход не загораживала. Папа Носкова сделал ее в начале каникул с помощью какого-то родственника, и она получилась очень удобной. На ней можно было кататься даже втроем, а иногда и вчетвером – если Ба не видела. Что удивительно, когда она сломалась, на ней катался один Носков. Кажется, петли отвалились от столба. Но Носков успел соскочить. Ба тогда так разнервничалась из-за калитки, что ее голос было слышно даже у Мони, а до нее от Носкова три участка.
Но на этот раз Ба была настроена добродушно – может, успела успокоиться за три недели. Вышла из дома навстречу и сказала:
– Заходи, Машенька. Он там, в малине сидит под забором. И ужинать не дозовешься. Наверно, перегрелся в Крыму!
У всех счастливчиков с калитками в лесок – у всех без исключения – в конце участка вдоль общественного забора росла малина.
Вид у Носкова был такой, будто он действительно перегрелся. Он сидел прямо на земле и одной рукой держался за лоб. Увидев Моню, замахал ей свободной рукой и потянул на себя ближайший куст малины. Моня поняла, что надо пролезть к забору, пролезла и увидела спину Буланкиной – не очень далеко. Ноги подкосились, и Моня опустилась на корточки – прямо в крапиву, которую сначала не заметила, а зря: крапива в малине – неизбежность.
Недалеко от Носкова, через два участка, лесок заканчивался. Вдоль его границы тек ручей, а за ручьем начиналось поле. Кому надо было в поле, тот выходил из ворот, сразу поворачивал направо и шел по тропинке вдоль забора до самого ручья. Некоторые ухитрялись находить по дороге подосиновики, Моне ни разу не удалось. Зато она знала место, недалеко от Носкова, где у тропинки каждый год в мае цвел первоцвет весенний – желтенький такой. Больше он в леске нигде не цвел – только там.
В конце тропинки ручей было удобнее всего перепрыгивать. Но Буланкина, ясное дело, не тот человек, чтобы перепрыгивать ручьи. И она повернула обратно в лесок, но шла теперь не вдоль забора, а наискось, по траве. Значит, не домой.
– Я прямо не ожидал, что сразу получится, – прошептал Носков, присаживаясь рядом. – Стою, такой, рядом с малиной, выбираю, где устроиться, а Жаба р-раз мимо! Я даже спрятаться не успел.
Моня лизнула ребро ладони, ужаленное крапивой.
– Да уж…
– Куда это она? – шепотом спросил Носков, провожая взглядом спину Буланкиной.
– Наверно, к болоту, – сказала Моня. – А что это у тебя в канаве?
Канаву между забором и тропинкой вырыли тогда же, когда сколотили сам забор. Очень давно, Моня еще не родилась. Для того вырыли, чтобы весной талая вода стекала по ней в ручей. У ворот канава получилась глубокой и широкой, а ближе к Носкову мелела и сужалась, но все же через нее пришлось перекинуть мостик. И теперь под мостиком не то плескалось, не то кипело что-то белесое.
– Это же туман, ты что, не узнала? – удивился Носков уже не шепотом, а вполголоса.
– Надо же!
Моня привстала, чтобы получше разглядеть содержимое канавы, и случайно глянула в сторону ручья.
– Мамочки! – пробормотала она.
Над ручьем – или на ручье, – стеной стоял туман. Высотой стена была, как тогда, примерно до неба, и она уже начинала падать на лесок.
– Мостик! – вскрикнул Носков.
Моня перевела взгляд на мостик – и не увидела его: мостик затопило туманом, выпиравшим из канавы. Моня с Носковым одновременно вскочили на ноги – поднялся и туман по ту сторону забора. И очень быстро скрыл от глаз удалявшуюся спину Буланкиной.
– Ба! – заорал Носков.
– Ну, что, насмотрелся? – отозвалась Ба. Оказалось, она была рядом, просто в малину не полезла. – Давай ужинать. Сколько тебя ждать!
Вид у Носкова был самый, что ни на есть, насмотревшийся.
– Вот видишь, – сказал он Моне, – вовремя я вернулся!
Иногда Моне хотелось, чтобы их участок был где-нибудь в конце улицы, как у Носкова. Потому что мимо Носкова ходили и ездили только с одной стороны, и то редко, а мимо Мони – с двух, причем то и дело. А все из-за того, что когда-то дачные участки распределяли по жребию – кому какой номер достанется. И прадедушка вытянул четвертый, но это очень далеко от станции, за речкой, а Горбунка еще не было, и никто даже не подозревал, что он появится. Вот прадедушка и поменялся с кем-то на девяносто пятый, а участок с этим номером оказался угловым.
Так что ничего не поделаешь.
Одним углом он выходил на перекресток. Участок Алевтины Семеновны тоже выходил одним углом на этот перекресток. И участок тети Вали и дяди Пети Муриковых. И еще четвертый, необитаемый. Монина улица пересекалась там с проездом, который одним концом утекал в лесок, а другим вливался в соседнюю улицу. На перекрестке вечно стояли какие-нибудь тетеньки или дядечки и рассказывали друг другу про свою жизнь. А после собраний те же тетеньки с дядечками там же чем-нибудь шумно возмущались. Но собрания, к счастью, случались раз в год.
Понятно, что у народа с соседней улицы был свой перекресток. Но тамошний народ своим перекрестком не пользовался, а болтать приходил на Монин. И для этого еще проходил по проезду мимо длинной стороны ее участка. И когда в леске хотел погулять, тоже проходил. И на собрание – потому что его устраивали в леске. В общем, проходной двор!
Конечно, Монин перекресток был симпатичнее, потому что на каждом углу что-нибудь росло. На Монином – черемуха, на необитаемом – куст орешника, у Алевтины Семеновны – верба. А у Мурика стоял столб с фонарем, чтоб вечером не страшно было возвращаться из гостей.
Вообще-то Моне и самой случалось стоять подолгу на перекрестке. Но где еще стоять, если твой участок – вот он? Тогда родители приезжали на дачу на электричке, с рюкзаками, а Моня их в пятницу вечером встречала. Но потом появился Горбунок – так папа прозвал их бежевую машину. И родители стали приезжать в субботу утром к завтраку. Потому что на машине в субботу утром на дачу приезжать быстрее, чем в пятницу вечером.
В эту субботу они тоже приехали к завтраку и опять не привезли Горошине сказок. Привезли ей раскраски, Моне бадминтон, а Бабуле – большой альбом Серова.
Мама сказала:
– Бабуля, отдыхай, а мы займемся хозяйством.
– Хорошо, – кивнула Бабуля, – пойду сейчас отдыхать на собрание.
– Ой! – воскликнула мама. – Я и забыла!
А папа спросил:
– А зачем нам, интересно, лишнее собрание? У нас как собрание, так плату за дачу повышают. В июле уже повысили. Может, не ходить, а то еще повысят?
– Говорят, кто-то лесок собирается застраивать, – объяснила Бабуля. – Поэтому и собрание.
– Как?! – хором закричали Моня и мама.
А папа сказал:
– Ого! Тогда я, пожалуй, с вами схожу.
И они с Бабулей, взяв складные табуретки, отправились в лесок. Вместе с толпой народа, валившей через перекресток. Все остальные тоже несли складные табуретки, или складные стулья, или просто скамеечки. Потому что собрания проходили на поляне под дубом, сразу за Муриковым участком.
Мама объявила, что у нее в планах приготовить обед и вымыть Горошине голову. А Моню отпустили играть с Носковым в бадминтон. Вернее, Носкова отпустили к Моне поиграть в бадминтон, пока Ба будет на собрании. Его родители еще вчера уехали обратно в Москву: у них закончился отпуск.
Они играли на улице возле Мониной калитки, а в леске под дубом шумело собрание. И этот шум вообще-то легко можно было принять за скандал. Когда пролетал очередной самолет, скандал ненадолго утихал, и слышно было одну Диту.
– А-ах ты! – говорила Моня, взмахивая ракеткой.
– Л-лихомара! – отзывался Носков, отбивая воланчик обратно.
– А-ах ты!
И Моня снова наподдавала ракеткой.
– Л-лихомара! – лупил в ответ по воланчику Носков.
Алевтина Семеновна накануне за ужином заверила Моню, что история про лихомару и графиню еще не закончилась. Потому что, если когда-нибудь настоящая графиня и настоящая лихомара снова встретятся, то графиня может сказать: «Ах, ты, лихомара!», и они опять поменяются местами. Моня еще спросила: «А если графиня об этом не знает?» Алевтина Семеновна развела руками: «Ну, за такое-то время могла и узнать!»
Перед бадминтоном Носков, который тоже теперь был в курсе, сказал:
– Значит, «Ах ты, лихомара!» – это не ругательство, а заклинание!
– То есть как? – удивилась Моня.
– А вдруг другой человек – скрытая лихомара? Тогда он превратится в туман и улетит в болото.
– Но ты ж не графиня, – заметила Моня.
– Ну и что! – возразил Носков. – Может, таких лихомар полно!
– Алевтина Семеновна сказала, что был всего один случай.
– А она что, все знает?
На этот вопрос у Мони ответа не нашлось. И теперь они с Носковым тренировались.
Пока Моня могла назвать только одного человека, которому хотелось сказать: «Ах, ты, лихомара!», – Буланкину. Раньше ей бы в голову такое не пришло, потому что ругать старших невежливо, но если это заклинание… С другой стороны, Буланкина может ведь и не улететь в болото, и что тогда начнется – представить страшно. Интересно, действует ли заклинание, если его произносить про себя? Моне захотелось расспросить Алевтину Семеновну, но она сидела на собрании.
Вышла из калитки тетя Валя Мурикова – она на собрания не ходила, потому что и так все слышала. Сказала:
– Вы мои л-ласточки! В лихомару играете? Я тут с вами постою, подальше от этого собрания. А то наслушаешься всяких глупостей, и хоть самой играй в лихомару!
Носков опустил ракетку.
– А вы не знаете, моя Ба там тоже кричит?
– Да они все кричат, – махнула рукой тетя Валя. – Приехали какие-то, хотят в леске дачи строить. Так им нужно наше согласие, чтоб через нас ездить, а то бреховские не пускают. А я-то на самом ходу!
– И я… – сказала Моня.
– Вот они все мимо нас с тобой и попрут!
– Ничего себе! – ужаснулся Носков. – Я, такой, открываю калитку в лесок, а там чужая дача?! Может, сбегать, сказать Ба, чтоб проголосовала против?..
Тетя Валя посмотрела на него очень мрачно:
– Ты моя ласточка! Да они не спрашивают, можно им строиться, или нет. Они только насчет дороги. Сколько ни голосуй, лесок они, считай, подгребли. Чтоб они провалились со своими дачами!
Тетя Валя Мурикова была человеком вспыльчивым. Она запросто могла поругаться с дядей Петей, или своей ближайшей соседкой – хозяйкой Диты, или с кем угодно. Но зато с ней поговоришь – и кажется, что вы уже давным-давно друзья, Моня это знала по себе. Поэтому по-дружески спросила:
– Теть Валь, а вы бы кому сказали: «Лихомара»?
Тетя Валя еще больше помрачнела.
– Да есть тут одна такая… – процедила она сквозь зубы и покосилась туда, где скандалило собрание.
– Буланкина? – подсказала Моня.
– Ты моя л-ласточка! – воскликнула тетя Валя Мурикова. – В кого ж ты такая умная? В Бабулю, небось, в свою. Этой Буланкиной в болоте булькать, а не на собрании выступать! Очень хорошо, говорит, что будут новые дачники: надо объединиться и засыпать болото, а то, мол, из-за него в леске, что ни вечер, туман. Туман-то – природное явление! Захочет и будет, у Буланкиной не спросит!
Моня с Носковым переглянулись.
– Сдалась ей эта канава! – продолжала возмущаться тетя Валя. – Ее хлебом не корми, дай только повыступать!
Скандал тем временем утих, осталось только некоторое жужжание.
Тетя Валя перестала возмущаться и прислушалась.
– Закончили, что ли? Сейчас Петя придет, все узнаем…
Жужжание сместилось в сторону ворот, потом начало понемногу приближаться. Моня, Носков и тетя Валя Мурикова повернулись в сторону перекрестка и стали ждать.
Первой появилась Алевтина Семеновна.
– Здрассте! – воскликнули Моня с Носковым.
– Здравствуйте, деточки! – застрекотала она, присоединяя к ним и тетю Валю Мурикову. – Еще ничего не решили, не переживайте! Хватило ума сказать, что подумаем недельку.
– Ну, подумаем, а дальше что? – сердито спросила тетя Валя.
– А дальше новое собрание.
– Да кто на него придет?! – вскипела тетя Валя. – Уже половины народа не будет: все детей в Москву увезут, к школе готовиться. И пустят этих пришельцев ездить по нашим улицам!
Но тут из леска хлынула на перекресток жужжащая толпа, поплыли перед глазами складные табуретки, и с криком: «Трансформатор!» из-за столба с фонарем выскочил дядя Петя Муриков.
– Здрассте! – сказали Моня с Носковым.
– Доброго здоровья! – кивнул он.
– Какой еще трансформатор! – кинулась к нему тетя Валя. – Петь, ты чего? Мало ли, что они обещают! Они нам за этот новый трансформатор устроят проходной двор.
– Так наш-то старый совсем, – возразил дядя Петя. – Они предлагают поставить новый себе и нам. Это большие расходы. А то однажды без электричества останемся.
– Да накой оно нужно, твое электричество, если дачу продавать придется из-за шума и пыли!
Из толпы выбрались папа с Бабулей. Вид у них был усталый, но, услышав тетю Валю, они сразу взбодрились.
– А детям где гулять, если наш лесок застроят? – начал папа вкрадчивым голосом. – Об этом кто-нибудь думает?
Вкрадчивым голосом папа начинал говорить, когда злился. А уж потом!..
– Да гнать их в шею вместе с трансформатором!
И папа так махнул складной табуреткой, что «пришельцы», окажись они рядом, тут же улетели бы в деревню Брехово, где им, судя по всему, тоже были не рады. Бабуля точным движением перехватила у него табуретку и понесла домой вместе со своей.
– Ну, не знаю… – растерялся дядя Петя. – Я вообще-то предупредил этих людей, что в леске у нас каждый вечер сильный туман. Они сказали, что специально приедут посмотреть…
На слове «посмотреть» дядя Петя выронил складную табуретку, потому что Буланкина, которая ухитрилась подобраться незаметно для всех, гаркнула ему в ухо недовольным тоном:
– Это когда это?
– Видимо, на той неделе, – ответил дядя Петя и отошел поближе к своей калитке.
Так что теперь Буланкину стало видно всем.
– Здрассте, – вздохнули Моня с Носковым.
– А что это за вздохи? – уставилась на них Буланкина. – Вы что, нормально поздороваться не можете?
– А вы, так и вовсе не поздоровались! – немедленно сказал папа.
– Нечего мне указывать! – сверкнула на него очками Буланкина. – Ты лучше детей своих учи, как надо со старшими разговаривать!
Алевтина Семеновна, которая до этого что-то стрекотала подбежавшей к калитке Горошине, стала внимательно смотреть на Буланкину.
– А почему вы мне тыкаете? – вкрадчиво начал папа. – Я вам такого права не давал. Извольте обращаться ко мне на «вы»!
– Сейчас! – отозвалась Буланкина. – У тебя тут вообще права голоса нет. Не твоя дача, а тещина!
– Какое тебе дело, чья у них дача! – не выдержала тетя Валя.
Буланкина повернулась к ней.
– А твой муж – интриган! Таким прикидывается хозяйственным, так о новом трансформаторе печется, а сам втихушку гадости рассказывает, чтоб люди здесь дачи не строили.
Тетя Валя даже ахнула.
– Это Петя интриган?!
– Валечка, не надо! – вскрикнул дядя Петя, отступая к себе на участок.
Носкова скандалы нервировали, а уйти домой без Ба он не мог. Поэтому он уже какое-то время стоял ко всем спиной и нервно подбрасывал ракеткой воланчик. Когда ахнула тетя Валя, нервы у него, должно быть, сдали совсем. Носков дернулся, наподдал воланчик сильно и косо, и тот, описав дугу, пролетел у него над головой, похлопал Буланкину по плечу, а уж потом упал на Муриков мостик к ногам дяди Пети.
В больших очках Буланкиной засверкали молнии вроде тех, что были нарисованы на заборчике, за которым стоял трансформатор.
– Ты как смеешь хулиганить?! – напустилась она на Носкова. – Вот я бабке твоей пожалуюсь!
– Да иди ты в болото! – звонко крикнула ей Ба Носкова, которая тоже подошла незаметно для всех – в том числе, для Буланкиной.
– Точно! – поддержала тетя Валя. – Старая ты лихомара!
Моне показалось, что на мгновение Буланкина с ног до головы побелела. И каштановые волосы, и васильковый сарафан (не говоря уж о белых цветах на нем), – все стало однородно-белесым, как туман в канаве у Носкова. Но, может, это только показалось, потому что Буланкина не улетела в болото, а простонала, прикладывая ладонь к левому боку:
– Сердце прихватило! Вот и разговаривай с такими…
Она оглянулась на Монину калитку, увидела Алевтину Семеновну и, не говоря больше ни слова, пошла прочь.
– Меня от нее трясет! – сказала тетя Валя, когда Буланкина была уже по ту сторону перекрестка.
– А меня знобит! – откликнулась Алевтина Семеновна.
Взвыла Дита, заслышав гул самолета, и все разошлись, наконец, по домам.
Только к концу обеда Бабуля и папа немного разговорились, и Моня неожиданно для себя узнала кое-что новое.
Во-первых, про дачи в лесочке. Оказалось, они не чужие, потому что это – еще один сектор их садоводческого товарищества. А Моня-то всегда думала, что «товарищество» – это дачники с ее улицы и соседней.
Слово «товарищество» Моню удивляло. Из тех, например, кто жил на соседней улице, они с Бабулей не знали почти никого. Так какие же там товарищи? А на своей они, наоборот, были знакомы почти со всеми, но кое-кого, не будем показывать пальцем, Моня в товарищи бы не взяла и Бабуле бы не советовала.
В общем, это оказался сектор, причем почему-то третий. А за речкой был почему-то второй, с тем самым четвертым участком, который прадедушка поменял. Зато приятно, что Монин сектор считался первым. Это во-вторых.
И, в-третьих, про коменданта. Даже Горошина знала, что он в «товариществе» есть. Этот важный дядька иногда появлялся на перекрестке. Но тут выяснилось, что он отвечает за электричество и ту некрасивую штуковину под названием «трансформатор», к которой тянутся провода, и которая тихо гудит в леске недалеко от ворот. И что именно он привел на собрание «пришельцев». А главное, что дача у него в третьем секторе у самого болота! Поэтому комендант очень обрадовался, когда Буланкина стала кричать о вреде болота, и тоже закричал, что его надо засыпать. А «пришельцы» сказали: «Ну это ерунда! Конечно, засыплем».
– Какой ужас! – повторяла мама, слушая папу с Бабулей.
И Горошина пищала:
– Ужас!
Пищала-пищала и вдруг спросила:
– А лихомару тоже засыплют?
– Какую еще лихомару? – пробурчал папа.
– Там, в болоте, – ответила Горошина.
– Ей Буланкина сказала, что у нас в болоте живет лихомара, – объяснила Моня.
Папа зарычал, обед закончился, и мама с Бабулей стали убирать посуду со стола.
Потом папа до ужина чистил канаву. Мама напоминала ему про жару, Моня заикалась о том, чтобы всем вместе пойти гулять в лесок, пока его еще не застроили, но папа молча обливался потом и орудовал лопатой. Наконец мама сказала Моне:
– Ну… ты знаешь… иногда это нужно – почистить канаву.
Они проводили Бабулю до завтра в Москву – стричься и, может быть, краситься, а сами уселись на крыльце и пролистали альбом Серова до самого конца. Там-то, в конце, Моня и увидела портрет Орловой, о котором говорила Алевтина Семеновна.
– Да, красиво! – вздохнула она, разглядывая графскую жизнь – или даже княжескую. – Особенно собака…
– А платье? – спросила мама. – А прическа?
– Прическа? Где-то я такую недавно видела… Ой! – воскликнула Моня. – Подожди, подожди! Давай обратно в начало, я тут кое-что вспомнила!
– А что ты хочешь найти? – спросила мама.
– Одну блузку.
Блузка нашлась на портрете Львовой.
– Вот же она! С рюшами! – обрадовалась Моня. – Очень похожа на ту, в которой была тетя Маша. Хотя и не точь-в-точь.
– Какая тетя Маша? – удивилась мама.
– Ну та, которая мне подарила душистый горошек. Еще на ней была длинная юбка. Это сейчас модно, да? И, кстати, у нее такая же прическа, как тут.
Мама сказала осторожно:
– Машуня, но ты видишь, вот тут указан год? Этот портрет написан сто лет назад. Такие блузки и прически носили тогда, в то время.
– Но с тетей Машей-то я познакомилась вчера, – возразила Моня.
Мама пожала плечами:
– Ну, не знаю… Может, ей просто нравится одеваться в старинном стиле, и она сама себе шьет наряды.
– Круто! – восхитилась Моня. – Молодец тетя Маша! Так намного интересней гулять, только жарко очень.
– Смотря из чего сошьешь…
– Но рукава-то ниже локтя ей зачем?
– А ты тут хоть где-нибудь на картинке видела короткие?
Интересный получался разговор, но явилась Горошина, и, конечно, мама отвлеклась. Моня еще раз пролистала весь альбом уже без нее. Н-да… Блузки были все больше с оборками, но смотрелись как родственники той, что с рюшами. А уж длинные юбки, а уж прически, как у тети Маши, попадались сплошь и рядом. И такие же у всех пышные волосы, и так же зачесаны вверх, и такие же «пучки» на макушке… «Может, она отсюда все и взяла, – подумала Моня. – Если увижу, спрошу».
Чтобы выманить папу из канавы, мама пораньше приготовила ужин. Но они с Моней зря волновались: в канаве папе не стало хуже, наоборот, полегчало. Он вымылся под летним душем и бодро сказал, что, пожалуй, они еще успеют до тумана погулять в леске.
И они успели. Правда, когда дошли до болота, встретили Буланкину. Но не нос к носу столкнулись, и то хорошо: она прошла чуть в стороне. Мама повернула голову, приготовилась здороваться, однако Буланкина сделала вид, что не заметила.
Моня поняла, что в канаве у Носкова уже полным-полно тумана, не говоря о том, что над ручьем он стоит стеной. И что очень скоро тамошний туман доберется до поляны для собраний. Но с родителями было не так страшно, как вдвоем с Горошиной.
– Хорошая моя, объясни мне, почему наша Бабуля дружит с этой ужасной теткой? – спросил папа.
– Не могу тебе объяснить, мой хороший, не знаю, – ответила мама. – Но думаю, что Бабуля имеет право дружить, с кем хочет.
– Да никакая это не дружба! – возразила Моня. – Буланкина к нам за валидолом ходит. И чаю попить, и рассказать, какие все кругом плохие.
– Если она видит кругом только плохое, то мне ее жалко, – заметила мама.
– Вот и Бабуле жалко.
– Зато самой Буланкиной не жалко никого и ничего, – сказал папа. – Вот приедут эти новые дачники и спилят в леске последние осинки.
– А что будет, если начнут засыпать болото? – подхватила Моня. – Тут же водомерки живут, и ручейники, и лягушки…
Она чуть было не сказала: «И лихомара».
– И лихомара… – пропищала Горошина.
– Вообще-то было бы круто… – вздохнула Моня.
– Что круто? – уточнил папа.
– Если бы у нас в болоте жила лихомара. Они, говорят, могут трясти и знобить за всякие злодейские дела, так пускай бы потрясла и познобила нашего коменданта – тут все равно рядом.
– А где он, кстати, обитает? – спросила мама. – Вон за тем забором? Не понимаю, чем ему помешало болото. Свой водоем на участке. Некоторые специально выкапывают прудики, а ему и делать ничего не надо.
– Хорошая моя, я уж не говорю о том, что болото у него есть, а тумана нет, – сказал папа. – У нас вообще какой-то волшебный туман!
– Что?! – воскликнула Моня. – Ты сказал «волшебный»?
– А чего это ты, Моня, так обрадовалась? – удивился папа. – Мне, например, не нравится то, что невозможно объяснить законами природы. Обычно туман образуется тогда, когда есть для этого погодные условия. А нашему на погоду плевать, он образуется и все. Каждый день. Обычно туман если уж стоит в воздухе, то везде. А наш доходит до ворот, а дальше – ни-ни. Стесняется, что ли?
– И, между прочим, болото не виновато, – заметила Моня. – Он и из ручья лезет, и из канавы, мы с Носковым видели…
Папа посмотрел на болото с одобрением.
– Вот знаете, девушки, что я подумал? Это ведь историческое болото! Старинное! Наверняка оно появилось тогда же, когда и пруд. Будь моя воля, я бы восстановил тут и пруд, и парк, и графский дом, и всю усадьбу! В доме бы устроил музей и пускал бы туда экскурсии.
Мама, которая стояла к болоту спиной, оглянулась через плечо.
– Мой хороший, идея мне нравится, но времени-то у нас всего ничего – неделя… Ой, смотрите!
Из бывшего пруда поднимался к небу туман, окутывал иву, выползал из-за бугра. И на поверхности болота уже не видно было ни воды, ни ряски, ни водомерок, – все скрыли белесые волокна тумана, и казалось, что рогоз растет прямо из него.
– Вот это да! – прошептала мама. – Жутковато, но по-своему красиво, прямо завораживает…
Папа подхватил Горошину на руки и сказал:
– Хорошая моя, мы же отсыреем, глядя на эту красоту. А вот небольшая пробежка перед сном по направлению к дому согреет нас и повысит наши шансы не промахнуться мимо ворот.
– Это точно! – засмеялась мама. – Побежали. Можно даже наперегонки.
Как Моня и предполагала, туман, валивший от ручья, немного их опередил. Но был еще довольно редким, и мимо ворот они не промахнулись.
Моня не знала, что, когда они убежали домой, лихомара вынырнула и, пока ее не накрыло туманом, смотрела им вслед, ухватившись за стебель рогоза – на всякий случай. Потому что больше всего на свете боялась потеряться в тумане.
А потом она всю ночь не спала. Как тут уснешь – еще один удар! Какой тяжелый выдался август: сушь и сплошные неприятности!
Из того, о чем говорили между собой эти милые люди, выходило: придется переезжать. «Как это ужасно! – бормотала лихомара. – Покинуть родные места… скитаться… Что сказала бы моя бабушка!..»
И как быть с душистым горошком? Он цвел торопливо – как чувствовал! Но так пышно, что за неделю отцвести никак не успевал. А ведь уже появился стручочек с семенами, и на будущий год горошек бы, глядишь, разросся… А тут… «Нет бабушка бы этого не перенесла!» – подумала лихомара.
Ведь не выкопать его и не забрать с собой на чужбину! Надо было и это растеньице отдать Маше. «Цветников тебе захотелось! – упрекала себя лихомара. – Какие у лихомар цветники! Сказать ей, чтобы забрала, пока не поздно? Но ведь это надо опять на дачи… О-о-о… Хорошо, что бабушка всего этого не видит!»
Утром заявилась подруга из деревни Зайцево.
– Бреховская! Чтой-то тебя давно не видно!
Разговаривать ни с кем не хотелось.
– Меня выселяют, – промямлила лихомара.
Хотелось повертеть что-нибудь в пальцах – травинку, платочек – но принимать вид графини при подруге было неудобно.
– Здесь построят новые дачи, и мое болотце решено засыпать.
Подруга на этот раз не сказала: «Вот ненормальная!» Она воскликнула:
– Вот горемыка! Да чтоб они пересохли со своими дачами! У тебя и так-то не хоромы… Ну, давай, перебирайся в Зайцево. Сосед ко мне в пруд свой диван спихнул, так я его не стану знобить, чтоб вытаскивал обратно. Будет на чем тебе в графиню играть.
Лихомара не прослезилась только потому, что кругом и так была вода. Пробулькала:
– Что ты, что ты! Тебе самой тесно. Я поищу что-нибудь, время есть…
– Хватит булькать! – велела подруга. – Айда в Ямищево. Там три пруда; может, туда тебя пристроим.
Ямищевская приятельница утверждала, что графья у них там не жили, только обычные помещики. Но все-таки графского в Ямищеве было больше, чем в окрестностях Брехова. Тамошние огромные пруды на краю деревни бывшими никто бы не назвал, воды в них хватало. Два полностью заросли ряской, и в них хозяйничала местная лихомара, а третий зарос только частично, в основном водяными лилиями. В нем деревенские купались.
Из двух заросших прудов ямищевская лихомара предпочитала тот, что ближе к деревне: говорила, что обожает старину. Рядом с ее жильем стояла часовенка – по виду явно из графских времен. Кирпичи облупились, главки пропали, то, то было нарисовано над входом, почти стерлось, на кованой черной двери вечно висел замок. Между створками осталась щель, но лихомара в нее не заглядывала, а Ямищевская заглядывала и даже пролезала и вроде бы ничего, кроме хлама, не обнаружила.
У Ямищевской и дома была старина: дубовый резной буфет. Части его так удачно легли на дно, что оказались недалеко друг от друга. В одной из них хранился белый заварной чайничек. Лихомара наглядеться на него не могла. «Какое счастье, – думала она, – что он, падая в воду, угодил именно в буфет! Вон, самовар не угодил, и его уже почти не видно в иле». Но это Ямищевская сейчас говорила, что обожает старину. Когда все эти вещи появились у нее в пруду, она даже слов таких не знала – «буфет», «самовар» и «чайник», это лихомара ей сказала. «Ты-то откуда набралась?» – спрашивала Ямищевская. «Да как же их не знать?» – удивлялась лихомара.
Хоть лихомара и слыла ненормальной, а все же, как собирались они втроем, так и становилось видно, кто тут самый ладный. У нее-то фигура как дымок от костра – в тихую, конечно, погоду, когда он стройно поднимается кверху. А зайцевская подруга – пухленькая, вроде облачка. А ямищевская приятельница вроде и не пухлая, зато какая-то лохматая, – совсем за собой не следит… Все равно, лихомара ее побаивалась: вечно уставится, да так внимательно, чуть искоса, будто ворона на стеклышко. Словно догадывается, что лихомара ни знобить не умеет, ни туману напускать.
«Перееду, так она уж точно поймет», – думала лихомара по дороге в Ямищево.
А Ямищевская все выслушала (говорила, в основном, Зайцевская) и сказала добродушно:
– Да хоть завтра! Мне этот средний пруд и ни к чему. Раньше-то я бы тебя, Бреховская близко не подпустила, уж больно ты была вредная. Зато теперь ты прямо ангел, а не лихомара. Откуда что взялось? Мы ведь не зря с тобой одно время знакомство поддерживать перестали…
Лихомара опешила:
– То есть как – перестали? Я же помню: Зайцевская примчалась, мол, пожар у нас, того гляди, деревенские весь пруд ведрами вычерпают. «Можно, – говорит, – я у тебя пережду?» Так и познакомились. А потом она меня к тебе привела…
– Вот ненормальная! – воскликнула зайцевская подруга. – Да мы уже были знакомы. Я к тебе как к знакомой-то и примчалась тогда, Ямищевская от меня дальше.
– Да нет же, не были!
Ямищевская переглянулась с Зайцевской.
– Я ж говорила: что-то с ней тогда случилось. Помнишь? Ну говорила же. Напрягись!
Зайцевская напряглась и из просто пухленькой стала кругленькой. Наконец, сказала:
– То-то она графиню начала изображать!
А Ямищевская из просто лохматой стала косматой:
– Бреховская, может, это после того, как у вас графский дом спалили?
– Может, – вздохнула лихомара.
– Вот! Наверно, подействовало.
Что с ними спорить! Как сгорел графский дом, она не помнила. Помнила, что до появления Зайцевской жила у себя в болоте затворницей. Это Зайцевская ее вывела в свет…
Подруга сказала:
– Да ладно! Это все уже в прошлом. Мы пруд-то смотреть будем?
Что касается Мони, то никакого желания смотреть на ямищевские пруды у нее не было. Ни при каких обстоятельствах. А уж тем более в это воскресенье.
В два часа ночи Горошина проснулась с воплем: «Мама!! Почему рыбки уснули в пруду?!» Все вскочили и помчались ее успокаивать. Она-то успокоилась, а мама, папа и Моня поняли, что теперь без чая не уснут.
Папа нервно ел бутерброды и приговаривал:
– Ну что, хорошая моя, теперь ты понимаешь, как вредно включать детям колыбельные? В следующий раз она тебя спросит, почему птички уснули в саду.
Только чай подействовал и Моня начала задремывать, как на иве заорали коты. Она испугалась, что это Мурик поругался с Ах-Ты, кинулась к окну, но в темноте, да еще со второго этажа ничего, разумеется, не разглядела. А под утро ей приснилось, будто к ним заявляется в гости Буланкина. Хватает чайник и всем наливает в чашки тумана. И переливает через край, и этот туман сперва разливается по столу, а потом заливает всю кухню до потолка, так что уже ничего не видно, и Буланкину тоже. Короче, в шесть уже можно было вставать, просто Моня боялась разбудить остальных.
Поэтому когда родители собрались в Ямищево купаться, она сказала:
– Ой да ну!..
– Монь, ты чего? – удивился папа. – Может, сегодня последнее жаркое воскресенье в этом году!
Мама тоже удивилась:
– Машуня, тебе разве не хочется искупаться?
– Хочется, но не в Ямищеве.
– А где?
– Речка и то лучше.
– А пиявки?
– Уж лучше пиявки, чем тащиться сто лет по жаре. Сначала туда, потом обратно. Да еще идти по деревне!
В Ямищеве улица была шире бреховской раза в два. И там никто не выскакивал ругаться (если только не пытаешься заглянуть в часовню). Но Моне казалось, что, пока по этой улице идешь, на тебя смотрят из каждого окна. А это ужасно неуютно.
Как назло, чтобы попасть к прудам, деревню надо было пройти насквозь. И как назло, родителям нравилось ходить через Ямищево. Они даже не ускоряли шаг, а прямо-таки прогуливались и еще обсуждали, какой дом лучше.
– Между прочим, Горошина туда не дойдет, – сказала Моня.
– Она доедет, – возразил папа.
– На чем?
– На мне.
– Мы сейчас поедем? – обрадовалась Горошина.
Моня сказала:
– Да? Ну, если можно всем на тебе подъехать, то я согласна!
– Размечталась! – заметил на это папа.
Горошина посмотрела папе за спину.
– Монечка, ты там не поместишься! – сообщила она. – Одна я могу, потому что я бельчонок!
Моня хмыкнула.
– И где же твой пушистый хвост?
– А у меня нету, я ручной!
– Это когда ты у меня на ручках, то ручной, – уточнил папа. – А когда на закорках, то дикий.
– Можно, я у Носкова побуду? – спросила Моня.
– Давай, ты лучше пригласишь Носкова с нами, – предложила мама.
Моня было обрадовалась, но напрасно: Носкова не отпустила Ба.
Мама сказала:
– Ну ты знаешь… если тебе так неприятно идти через деревню, мы можем ее обойти. Отдохнем немного в дубовой роще, в тенечке, и тогда уже купаться…
«И на том спасибо!» – вздохнула про себя Моня.
Дубы в дубовой роще росли далеко друг от друга, поэтому света там было много, а тени не очень. Где действительно был «тенечек», так это на тропинках между прудами, сырых в любую жару. Когда долго-предолго плетешься с сумками – с полотенцами, ковриками, надувным кругом для Горошины, яблоками, сушками, печеньем и еще всякой всячиной – вдоль разогретого солнцем поля, потом топаешь вообще без дороги, по траве через дубовую рощу, а потом сворачиваешь ненадолго на такую тропинку, открывается второе дыхание. После этого можно уже нормально дойти до дальнего конца дальнего пруда, где все купаются.
И, конечно, когда они выходили из рощи на окраину Ямищева, выяснилось, что все опять забыли, на которой тропинке колодец. Колодец с очень холодной и очень вкусной водой стоял между двумя прудами. Мама уверяла, что между ближним и средним, а папа – что между средним и дальним. Моне было уже все равно.
– Идемте хоть на какую-нибудь тропинку! – взмолилась она. – А то мне кажется, что меня запекают в духовке, и я скоро стану как не знаю, что!
– Как куриное брыло! – подсказала сверху Горошина.
– Тихий ужас! – простонала Моня.
– Хорошая моя, а нам обязательно к колодцу? – спросил папа.
– Желательно, мой хороший, – отозвалась мама. – Потому что, как обычно, мы взяли с собой фляжки специально для колодезной воды. Она нам очень пригодится, когда захочется пить.
– Сдается мне, что он между средним прудом и дальним, – сказал папа. – Но так и быть, чтоб тебе было спокойней, давай пройдемся сначала между ближним и средним.
Так они и попали на правильную тропинку.
Солнце осталось где-то там, за ивовыми кронами, и Моне показалось, что перед ней открыли дверцу холодильника. Справа и слева выстроились крапива и сныть, под ногами появилась слякоть, неожиданная в такую погоду. Горошина, сидя у папы на закорках, торжественно объявила:
– Глубжа какая!
– Точнее не скажешь, – отозвался папа.
– Уффф! – выдохнула Моня. – Чур, я ворот кручу!
Второе дыхание появилось.
Колодец дожидался слева, как ему и полагалось, ближе к концу тропинки. «Какие все-таки здоровенные пруды выкапывали в графские времена!» – подумала Моня. И еще подумала: «Интересно, у колодца снова будет лужа?»
В это момент из-за колодца показалась тетя Маша. В той же блузке и той же юбке, в которых дарила душистый горошек. И с той же прической.
– Мам, смотри! – позвала Моня.
Но мама не услышала, потому что одновременно папа спросил ее:
– Хорошая моя, а как ты собираешься перелить воду из ведра во фляжки?
– Просто опущу их в ведро, мой хороший, – ответила мама. – А остальную воду выльем на землю.
– Вот потому-то там лужа и не просыхает, – заметил папа.
А пока они разговаривали, тетя Маша пересекла тропинку, спустилась к среднему пруду и пошла прямо по ряске. Она шла быстро, но так легко и плавно, что подол юбки почти не колыхался. И на фоне ряски наряд ее смотрелся очень даже хорошо – пожалуй, и сам Серов захотел бы его изобразить. «Наверно, мама права, и это какая-то совсем невесомая ткань, – подумала Моня. – Хоть бы длинные юбки снова вошли в моду!» И только она это подумала, как тетя Маша, не снимая наряда, ушла под воду. С головой.
Она не бросилась в пруд с брызгами и шумом, как это делают, когда ныряют. И не упала. Она как будто втянулась в темную водяную щель между двумя островами ряски – так же быстро, как шла.
– Моня, ты что там такое увидела? – окликнул папа.
– Кажется, тетя Маша утонула… – пробормотала Моня.
Папа посмотрел на маму:
– Что за тетя Маша?
– Тетя Маша?.. Машина знакомая, которая отдала душистый горошек. Тот, что у сарая цветет, – вспомнила мама.
– Но здесь не было ни души, ни тети, ни дяди, – возразил папа. – Она, что, от того берега плыла?
– Она не плыла.
– Правильно, мы бы услышали. В этой низине, в этой тенище тихо так, будто мы сами уже утонули. Если, конечно, не считать пения Горошины.
Горошина, которая всю дорогу до колодца напевала «Облака, облака, не валяйте дурака», услышала его и запела изо всех сил:
– А-а-а-блака-а-а-а…
Это чем-то напоминало то, что получалось у Диты, когда пролетал самолет.
– Она с этой стороны шла, – сказала Моня.
– Как шла, куда?
Моня провела рукой в воздухе черту, соединяя колодец с серединой пруда.
– Ты хочешь сказать, что она ТАК шла?
Моня кивнула.
– По воде? Моня! Теперь я понимаю, что ты действительно перегрелась. Потерпи, скоро уже будем купаться!
– Может, там есть мостки? – предположила мама.
– Давайте проверим, – кивнул папа.
Они проверили, мостков не оказалось.
– Ты собиралась крутить ворот, – напомнил папа.
И Моня пошла крутить ворот, а Горошина наступила в лужу у колодца, а папа уронил туда же одну из фляжек, так что появились другие темы для разговора.
Лихомара не заметила Моню, потому что спешила.
После того, как решился вопрос с новым жильем, они еще долго просидели у ямищевской приятельницы. Хозяйка дома пустилась вспоминать, как все было раньше, пока не развелось столько дачников. Зайцевская подруга тоже любила поболтать и все приговаривала:
– Еще насидимся зимой подо льдом в одиночестве. Надо сейчас впрок наговориться!
А когда, наконец, собрались в средний пруд, Ямищевская спохватилась:
– Бреховская, а что ж я тебя графиней-то до сих пор не видела? Ну-ко, покажись!
У лихомары совсем не было настроения перевоплощаться в графиню. Но как откажешь доброй душе, которая только что уступила тебе целый пруд! Она сказала:
– Ладно, тогда летите вперед, а мне надо будет в воду посмотреться.
– Батюшки! – воскликнула Ямищевская. – Какие сложности! А мне так все равно, как я выгляжу.
И они с Зайцевской умчались. А лихомара потом целую вечность искала, во что посмотреться. Всюду ряска! Еле-еле отыскала местечко размером с карманное зеркальце. И еще переживала, потому что неприлично же заставлять других себя ждать!
А когда явилась, Ямищевская как завопит:
– Ой, держите меня семеро! Ой, тону! Ой, какая красотаааа! Где ж ты такому научилась? Научи меня, я тоже так хочу! Только из меня графиня не получится. Буду как баба Дуся из ближнего дома.
Зайцевская подруга, глядя на нее, развеселилась:
– Ямищевская! Да это она у нас такая узенькая, потому что в канаве живет. А жила бы у меня, была бы кругленькой, как мой пруд. А у тебя лохматой станет, как ветла. И будете две бабы Дуси!
– Две бабы Дуси?! – закричала Ямищевская. – Ой, частики-головастики! Бреховская! Перебирайся прямо завтра. Будем по деревне ходить, народ пугать!
– Жаль, третий пруд не до конца еще зарос, а то я бы вам компанию составила! – сказала Зайцевская. – Было бы три бабы Дуси.
– А ты у себя пока тренируйся, – посоветовала лихомара.
Хотя, на самом деле, еще не очень понимала, нравится ли ей эта затея.
С этими родителями надо держать ухо востро! Только сделали несколько шагов в сторону дома, мама сказала задумчивым голосом:
– Может, обратно через Ямищево пойдем?
– Как?! – вскричала Моня. – А дубовая роща?
– А кто жаловался, что там мало тени? – заметил папа.
– Но сейчас-то другое дело! – возразила Моня. – Для неперегревшегося человека дубовая роща полезное место. Папочка! Я там присмотрела подходящий дуб и надеялась, что ты меня подсадишь…
– Ну, так и быть, – вздохнул папа. – Я после купания добрый.
Дубы – самые удобные деревья. У березы ветки тонкие, у елки – колючие, у сосны – смолистые. У липы они так растут, что ногу нормально не поставишь. И у всех нижние ветки очень высоко над землей. А дубы – это дубы. У них ветки прочные, широкие, пологие и обычно начинаются не очень высоко. Главное, дотянуться и ухватиться. А дальше вы перебираете ногами по стволу, закидываете ногу на нижнюю ветку, потом вторую, повисаете, как ленивец, потом садитесь на ветку верхом, потом встаете на нее – и вот вы уже на дереве. А с дерева смотреть по сторонам – совсем не то же самое, что с земли. Только не стоит забираться слишком высоко, а то потом спускаться страшно.
– Маша, умоляю, не надо лезть на самую макушку! – заволновалась мама.
– И не располагайся надолго! – прибавил папа. – Время обедать. А от голода у меня, как ты знаешь, портится настроение!
– Хорошо, хорошо! – успокоила их Моня, а про себя подумала: «Еще пара веточек».
Она обхватила ствол и только поставила ногу на следующую по высоте ветку, как прямо у нее перед носом пролетели два привидения. Привидения! Опять! И уже два! Мутно-белые и волокнистые. Одно напоминало воздушный шарик, а другое – дым от костра. И они же еще разговаривали!
– Ты-то чего здесь полетела? Тебе через Ямищево ближе, – сказало кругловатое.
– Тут народу нет, – ответило длинноватое.
А кругловатое:
– Вот ненормальная! Нас видят только дети и кошки. Забыла, что ли?
Больше Моня ничего не расслышала. Голоса у привидений звучали глухо, как сквозь ворот свитера, если натянуть его до самого носа.
Моня убрала ногу с более высокой ветки, села на нижнюю и сказала:
– Папочка, лови меня! Я поняла, что тоже проголодалась.
– Оцараписа еще называли «Великий кот». По-древнеегипетски – «Великий миу». О как!
– «Миу» – это «кот»? – догадался Мурик.
– Да. Кот, – подтвердил Ах-Ты.
– И я – миу?
– И ты. И я. Только сейчас никто древнеегипетского не знает. Поэтому никто к нам так не обратится, понимаешь ли… А к Оцарапису обращались: «миу» и еще «великий», потому что он был фараоном. Особенно помощник обращался, Рамзес Второй.
– Э… что-то я запамятовал: фараон – это…
– Фараоны, красавец, это правители Древнего Египта, миу. И еще кое-кто к ним примазался. Рамзес, например. Вроде как он тоже Древним Египтом управлял, то, се…
– А Оцарапис не сам, значит?..
– Как это не сам? Сам, конечно. Когда не спал. Ну, котам же спать надо много. И на это время понадобился вроде как помощник по хозяйству.
– А почему этот Рамзес – второй? – спросил Мурик.
– Первый тоже был, но его Оцарапис выгнал. Да и второй попался – тот еще фрукт. Он вообще был не миу – просто человек. И он, понимаешь ли, воевать повадился. Только Оцарапис уснет – он воевать.
– Воевать? – удивился Мурик. – С кем?
– Говорят, какие-то хетты. Не знаю, не слышал про такую породу.
– Я тоже не слышал, – поспешно сказал Мурик.
– И вот Оцарапис говорит: «Слушай, – говорит, – ты, Рамзес, хорош воевать! Мы, миу, любим спокойную жизнь. А то я до тебя прогнал уже одного Рамзеса, и тебя прогоню». А тот ему: «О, Великий миу! Если я сейчас перестану воевать, эти хетты нас победят. И не станет у тебя ни рыбы, ни мяса, ни молочных продуктов». Одно слово – фрукт!
– Да… – протянул Мурик. – Мне и то лучше. А тут вроде фараон, а не поспишь толком, за рамзесами надо следить…
– Но Оцарапис-то был мудрее всех котов всех времен и народов! – напомнил Ах-Ты. – И он говорит своему Рамзесу Второму: «А ты заключи с ними мирный договор, о как! Чтоб вообще больше никогда не воевать. Чтоб, наоборот, делиться, – рыбой там, или молоком, – если у кого не хватает. И договор этот, – говорит, – надо высечь на камне, чтоб никто не отвертелся. Понял?»
– И как Рамзес? Понял?
– Понял, – сказал Ах-Ты. – Так и был заключен самый первый мирный договор.
– И на камне высекли?
– А то!
– Рамзес?
– Ну, не коту же высекать!
Тут за спиной у Мони завопила Горошина:
– Монечка, идем чай пить!
– Ы-ы-ы! – сказала Моня. – Опять Буланкина пришла?
– Пришла Семеновна…
– Это другое дело, – проворчала Моня.
Алевтина Семеновна вынимала из пакета коробку с тортом.
– Оказывается, у станции продается, – стрекотала она. – Здравствуй, деточка! – Это Моне. – А то неудобно приходить к вам на чай с пустыми руками. У вас такой пир всякий раз!
– Да что вы, Алевтина Семеновна! – возразила Бабуля. – Какой там пир!
Алевтина Семеновна взглянула на нее поверх очков.
– Ой! А вы постриглись! Да как удачно!
И потом на Моню:
– Деточка, правда, удачно?
– Нормально, – сказала Моня. – Только опять не покрасилась…
– Да? Ну, расскажи мне, что там в Ямищеве? Я сто лет не была. Роща стоит еще, пруды не пересохли? Ты купалась?
– Купалась, – кивнула Моня. – Потом еще на дуб слазила…
– Ой, как интересно! – воскликнула Алевтина Семеновна. – Если б ты знала, как я всегда мечтала забраться на дерево, хоть на какое-нибудь! Ведь когда смотришь сверху, все совсем по-другому. Но при моем росте это дохлый номер.
– Надо, чтобы кто-нибудь подсадил, – посоветовала Моня.
– Некому было, деточка. И, в итоге, я даже на собственный чердак не могу теперь залезть, посмотреть оттуда на сад. Там ногу некуда поставить, хотя у меня тридцать третий размер.
– Можно к нам… – предложила Моня.
– Правда? – обрадовалась Алевтина Семеновна. – Может, я действительно поднимусь на минуточку… Так интересно…
Тут с нее свалились очки и упали на торт, который, впрочем, стал от этого даже симпатичнее.
Может, это из-за очков, но по лестнице Алевтина Семеновна поднималась, держась не за перила, а за верхние ступеньки. Как будто на дерево карабкалась. Вскарабкавшись, она заметалась между одним окном и другим, приговаривая:
– Боже! Какой обзор!
Моня подумала: «Какая она все-таки хорошая, когда не читает стих про сороконожку!» А вслух сказала:
– А знаете, с дуба даже привидений видно. Не то чтобы я им обрадовалась, но, наверно, они просто на такой высоте обычно летают. На уровне нижних веток.
Алевтина Семеновна остановилась на полпути между окнами.
– Ты видела привидений? Надо же! Кого тут никогда не водилось, так это привидений. И какие они на вид?
Бывают вопросы, которые просто необходимо услышать вовремя. Они вызывают чувство благодарности, даже если вы сами чуть-чуть подтолкнули собеседника к тому, чтобы их задать. Моня очень рассчитывала на этот простой вопрос: «И какие они на вид?» Потому что, хоть она и спрыгнула с дуба, привидения все летели у нее перед глазами, а это очень мешало жить спокойно. Моня чувствовала, что если никому ничего не рассказать сейчас, то от них не отделаться до Носкова, а это был бы уже понедельник. И раз уж Алевтина Семеновна сама спросила, то Моня, не медля ни секунды, принялась описывать этих летевших существ, и с каждым словом они отлетали все дальше.
А когда вообще улетели с глаз долой, Алевтина Семеновна сказала:
– Деточка, так это не привидения! Это просто лихомары. Одна, я думаю, зайцевская, другая наша.
Все-таки пролетающие мимо лихомары – не самая большая неприятность.
Утром за калиткой появился Носков, высвистывавший азбуку Морзе.
– Гулять пойдете? – спросила Бабуля.
– Можно? – обрадовалась Моня.
– Иди, миленькая, только сперва я тебя вот о чем попрошу: зайди к Буланкиной, отнеси лекарство.
И Бабуля положила на стол коробочку.
Моня в ужасе закричала:
– Мамочки! Какое еще лекарство?!
– Чтоб суставы не болели. Ты что так кричишь?
Моня сказала:
– Э… а разве она к нам больше не придет чай пить?
– Если придет, то к вечеру ближе, а так она прямо с утра бы приняла.
– А почему мы ей в прошлый раз не отдали?
– Тогда у нее еще было. А потом кончилось. Это я ей из Москвы привезла, здесь у нас такое не продается. Что ты, миленькая? Надо людям помогать. Хорошо еще, лето сухое, жаркое, в сырую погоду она бы сильнее мучилась.
«Бррр!» – подумала Моня.
– Бабуль, я не могу идти к Буланкиной. Она после собрания наехала на папу. Сказала, что он плохо меня воспитал. Зачем это, спрашивается, я пойду ей лекарство относить, если я такая невоспитанная?
– Да ну, не обращай внимания! – отмахнулась Бабуля. – Она раздраженная, потому что у нее все время что-нибудь болит. Ну, беги, давай, времени-то не очень много. Мы сейчас к Алевтине Семеновне в гости, а потом надо будет Веруше сказки читать.
– Они же кончились…
– А я купила!
«И когда это Бабуля успела? – подумала Моня, выбегая на улицу. – Может, потому и не покрасилась».
– Ты моя л-ласточка! – крикнула ей от своей калитки тетя Валя.
– В лесок? – спросил Носков.
– Подожди, я только к Буланкиной сбегаю, лекарство отнесу.
– Ты что?! – испугался Носков.
– Тьфу, лихомара! – возмутилась тетя Валя. – Зачем ей лекарство?
– От суставов, – объяснила Моня.
– Пускай сначала вырубит свои джунгли, а потом суставы лечит!
Носков спросил:
– А ты рассказала Бабуле, как тут Буланкина ко всем придиралась после собрания?
– Да она, небось, и так знает, – ответила за Моню тетя Валя. – Потому сама и не идет.
То есть надо выручать Бабулю? Могла бы так и сказать…
– Я быстро, – пообещала Моня, но не побежала, а просто пошла.
Носков со стоном схватился за голову, как будто не Носков, а все-таки Нарский, и тоже поплелся. И тетя Валя перешагнула свой мостик со словами: «Еще не хватало!»
Когда перешли перекресток, отворила калитку Алевтина Семеновна.
– Здравствуйте, деточки! – просияла она. – Гуляете?
– Ее Бабуля к Буланкиной послала! – сообщила тетя Валя.
– Зачем? – изумилась Алевтина Семеновна и тут же уронила очки.
– Лекарство отнести, – объяснил Носков.
– Да, – кивнула Моня, прибавляя шаг, потому что очки все равно подобрал Носков, а другого повода задерживаться не было.
– Но это же не имеет смысла! – воскликнула Алевтина Семеновна теперь уже у нее за спиной. – Она запирается. Через забор, что ли, перелезать?
Моня не оглянулась, но поняла, что они идут к Буланкиной вчетвером. Это было намного лучше, чем тащиться одной.
Алевтина Семеновна стрекотала на ходу:
– Хотела уехать после собрания, но такая чудесная погода…
– Да, погода шикарная, – соглашалась с ней тетя Валя.
Моня терпеть не могла разговоры про погоду, но подумала, что все-таки иногда от них становится уютней.
Носков, который тоже терпеть не мог, догнав Моню, спросил:
– Ты, правда, что ли, пойдешь? Это же колдунья. Я и вчера в малине сидел, и позавчера. И опять видел Жабу. Она проходит – и все, в леске туман.
– Папа говорит, что не надо обижать жаб, сравнивая с ними Буланкину, – вздохнула Моня. – Мне же только коробочку отдать. А потом поищем мостик через речку, чтоб пробраться к большому острову.
В дом Буланкиной, наверное, попадало мало солнца, потому что с двух сторон его тесно обступали вишни, затеняя окна и веранду. Между вишнями и забором росла сирень. В мае это, должно быть, смотрелось красиво (если, конечно, кому охота смотреть на дом Буланкиной), а все остальное время мрачновато. А за домом образовались заросли облепихи, но с той стороны окон все равно не было.
Высокая буланкинская калитка действительно не открылась, хотя они ее по очереди толкали и дергали. И состояла она из широких досок, составленных почти вплотную друг к другу. Прямо не за что ухватиться.
Носков махнул ногой, примериваясь к петлям для замка, но взмах получился слабый, и нога шаркнула по доскам.
– Ну-ну, зачем, деточка? – застрекотала Алевтина Семеновна.
– Ты чего? – сказала тетя Валя. – Можно и рукой постучать.
И ударила по калитке кулаком.
– Да если б я мог встать на петли, то как-нибудь перелез бы, – объяснил Носков. – Но высоковато. Может, табуретку принести?
– Погоди, давай еще постучим.
И тетя Валя стащила с ноги шлепанец. Носков решил помогать, колотить по доскам пяткой, но пятка колотилась тихо, как-то по-нарски или даже по-апрелевски. Впрочем, и от шлепанца проку не было, Буланкина не вышла. Вышла из своей калитки соседка, с которой Буланкина ругалась из-за черноплодки.
– Вот! Сейчас у Шуры Никитиной спросим! – обрадовалась тетя Валя.
И буланкинскую калитку оставили в покое.
Шура Никитина, которая стояла на мостике, согнувшись и держась за поясницу, медленно выпрямилась, и стала видна большая родинка у нее на левой щеке. Моне всегда казалось, что вид у Шуры немного страдальческий. И дело было не в спине, за которую Шура держалась, а именно в этой овальной родинке под глазом, напоминавшей темную, растекающуюся слезинку.
– Давно пора газон перед домом посеять, а я все с грядками с этими вожусь! – сказала Шура Никитина со страдальческим видом.
– Радикулит? – оживилась Алевтина Семеновна. – В таких случаях идеально помогает собачья шерсть…
Но тетя Валя перебила:
– Слушай, тут Машка должна передать Буланкиной лекарство от суставов. Может, она от тебя передаст? Там такая калитка, что за ней ни черта не видно! Да еще на замке.
– Так и от меня ни черта не видно. Вон! – Шура махнула рукой в сторону буланкинского дома. – Лес дремучий! На огороде разве что через сетку высмотреть. Вечерком приходите, она в жару не работает.
У кого, у кого, а у Шуры Никитиной на участке леса не было. Дом ее стоял среди грядок, которые она, несмотря на поясницу и родинку, тщательно пропалывала.
– В общем, Маш, придется Бабуле твоей подождать, – подвела итог тетя Валя.
– Оно и к лучшему, – прибавила Алевтина Семеновна.
«Уф-ф-ф!» – подумала Моня.
И тут Шура Никитина сказала:
– А ну-ко, идем.
И повела своей страдальческой родинкой в сторону дома Буланкиной.
Петляя между Шуриными грядками, Моня, Носков, тетя Валя и Алевтина Семеновна пришли туда, где начиналась граница между Шуриным участком и буланкинским. Начиналась она у металлического столба, к которому проволокой, тоже металлической, был примотан край сетки-рабицы. Сверху примотан и посредине, а внизу – нет. Шура взялась за нижний угол сетки и отогнула его.
– Все некогда починить, – сказала она. – Ты худенькая; может, пролезешь.
– А надо ли? – засомневалась Алевтина Семеновна. – Придет потом соседка ругаться, что тут лаз… Что за срочность?
– Да Машка Бабулю свою выручает! – объяснила тетя Валя. – Чтоб той самой к Буланкиной не ходить.
– Ну тогда, Маша, я не знаю, – сказала Шура. – Попробуй… Пролезешь, так пролезешь, не полезешь, так домой пойдешь.
Моне ничего не оставалось, кроме как встать на четвереньки и попробовать пролезть. А когда она пролезла, то, естественно, ничего не оставалось, кроме как сказать Шуре Никитиной спасибо. Носков хотел пролезть следом, но тетя Валя его остановила:
– Ты-то куда? Сейчас она тебя прихлопнет за позавчерашнее.
И Моня одна поползла на четвереньках сквозь облепиху, а провожатые остались за сеткой – ждать и рассказывать Шуре историю с воланчиком.
Под вишнями, по крайней мере, Моня не ползла, а шла – правда, пригнувшись. А на дорожке выпрямилась в полный рост. Входная дверь была нараспашку, у крыльца стоял тазик с водой. Значит, Буланкина дома, и надо ее позвать. Собираясь с духом, Моня вдруг поняла, что забыла, как Буланкину зовут. «Мамочки! – подумала она. – Ну, почему мы от калитки ее не позвали! Уж тетя Валя-то помнит… Что же делать?» Делать было нечего, разве что смотреть по сторонам в надежде, что Буланкина где-то неподалеку.
Ничего примечательного неподалеку не нашлось, разве что навес, увитый девичьим виноградом. Под навесом стоял диван. Ничего себе! Никто из Мониных знакомых и никто из Бабулиных знакомых диваны в сад не выставлял. Деревянные скамейки, шезлонги – это да. Но чтоб диван… Был он небольшим: если усадить на него маму с Бабулей, то папа бы уже не поместился. Диван стоял на высоких гнутых ножках, слегка похожих на лапы, спинка у него была волнистая, а обивка – темная. И он чем-то напоминал тот, что Моня видела в альбоме Серова. Не с Орловой, а с другой красавицей – в желтом платье. «Это что же, ему сто лет?» – подумала Моня.
В общем-то, бугристое сиденье, линялые цветочки на обивке, бахрома из ниток на узких подлокотниках намекали на то, что ему действительно лет сто. Но называть его старым было неудобно. Его хотелось назвать диваном со следами былой красоты. Диваном из прошлого. Музейным диваном!
И как странно смотрелся рядом с ним совсем не музейный тазик с водой. Еще один!
Тазик напомнил о Буланкиной. Оставлять коробочку с таблетками на крыльце Моня не решилась, в дом заходить было страшновато. Кажется, оставалось только уйти, и она пошла обратно по дорожке вдоль веранды. Может, кто-то другой уходил бы с легким сердцем, но Моня уходила с тяжелым. Сердце утяжеляла неловкость от того, что выручить Бабулю не удалось, и ей предстояло, видимо, самой идти к Буланкиной.
Моня свернула за угол, нырнула под ветки вишен, и продолжающее тяжелеть сердце заставило ее пригнуться ниже, чем в прошлый раз. Так низко, что перед глазами у нее оказалась граница между стеной и фундаментом буланкинского дома. Эта граница имела вид узкого деревянного карниза – вернее, карнизика, который опоясывал весь дом. Такой выступ шириной с ладонь был у них в товариществе на каждом доме, на Монином тоже. Стоять на нем было неудобно. Но вообще, если на него хоть как-то поставить ногу, ухватиться за подоконник раскрытого окна и потом подтянуться, то можно было с улицы влезть в комнату – скучно же иногда входить черед дверь. И когда этот выступ попался на глаза, Моня подумала: «Надо бы заглянуть в окно». Если Буланкиной в доме нет, то уж точно ничего не поделаешь, и под облепихой она поползет уже не с тяжелым сердцем, а с легким. А если есть, то она постучит в окно, и Буланкина даже без имени-отчества поймет, что это к ней.
Оба окна были закрыты и занавешены. Левое плотно, правое не очень. Стоя на одной ноге, прижимаясь к стене, цепляясь за узкую раму, Моня заглянула в щель между шторами. Первым делом она увидела очередной тазик с водой. Краем своим тазик касался ножки кресла. И похоже, что это кресло приходилось родственником тому диванчику под навесом. В глубине комнаты была еще мебель – наверное, тоже музейная, но Моня не успела ее разглядеть, потому что откуда-то сверху послышался недовольный голос Буланкиной:
– Ты что там высматриваешь?
Моня отпустила раму и только потому сразу не свалилась, что сзади ей в спину упирались ветки вишни. Полулежа на вишне, она посмотрела вверх, и ей показалось, что на нее вот-вот упадут огромные очки Буланкиной, которая высунулась из чердачного окна.
– Вас ищу, – ответила Моня. – Бабушка просила передать лекарство от суставов. – И прибавила: – Здравствуйте!
Без вздоха, это точно.
– Сейчас спущусь!
Моне показалось, что Буланкина швырнула в нее эти два слова со второго этажа. Больно не было, но она дернулась, и вишни все-таки стряхнули ее с веток на землю. «Ничего, – подумала она. – Главное, отдать коробочку».
Буланкина уселась на ступеньку, скинула матерчатые тапочки, а ноги опустила в тазик с водой.
– Ужасная погода, – объявила она. – Совсем дышать нечем. Солнце это… А ты как сюда? Через забор?
Моня кивнула. Врать нехорошо, конечно, но раз Буланкина сама спросила, то пускай думает, что через забор, и не ругается с Шурой.
– Бабушка сказала, что надо прямо утром принимать, я и торопилась.
И это-то правда, кстати.
– А почему не позвала?
Буланкина взяла коробочку с таблетками.
– Ну, что там у тебя? А… Хорошо. Что, горошек-то душистый так и не выбросили?
– Нет, – ответила Моня. – Посадили.
Буланкина уставилась на нее сквозь очки.
– Это лихомарские цветы.
– То есть как? – удивилась Моня.
– Так. Их тебе лихомара дала.
– Мне их дачница дала, – возразила Моня. – Как это… со второго сектора! Из-за речки, в общем. Тетя Маша.
– Ага, тетя Маша! – усмехнулась Буланкина. – В длинной юбке? В блузке с рюшами? Белая вся? Говорю тебе, лихомара это, из болота. Она так в лесочке гуляет, дачницей прикидывается. А сама высматривает, кого к себе в болото зазвать. Вот теперь ждите, она вас по горошку отыщет! А вы еще сестру твою Горошиной зовете.
Моня почувствовала, что замерзла. Лучше топать в Ямищево под открытым солнцем, чем стоять в этой тенище!
– Извините, мне пора, – сказала она как можно вежливей. – Можно, я через калитку выйду?
– Можно, – разрешила Буланкина. – А то еще забор сломаешь.
Она со стонами вытащила ноги из тазика и, не вытирая, сунула в тапочки.
– Пошли, я тебя через ту калитку выпущу.
– Дальнюю? – испугалась Моня. – Ой… а можно, я на улицу?..
– Зачем тебе на улицу? А в лесок ты почему не хочешь? Заодно клубнику бы мне помогла обработать…
Буланкина посмотрела на нее исподлобья, совсем как корова фермерши Лиры. Моня растерялась. Как бы это попроще объяснить, почему она не хочет в лесок? И тем более, обрабатывать клубнику! Почему-то на языке вертелось слово «деточка», что на участке у Буланкиной было совсем уж некстати.
– Потому что меня Алевтина Семеновна ждет! – выпалила она.
– Еще одной дома не сидится, – проворчала Буланкина. – Ну, это до поры, до времени…
– Что? – не поняла Моня.
– Ничего. Подожди, я ключи возьму.
Пока Буланкина отпирала свои два замка, Моня думала, что скажет, когда Алевтины Семеновны на улице не окажется. Ведь как ей там оказаться, если все остались ждать у Шуры Никитиной! А может, она вообще уже ушла домой, встречать Бабулю с Горошиной. Но, что удивительно, за калиткой стояла Алевтина Семеновна и ждала.
– Доброе утро! – поклонилась она Буланкиной.
– Здрассте, – буркнула Буланкина и захлопнула калитку.
Алевтина Семеновна заглянула Моне в лицо с таким видом, будто хотела проверить, не поднялась ли у нее температура.
– Идемте! – шепнула ей Моня, и от буланкинской калитки они поспешили к Шуриной.
– Ну, что? – подскочила к ним тетя Валя. – Отдала? Что ты там видела?
– Музейную мебель, – ответила Моня.
– Ишь ты! – заметила Шура Никитина.
– И много тазиков с водой. Она в них мочит ноги.
– Я ж говорю: ни к чему ей лекарство! – возмутилась тетя Валя. – Если б суставы болели, она бы куталась, а не баландалась бы в холодной воде. Тьфу! Зря только время потратили.
Носков поглядывал на Моню озабоченно и, кажется, хотел выяснить, не пытались ли ее заколдовать, но не стал при взрослых. Моне-то было уже все равно, слышат они, или нет.
– Прикинь: Буланкина катит бочку на наш душистый горошек, – пожаловалась она. – Говорит, если я его не выброшу, Верке будет плохо!
– Душистый горошек! – воскликнула Алевтина Семеновна. – Это ведь мой любимый цветок! Розы на первом месте, он на втором. Почему же я его у вас еще не видела?
– Горошек у Машки шик-карный в этом году! – подхватила тетя Валя. – Она же его мимо меня домой тащила.
И прибавила, наклонившись к Моне:
– Ничего с ним не делай, слышишь? Буланкина все вр-рет!
У калитки Алевтины Семеновны дожидались Бабуля с Горошиной.
– Вот они, мои дорогие! – застрекотала Алевтина Семеновна, обращаясь, в основном, к Горошине. – Какие прекрасные у меня сегодня гости! Мы сейчас пойдем нюхать розы, потом будем читать стихи, а потом, может, еще и сами что-нибудь сочиним…
– Ну, я уже сочинила, – сказала Горошина.
– Серьезно? Так почитай нам, пожалуйста!
Горошина с торжественным видом проговорила:
– Город такой тоскливый,
Город такой визгливый!
– Умница! – похвалила тетя Валя. – Так и есть. На даче лучше.
– Боже мой! – вскричала Алевтина Семеновна. – Растет вторая Вера Инбер! Ты знаешь, что стих про сороконожку придумала Вера Инбер? Тоже Вера, ты представляешь?
Горошина закивала, будто и вправду представляла.
– Мы пойдем, – шепнула Моня Бабуле, но Алевтина Семеновна услышала.
– Как! А розы? Ты еще не видела, какой у меня сорт! Все время забываю, как называется. «Барбара Остин», или что-то вроде того… А Альбертик знает стих про сороконожку?
– Мы в лесок…
– Вы подумайте! Им в лесок! Ну, идите, деточки. Пока!
– Да. Пусть гуляют, пока не застроили! – заметила тетя Валя. – На розы еще насмотрятся.
– А чего это она нас деточками все время зовет? – проворчал Носков.
– Забей! – сказала Моня. – Зато ее на дух не выносит Буланкина.
– Вот тут я познакомилась с тетей Машей со второго сектора, и она мне подарила душистый горошек, целую охапку, – сказала Моня, когда они с Носковым дошли до болота. – А эта дура Буланкина только что заявила, что тетя Маша – лихомара, и теперь она по этому горошку найдет наш участок и утащит Горошину в болото!
– Ты еще не знаешь, что мне заявила Ба, – отозвался Носков. – Что меня назвали Альбертом в честь Эйнштейна!
– Кого? – переспросила Моня.
– Эйнштейн, фамилия такая. Он тоже был Альбертом и придумал теорию относительности. А зачем мне быть Альбертом, если я Носков, а не Эйнштейн?
– Эйнштейн, пожалуй, получше, чем Нарский, – заметила Моня. – Может, тебе на него потом Носкова поменять…
Они обошли болото, поднялись на бугор и стали спускаться на дно бывшего пруда.
– И что ж мне тогда – еще одну теорию относительности придумывать? – сказал Носков.
– А это что такое?
– Ой-й… я такое не изобрету. Я только запомнил, что если я, допустим, лежу и спокойненько сплю, то относительно кровати я не двигаюсь. Но при этом относительно Солнца я лечу. Земля же вокруг Солнца вращается, и моя кровать вместе с ней. Но это не помешает мне свалиться с кровати на пол, потому что, Ба говорит, закон гравитации никто не отменял, хоть мы его еще не проходили, и все, что падает, всегда падает вниз.
– Прикольно.
– А может, относительно настоящих лихомар твоя тетя Маша – человек, – продолжил Носков, – а относительно нас с тобой – лихомара.
– Это Буланкина относительно нас с тобой лихомара, а с тетей Машей все в порядке! – возразила Моня.
Они прошлись вдоль речки, высматривая хоть какой-нибудь мостик. Напротив большого острова над водой были перекинуты две жердочки, довольно хлипкие с виду. Моня с Носковым посмотрели на них и решили, что сойдет: все равно, в этом месте мелко и пиявок нет.
Тот берег Моне сразу не понравился. Во-первых, можно было подумать, что по нему походила бреховская корова, нарочно продавливая землю копытами. Во-вторых, очень не хватало цветов. В-третьих, остров вблизи напоминал дикобраза, только вместо иголок из него торчали прямые и длинные красновато-коричневые стебли каких-то кустов. Правда, на концах у них были все-таки листья, но это не спасало: кому захочется гулять по дикобразу! Местами среди дикобразных кустов краснели кисти бузины, а в середине острова росли ивы, так что он казался не только колючим, а еще и лохматым.
– Давай обойдем его – и домой, – предложила Моня.
– Да по такой дороге ты его сто лет будешь обходить! – нахмурился Носков.
«Где это он увидел дорогу?» – подумала Моня.
Ни дороги, ни тропинки не было в помине. Они побрели по кочкам, огибая остров с левой стороны. Носков сделал три шага и разворчался:
– Не-ет, это какой-то относительный остров. Его открывать неинтересно. С нашей стороны речки он лучше смотрится. Давай обойдем не полностью, а частично, чего на него время тратить!
– Сам ты относительный! – возмутилась Моня.
И тут они все-таки совершили открытие, хоть Носков и ворчал. Выяснилось, что остров был не круглым, – а ведь если смотреть на него с бугра – с бывшего берега пруда, то он формой напоминал пирог, который испекли в круглой сковородке. То есть, может, он и был бы круглым, но с одной стороны у него не хватало части, похожей на большой кусок пирога, от которого острый конец уже отъели.
– Вот видишь! – сказала Моня. – И даже времени почти не потратили.
– Бухта! – обрадовался Носков. – Значит, сюда при графе на лодках приплывали. Пошли!
И устремился в эту самую бухту, как будто был и сам лодкой. Но все-таки лодкой Носков не был, и плавно войти в бухту ему не удалось. Бухта вся заросла какой-то высокой и жесткой травой, и вмятины среди этой травы оказались даже глубже, чем у речки. Можно было подумать, что там причаливало целое стадо коров, а не одна бреховская, хотя про стадо Моня только слышала – от Бабули и мамы. Так что Носков спотыкался о траву и проваливался в ямки и, будь он, в самом деле, лодкой, пожалуй, перевернулся бы.
Моня молча ковыляла следом и думала, что, в конце концов, не каждому доводится обходить острова не по берегу, а по дну.
В самой глубине бухты над берегом нависала ива. Под ней кусты не росли – а может, просто еще не выросли. На свободном от кустов месте сидела тетя Маша в блузке с рюшами, обхватив руками колени, накрытые длинной серовато-белой юбкой.
Лихомара в то утро засиделась в бухте дольше обычного. Она думала о том, что скоро все станет по-другому. О том, что придется привыкать к ямищевскому пруду, который при первом знакомстве показался ей ужасно неуютным по сравнению с домом. Что Ямищевская – доброе, конечно, существо, но очень уж общительное, и после переезда не даст ни минуты побыть в одиночестве. Солнце поднялось довольно высоко, и Лихомара понимала, что пора к себе, но все не улетала, потому что еще немного – и никакой тебе бухты. «Да, и в Ямищеве не цветет голубая герань, – вспомнила она, – а тут цветет!» Голубая герань цвела, впрочем, не везде, а только в том месте, где бреховские огороды доходили до бывшего пруда. Лихомара взглянула в ту сторону и увидела, как из-за мыса, которым оканчивалась бухта, выходит Маша, внучка Бабушки Домашней Обыкновенной, с каким-то мальчиком.
Компания Лихомаре не требовалась, вот уж нет, особенно сейчас, но она подумала, что надо, наверное, сказать насчет душистого горошка. И осталась сидеть под ивой. Они ее заметили не сразу, потому что смотрели под ноги. Только в середине бухты, когда земля стала поровней, подняли головы, Маша заулыбалась и помахала ей рукой. Лихомаре захотелось помахать в ответ, но получилось какое-то невнятное шевеление. «Надо еще попробовать дома», – решила она.
– Здрассте, тетя Маша! – воскликнула Моня, подойдя ближе.
Остров сразу показался ей симпатичнее, потому что когда в незнакомом месте встречаешь добрых знакомых, оно становится немного уютнее.
– Ммм… здрассте, – повторил за ней Носков.
– Это Носков, – представила Моня. – А это тетя Маша, я тебе говорила.
«Вот Зайцевская меня ругает, а насколько лучше в человеческом виде, – подумала лихомара. – Есть лицо, и можно улыбнуться!»
– Доброе утро! – улыбнулась она.
– А вы тут часто бываете? – спросила Моня.
Она, конечно, предпочла бы спросить, не была ли тетя Маша накануне в Ямищеве. Но вдруг папа прав, и все это просто померещилось от жары.
– Да… – Лихомара вздохнула, подумав о том, что еще чуть-чуть, и «часто бываете» останется в прошлом. – Но ранним утром здесь лучше.
– Меньше кочек? – уточнил Носков.
– Не так жарко.
Носков оглядел бухту.
– А вы как идете – как мы, или по острову?
– Как вы. – Лихомара не стала объяснять, что не столько идет, сколько летит. – Тут кругом заросли. Чаща.
– Ужас! – объявила Моня. – Надеюсь, при графе было получше. Моя сестра такие места называет глубжей.
– Да? – снова улыбнулась лихомара. – Как поживает душистый горошек?
– Очень хорошо, – ответила Моня. – Вьется по веревочкам – папа для него натянул – и уже довился почти до крыши сарая. Всем нравится, кроме Буланкиной.
– Буланкина не в счет, – заметил Носков, – ей ничего не нравится, один туман.
– После нее гулять уже не выйдешь, – сказала лихомара, так как знала теперь, кто такая Буланкина. – Такой начинается туман, что островов не видно.
– Вы тоже заметили? – обрадовался Носков.
– А вы не были в субботу на собрании? – перебила Моня.
– Н-нет, – растерялась Лихомара.
Но Моня не удивилась, потому что если бы сама жила во втором секторе, то на собрания бы точно не ходила.
– Она хочет засыпать наше болото, представляете? – продолжала она. – А папа говорит, что это историческое болото, еще от графа осталось. И про него, между прочим, легенда есть. Что одну родственницу графа, не то сестру, не то племянницу, лихомара заманила в туман. Это была какая-то злющая лихомара вроде Буланкиной, а вообще, они, говорят, добрые. И, короче, родственница упала в болото и тут же сама стала лихомарой, а настоящая лихомара превратилась в сестру или племянницу и пошла себе к графу, а он ничего не понял.
– Боже мой! – прошептала лихомара.
– А если родственница до сих пор живет в болоте? А его из-за этой Буланкиной засыплют, представляете?
– Боже мой! – повторила лихомара, и рюши на ее блузке затрепетали, хотя ветра не было вообще.
Моня даже не ожидала, что произведет такое впечатление. Захотелось сказать тете Маше что-нибудь хорошее, и она сказала:
– А знаете, у вас очень красивая блузка. Я такую видела только в альбоме Серова, больше нигде. Вы ее тоже там увидели, или сами придумали?
– Что? – всколыхнулась лихомара. – Да просто блузка, обычная. А Серов… это ведь такой… молодой, способный художник, верно?
– Ну не очень молодой, – возразила Моня. – Мама говорит, он жил сто лет назад. И еще говорит, что тогда не умели делать репродукции с картин. Жалко. Если бы я была Серовым, мне бы понравился такой альбомище, где на каждой странице что-нибудь мое!
– И мне жаль, – пробормотала лихомара. – Я бы с удовольствием посмотрела эти… репродукции.
Чуть только речь зашла о картинах и блузках, Носков заскучал. Все-таки никакой он не Нарский и даже не Апрелевский, если ему наплевать на искусство!
– Маш, тебя уже, наверно, Бабуля ищет, – напомнил он.
Ну вот, только разговорились…
– Э-э… извините, теть Маш, мне, кажется, придется сейчас пробежаться по кочкам, – сказала Моня. – Пора читать сестре книжку. Приходите в гости, альбом Серова у нас тут. Мы недалеко от ворот, где две елки у калитки.
Прыгать с кочки на кочку Моне показалось проще, чем шагать. Главное, не отвлекаться. И до самого берега они с Носковым прыгали молча, потому что сплошные кочки. А когда перешли по жердочкам на нормальный берег, Моня спросила:
– Правда, тетя Маша классная?
Носков проворчал:
– Ну, по крайней мере, не спросила про мое имя, и то хорошо. Странная она, эта твоя тетя Маша. Кажется, что лицо – а это туман!
Моня остановилась.
– Ты прямо как Буланкина! Она тоже так говорила: «Кажется, что лицо, а это туман»!
– Значит, я прав!
– Носков! – рассердилась Моня. – Лихомар, чтоб ты знал, видят только дети и кошки. А Буланкина кто?
«Что же я не сказала ей про душистый горошек!» – спохватилась в эту самую минуту лихомара.
Она метнулась было за Моней следом, но, вылетев из бухты, остановилась. «Вот ненормальная! – одернула она саму себя. – Тети Маши не летают». А прогулочно-парковым шагом никакая тетя Маша Моню с Носковым уже бы не догнала.
– А что ты себе хозяев каких-нибудь не найдешь? – спросил Мурик. – Они б тебя кормили.
– Ну ты красавец! Ты думаешь, все так просто! – отозвался Ах-Ты. – Они меня будут кормить, а я буду жить по их правилам? Захотят – выпустят из дома, не захотят – не выпустят?
– Почему это? – удивился Мурик. – Спишь, где нравится. Еду дают, какую любишь, иначе выбрасывать придется. А из дома выходить в плохую погоду и так ни к чему. Летом – сюда. В электричке-то, честно говоря, не очень. Грохот стоит, на нервы действует. Зато всю дорогу они тебя несут, лапами перебирать не надо. Вот только молока с фермы не стало, плохо. Много дачников развелось, на всех не хватает. Так Петя взял и мое молоко какой-то Буланкиной уступил! Валечка его за это ругала-ругала, ругала-ругала… Да-а, Петя у нас от лап отбился…
– Вот скажи: тебя кто-нибудь кисой называл?
– Кисой? Вроде нет… Петя все время: «Мурик, Мурик», а Валечка еще говорит: «Ты моя л-ласточка!» Наверно, думает, что ласточки – это лучше некуда. А чего в них хорошего? Не знаю. Ты их не пробовал?
– А меня вот называли, – сказал Ах-Ты. – Кисой. К ней бы я, может, жить и пошел. Но она лихомара, понимаешь ли! А лихомары вообще ничего не едят. И живет она в болоте, а это не дом. Это вовсе никакой не дом…
– Ой, лихомары эти… Я их стараюсь не замечать. От них сыростью тянет. Чего они так низко летают! Летали бы повыше, как ласточки.
– Тянет, это верно. Она как-то так делает, что у нее появляется человеческая фигура. Лучше дачниц выглядит, между прочим. Но и тогда с ней рядом сыро, будто туман лег. А скажет «киса» – и не уйти!
– Может, тебе к Буланкиной? – предложил Мурик. – Петя говорит, она одна-одинешенька. Хоть молоко не кому попало достанется.
Ах-Ты дернул хвостом.
– Ты ее хоть раз видел? Вот то-то и оно. Она вообще не человек!
Неожиданно коты замолчали, и, к Мониному удивлению, мимо забора прошла Буланкина. Шла она со стороны Носкова, как и всегда, наверно, делала в это время. Только всегда она гуляла в леске, а тут решила пройтись по улице. Странно! Рискуя спугнуть котов, Моня высунулась в окно. Вместо того, чтобы на перекрестке свернуть в лесок, Буланкина обогнула Монин участок и отправилась на соседнюю улицу. «Хм… – подумала Моня. – К Носкову, что ли, сбегать?»
Но ведь и котов хотелось дослушать.
– Вон твоя «одна-одинешенька»! – сказал Ах-Ты. – Потомки Оцараписа с такими не связываются.
– Это она?! – изумился Мурик. – Великий Муррус! Оплошал Петя наш, оплошал… Одного не пойму: молоко-то ей зачем?
Пока он говорил, нижняя ветка, на которой сидели коты, как будто повисла в воздухе. От нижней части ствола осталась только тень среди тумана, который поднимался снизу. Коты его тоже заметили и, не прощаясь, спрыгнули с ивы: Мурик на улицу, Ах-Ты – к Моне на участок. А Моня осталась смотреть. Туман уже не просто поднимался, а прямо-таки валом валил из канавы, быстро заполняя улицу, пролезая между штакетинами, перетекая через забор, подбираясь к чубушнику.
– Машенька, закрой окно, туману в дом напустишь! – крикнула снизу Бабуля.
Моня закрыла окно, спустилась по лестнице, вышла на крыльцо. Туман быстро густел. Вот почти исчез из виду столб на перекрестке. Дом Алевтины Семеновны превратился в мутное темное пятно, а боярышник, который рос у нее вдоль забора, стал едва заметной полосой. Тетя Валя с дядей Петей включили свет, и кроме этого света, довольно тусклого, у них там ничего видно не было. Только елкам у калитки туман оказался нипочем. Из-под них вынырнула вдруг Алевтина Семеновна.
– Вот это туманище! – сказала она, запахивая поглубже вязаную кофту. – Я к вам иду спасаться. Деточка, а где твой душистый горошек?
Кофта была кирпичного цвета. «Хоть вблизи еще что-то видно!» – подумала Моня и спрыгнула с крыльца в туман.
– Бабуля говорит, что нам в этом году достался крупноцветный сорт. У него самые крупные цветы размером примерно с бабочку-адмирала, а те, что помельче, не меньше капустницы!
В сумерках и тумане горошек смотрелся не так нарядно, как на солнце, но зато его было много.
– Волшебно! – воскликнула Алевтина Семеновна, поднимая глаза к крыше сарая. – Как же ты все это донесла?
– Как обычный букет, – объяснила Моня. – Это он всего за несколько дней так вырос.
– Волшебно! – повторила Алевтина Семеновна. – Он совсем такого цвета, как мои розы сорта «Барбара Остин» или вроде того. Надо, чтоб ты на них посмотрела!
– Маша, ты где? – крикнула Бабуля с крыльца.
– Идем, идем! – застрекотала Алевтина Семеновна. – Это я ее задержала. Я к вам пришла проситься на ночлег. На веранде спать невозможно.
Она взяла Моню за локоть.
– Скорее, скорее в дом! А то сейчас мы с тобой отсыреем!
Моня вполголоса спросила:
– А вы не знаете, кроме детей и кошек, лихомар еще кто-нибудь может видеть?
– Думаю, что нет, деточка. Только другие лихомары.
Отсутствие тумана лихомара обнаружила случайно, в тот же вечер, в какой Моня отметила его присутствие. Высунулась на минутку из болота – посмотреть, как там душистый горошек, – а небо ясное! А воздух прозрачный! А за дачные домики, что на том берегу бывшего пруда, садится солнце! Как давно она не видела заката – с начала мая. Все из-за этого вечного вечернего тумана. «Неужели уехала? Как хорошо!» – обрадовалась лихомара, имея в виду Буланкину.
Сразу стало спокойнее. Хоть лихомара и уговаривала себя, что привыкла к этим летним туманам, а все же побаивалась их. Она выбралась из воды, полюбовалась горошком. «Красавец! – подумала с гордостью. – Горошище! А ведь совсем еще недавно маленьким был горошулечкой». Была бы у него опора, он бы еще лучше смотрелся, да где ж ее взять. Без опоры ему приходилось цепляться усиками за что попало, – за мятлик, за траву тимофеевку, за розовый клевер, – и расти вдоль берега, не в высоту, а в длину. Зато уж рос он не по дням, а по часам. Особенно стручок. Лихомара смотрела на этот могучий стручок и гадала, какие же в нем горошины: с орех-лещину, или все-таки с каштанчик? Если с каштанчик, то унести их с собой в Ямищево она бы не смогла: каштаны – уж точно не то, что ветер носит.
Налюбовавшись, Лихомара подумала, не махнуть ли теперь к Зайцевской в гости. Но не махнула. Все-таки не всегда удается сразу поверить в удачу. Мало ли, вдруг туман начнется позже. Лучше для начала просто погулять в леске, а уж завтра, если тоже будет ясно… Она обвела взглядом лесок, справа налево. Какое счастье: вечер, а все видно! И задворки Брехова с коровой, и за осинками дачный забор с воротами, и, чуть левее, несколько дубов. И совсем уже слева еще один забор, покороче, где ближняя к болоту калитка принадлежала, оказывается, коменданту.
«Зачем дачникам комендант? – удивилась про себя лихомара. – Разве у них там военная крепость?» Моня, например, не смогла бы ответить ей на этот вопрос. Она сказала бы только, что комендант – это важный, не очень симпатичный дядька по фамилии не то Можайцев, не то Казанцев или даже Смоленцев, который иногда появляется у них на перекрестке. И раз это не просто дядька, а комендант, с ним надо обязательно здороваться, хоть они и не знакомы. А что комендантом называют еще начальника военной крепости, который следит там за порядком, Моня не знала. Зато это знала лихомара, но не могла сказать, откуда.
Комендантский забор не просто доходил до болота, но и переходил его. Болото он переходил в виде металлической сетки, а на другом берегу становился снова деревянным и глухим и тянулся вдоль воды, отгораживая от всех, кроме коменданта, половину болота. И еще он портил вид. Лихомара хорошо помнила, как его строили, и как Зайцевская возмущалась: «Да они у тебя полдома оттяпали и глазом не моргнули! Тряси и зноби!» Но она не стала тогда никого трясти и знобить, потому что не умела и потому что все равно уже оттяпали. Перестала заглядывать в ту часть болота да и все. «А надо бы заглянуть, – подумала лихомара. – Попрощаться. Переезжать скоро, а там и вовсе засыплют мою канаву…»
Лихомара поднырнула под металлическую сетку. Грустно возвращаться в дом, который был когда-то твоим, а теперь живет своей жизнью. Там стало темнее из-за этого забора, как будто даже прохладнее, прибавилось комариных личинок, а так, в общем, мало что изменилось. «Ну и ладно! – сказала себе лихомара. – Ну и не жалко!». И, поскольку снова подныривать под эту противную сетку не хотелось, решила: «Посмотрю-ка, что теперь наверху».
Как это она раньше не знала, что лихомар видят только дети и кошки! Гуляла бы, где хотела. Спасибо Зайцевской, надоумила. «Конечно, неприлично заявляться без приглашения, – подумала она, – но я ведь ничего не украду и никого не напугаю. Пройдусь немного по дорожкам, как будто тоже дачница, а потом через забор – и в лесок, гулять!»
Лихомара полетала над комендантским болотом: вода в нем была аж черной. Мало того, что сумерки, так еще с одной стороны загораживал остатки света глухой забор, а с другой их заслоняли пышные кусты черноплодной рябины. Зато из темной воды получается самое лучшее, самое четкое зеркало – там, где нет ряски, разумеется. Лихомара посмотрелась в воду, подумала немного насчет шляпки, поняла, что обойдется без нее, и взлетела повыше. Жаль было растрепать рюши на блузке и красивые складки на юбке, протискиваясь сквозь кусты черноплодной рябины. Да и настроение было приподнятое – прямо летать и летать.
У себя на участке комендант точно был комендантом, то есть следил за порядком. Дом его, сложенный из красного кирпича, в сравнении с Мониным дощатым домиком выглядел крепостью. Ни одна травинка не посмела прорасти между плитками, которым выложил комендант дорожки. А яблони с намазанными побелкой стволами стояли слева и справа ровно, как на параде. Между яблонями протянулись широкие, ровные-преровные грядки, накрытые прозрачной пленкой. Что там росло, под пленкой, лихомара не разглядела, потому как заметила по ту сторону грядок крупного, не очень-то симпатичного дядьку. Это и был комендант. Он сидел на лавочке у кирпичной стены, смотрел на грядки и как будто принимал садово-огородный парад.
У самого коменданта вид, однако, был не парадный: тренировочные штаны, да расстегнутая рубашка, да матерчатая кепка на голове – белая, но это смотря относительно чего. Надо сказать, что в таком виде он появлялся и на перекрестке, поэтому Моня бы, например, не удивилась. А лихомара, глядя на него поверх куста черноплодной рябины, прошептала: «Фи! Уж рубашку-то мог бы и застегнуть! И о чем он только думает!»
А комендант ни о чем особенно и не думал.
Жил он не один-одинешенек, как Буланкина. Просто семейство его уехало на пару дней в Москву, вон он и сидел на лавочке один, довольный наведенным порядком. О том, что на месте засыпанного болота можно бы посадить еще две-три яблони, он уже подумал, и не раз. О дроздах и черноплодной рябине тоже.
Год был не яблочным, зато черноплодно-рябиновым, и комендант готовился собирать урожай. Урожаю радовался не он один. Дрозды-рябинники тоже ему радовались, чуть не каждый день. Так радовались, что даже не хотели подождать, пока черноплодка дозреет. Комендант лично гонял их с кустов. Но так как они не предупреждали заранее о своем появлении, приходилось все время быть начеку. Из-за дроздов ему случалось оставлять на столе недоеденный обед, выскакивать из дома с зубной пастой во рту и отбегать от телевизора, не дослушав прогноз погоды. И как раз в тот день, когда лихомара отправилась прощаться со второй половиной болота, только утром, комендант решил, что неудобствам пора положить конец.
Он взял две палки, одну длинную, другую покороче и связал их крест-накрест. Длинную воткнул одним концом в землю рядом с кустами черноплодной рябины, а на короткую накинул свой старый пиджак цвета чайной заварки. «Правильно я сделал, что не дал вам его выбросить! – сказал он своему семейству, пока оно еще не уехало. – Видите, как пригодился!» Семейство смерило взглядами одетое в пиджак огородное пугало у кустов черноплодки и посоветовало: «А ты еще кепку свою на него повесь». Но зря семейство надеялось избавить Коменданта от его относительно белой кепки: у него была запасная, точно такая же. В запасной относительно белой кепке и пиджаке пугало как бы замещало коменданта, и дрозды, увидев это, должны были немедленно развернуться и улететь восвояси.
Так что, сидя на лавочке, комендант мог ни о чем не думать – разве что немного о комарах, которым, в отличие от лихомары, очень нравилось, что рубашка у него не застегнута, а сандалии обуты на босу ногу.
Он поглядывал и на яблони, и на грядки, но больше всего на пугало. Потому что именно поглядывая на пугало, которое сам придумал, сам смастерил, сам нарядил, комендант чувствовал себя молодцом. Неожиданно что-то светлое промелькнуло над кустами черноплодки, и рядом с пугалом встала стройная дамочка, опустившаяся сверху.
Комендант Можайцев (если только не Казанцев и не Смоленцев) до того чувствовал себя молодцом, что на остальные чувства места в нем не хватало, и поначалу он совсем не испугался. Он остался сидеть на лавочке и смотреть на пугало – и теперь еще на дамочку, бродившую вдоль кустов.
Дамочкой комендант назвал ее (про себя, разумеется) из-за «пучка» на голове, который одобрил, потому что короткие стрижки у дам не любил. И длинной юбки, которая выглядела больше по-городскому, чем по-дачному, но прилично. А уж чтобы дамой называться, таких дамочек, по его мнению, нужно было три, не меньше. «Две дощечки сложены, и кишочки вложены», – отметил про себя комендант, по-прежнему сидя на лавочке. Вот не очень было понятно, как это она перепрыгнула куст черноплодной рябины. Может, все же не перепрыгнула, а между ветками пролезла? Такую сквозняком под дверью пронесет, не то что между ветками. Но вечер стоял на редкость тихий. Пока комендант старался уловить хоть какие-то признаки сквозняка, дамочка подошла к пугалу совсем близко и вдруг втянулась в пиджак, а «пучок» свой подставила под относительно белую кепку.
Лихомара все же не сразу решилась перелететь куст черноплодной рябины. Ну, не привыкла она расхаживать у людей на виду! Раз всего и высунулась, и то в виде кошки. И, кстати, Бабушка Домашняя Обыкновенная ее не увидела, только девочки. «Все, хватит трусить! – велела она себе. – Зайцевская, в отличие от тебя, нормальная лихомара. Если она говорит, что нас видят только дети и кошки, значит, так и есть».
Лихомара походила немного по траве у кустов черноплодки. Подумала, что пугал теперь не часто на дачах ставят. И что пиджак этот слишком тяжел, шевелиться на ветру не сможет, и птицы, пожалуй, не обратят на него никого внимания.
Поначалу было неуютно. Но неряшливо одетый тип, что сидел на лавочке, не сказал ни слова. Значит, не увидел. И она почувствовала себя гораздо свободнее. Вот чего ей так не хватало! С людьми боишься, что тебя увидят, с другими лихомарами боишься показаться не такой, как они… «А ведь надо иногда и подурачиться, не так ли? – сказала она себе. – Вот он там сидит, а я сейчас возьму, да и примерю этот нелепый пиджак!»
Пиджак оказался просто громадным, не удалось даже вытянуть руки так, чтобы они высунулись из рукавов. А кепка висела неудобно, закрывала половину лица. И очень не хватало зеркала. Но было забавно, а то все юбка, да блузка. И еще веселило, что вот она вертится тут, а этот тип смотрит прямо на нее и не видит.
Но, как это ни удивительно, комендант ее видел. Видел, хотя совершенно точно не был ни кошкой, ни ребенком, ни другой лихомарой. Возможно, коменданты тоже способны видеть лихомар, просто никто этого специально не проверял. А возможно, дело было в фамилии – Можайцев (ну или Казанцев, если только не Смоленцев). А может, он просто таким уродился – видящим лихомар, хоть и думал всю жизнь, что никаких лихомар нету – так, слово одно.
Грядки, накрытые прозрачной пленкой, немного загораживали от коменданта нижнюю часть пугала, и он не заметил, что лихомарина юбка не касалась земли. Поэтому, наблюдая в своем пиджаке постороннюю дамочку, он все еще чувствовал себя молодцом, только очень и очень удивленным.
А вот когда лихомара выпорхнула из пиджака (между прочим, застегнутого на все пуговицы) в проем между лацканами, комендант начисто забыл, что он молодец. В голове зашумело, как будто туда прилетела стая дроздов-рябинников, только вместо птиц в ней образовался вопрос: «Чего это она летает?!» Но тут же и умчался, потому как оказалось, что дамочка больше не летит, а, поправляя прическу, медленно идет по дорожке к дому. Конечно, комендант мог бы крикнуть: «А что это вы тут делаете, дамочка, на моем участке?» Но это если бы она была не летающей; кричать на летающих комендант пока не пробовал. Да и не очень-то хотелось: вроде и прическа у нее приличная, и юбка длинная, а все равно, вид странный. Вся одного цвета, – что юбка, что волосы. И словно из одного материала сделана: вата – не вата, марля – не марля; туман какой-то. «Тьфу, лихомара!» – пробормотал комендант и не стал наводить порядок. Встал с лавочки, ушел в дом и запер дверь изнутри – на всякий случай.
А если бы не ушел, то увидел бы, как лихомара кружилась над садовой дорожкой, потому что настроение у нее было расчудесное. Если ей чего и не хватало в тот момент, так это настоящей юбки, чтоб красиво развевался подол. И настоящей блузки, чтобы рюши не разматывались. Накружившись, она уселась на освободившуюся лавочку, но смотреть на яблони и грядки быстро надоело. «Вот у графа была – дача, – размышляла она. – Парк, цветники, пруды, сирень… И дом, а не домик! Здесь домик хотя бы кирпичный, но… интересно, сколько в нем комнат?»
Комнат у коменданта было три: две на втором этаже, одна на первом. И кухня. Запершись в доме, он пошел в ту, что на первом, и включил телевизор. По телевизору показывали коралловый риф. Голос за кадром звучал ласково, и комендант немного успокоился. Он подумал, что надо хлебнуть чайку да ложиться спать, потому что, как известно, утро вечера мудренее, и уж утром-то никакие туманные дамочки у черноплодки точно летать не будут. Только дрозды.
Комендант пошел на кухню и там включил радио, чтоб окончательно успокоиться. Собрался еще включить электрический чайник, но вместо этого хлопнул себя по лбу: «Вот лихомара! Дверь запер, а про окно забыл!» Окно на кухне было распахнуто по случаю жаркой погоды, – точнее, открыта была половинка окна, хотя хотелось распахнуть его целиком. Но, как бы этого ни хотелось, распахивать его полностью было опасно: комары только того и ждали. Они околачивались за стеклом, заглядывая в кухню, и вились у марли, которой семейство затянуло открытую половину. Комендант, в свою очередь, взглянул на комаров, а заодно и на скамейку под окном, на грядки под пленкой и пугало за ними. Никого постороннего не увидел. Комары не в счет: они не покидали коменданта до самых заморозков. «Может, не закрывать? – подумал он. – А то духотища».
Осмотр кухни лихомара оставила напоследок. Просто отметила, влетев в окно, что много интересных и непонятных мелочей, а мелочи надо рассматривать не спеша. Остальной дом показался ей тесноватым и ужасно неуютным. Но порядок был, это да. Немного удивил аквариум в гостиной, прозрачный только с одно стороны. Кто-то невидимый объяснял, что за рыбки в нем плавают. Лихомара немного посмотрела и расстроилась. К морю бы! В Коктебель! А она тут из одной лужи переезжает в другую, побольше.
Она вернулась на кухню. Там стоял этот тип в расстегнутой рубашке. Граф бы никогда себе такого не позволил, даже оставшись один. Лихомара скорчила презрительную мину и потом еще покрутила пальцем у виска, – все равно, тип не видит. Думала напоследок сделать ему «козу», но тип отправился открывать вторую половинку окна, и лихомара выскользнула сквозь марлю, потому что разглядывать кухню уже не хотелось. Она даже не заметила, что комендант выпрыгнул в окно почти одновременно с ней (только, конечно, не через марлю). До темноты пробродила среди осинок и дубов, и настроение было так себе.
Комары в тот раз ночевали в доме, а где ночевал комендант, неизвестно. Возможно, в Москве. Моня, например, до самого отъезда вообще не видела его на перекрестке. А следующим летом выяснилось, что дачу свою он продал, и комендант теперь другой.
Кажется, еще ни разу не видела Моня утром такого густого тумана вокруг дачного дома. И не густого-то не видела – а тут густой, будто в воздухе разлили молоко. Опять, что ли, Буланкина прошла?
Алевтина Семеновна поохала, что туман нарушает ее планы, и побрела к себе. К Носкову Бабуля не отпустила. А так хотелось поговорить с кем-нибудь про тетю Машу! Значит, Буланкина врет не всегда, и тетя Маша действительно лихомара? Куда же она, бедняжка, пойдет, если засыплют болото? Может, правда, в Ямищево? Моня и в Зайцеве видела пруд, но мимо него машины ездят. Вроде бы есть еще пруд у станции, по ту сторону железной дороги, но Моня там не была. «А надо бы взглянуть, – подумала она. – Может, тете Маше подойдет». И еще подумала: «Во всяком случае, Горошине из-за нее ничего не будет, потому что лихомары милые. А если правда, что единственная плохая лихомара до сих пор кому-то портит жизнь, то это точно Буланкина!»
Только как это объяснить Бабуле?
Бабуля, у которой тоже планы были нарушены, сидела с Горошиной. Моня могла заниматься, чем хотела, но что летом делать в доме? Было сумеречно, скучно и очень тихо. Разве что иногда в невидимом теперь небе пролетали невидимые самолеты, и им вдогонку летела сквозь туман «песня» Диты.
Почти до самого обеда Моня просидела у себя, а когда спустилась, Горошина спала, а Бабуля была на кухне. «Ага! – подумала Моня. – Попробуем поговорить».
– Бабуль, а ты знала, что Буланкина умеет вызывать туман?
– Я знала и знаю, что ты ее не любишь, – сказала Бабуля. – Но туман и Буланкина – это разные явления.
– А Ба Носкова, например, так не считает. И мы с Носковым сами видели, как Буланкина идет по леску, и сразу из канавы поднимается туман. А вчера перед туманом она прошла мимо нас.
– Да это совпадение, – ответила Бабуля. – Давай обедать, миленькая.
На том разговор и закончился, потому что вернулась Алевтина Семеновна. Втащила в кухню сумку на колесах и как начнет выкладывать на стол продукты. Бабуля только всплескивала руками:











