Читать онлайн Свободный человек
- Автор: Светлана Богданова
- Жанр: Современная русская литература
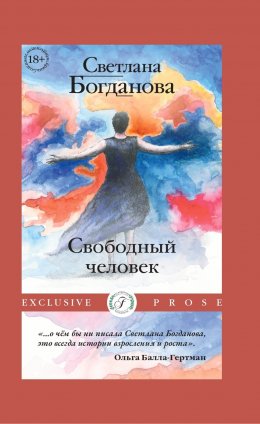
© Светлана Богданова, текст, 2022
© Евгения Богданова, иллюстрация, 2022
© Александр Кудрявцев, дизайн обложки, 2022
© ООО «Флобериум», 2022
© RUGRAM, 2023
Сон Иокасты
Роман-антитеза
Я написала «Сон Иокасты», когда мне было 29 лет. Тогда я училась в Литературном институте, и этот небольшой текст стал частью моего диплома. В 2000 году роман впервые был опубликован в журнале «Знамя» и получил очень благоприятную критику. Но через год я решила, что больше не буду ничего писать, и замолчала на 16 лет.
Эти 16 лет – гигантская зияющая прореха в моей литературной карьере. На самом деле я не могу сказать, что я не писала. Я работала в журналистике и писала очень много, но мои тогдашние буквы не имели ничего общего с литературой. Однако в те моменты, когда я больше не могла сдерживаться, я делала наброски и складывала их в дальнюю папочку на компьютере. И до сих пор я натыкаюсь на эти рваные потертые файлы, файлы, которые я выдавала между газетными и журнальными статьями, между пресс-конференциями, интервью и командировками. Файлы, в которых не вижу больше ничего, кроме сожаления: я и правда сожалею, что замолчала так надолго.
В 2017-м я решила вернуться в литературу. И принялась что-то гуглить о себе: мне хотелось понять, осталось ли в виртуальном пространстве хотя бы единое упоминание обо мне как о писательнице. К моему удивлению, я нашла несколько коллег по имени Светлана Богданова. И – несколько литературоведческих исследований и диссертаций, которые были написаны за годы моего молчания, – по роману «Сон Иокасты». Признаюсь, меня это потрясло. Ведь за все 16 лет никто ни разу со мной не связывался. Никто не спрашивал меня, что я хотела сказать этим текстом, как я его писала, почему мои герои – именно такие, какие они есть. Ничего подобного не было. Роман жил своей жизнью, его читали, его исследовали. А я – как автор – была полностью забыта.
И, осознав это, я испытала странную радость. Разве это не есть предел писательских мечтаний? Ведь я пальцем о палец не ударила, чтобы продвинуть мой роман. Мое произведение сделало все само!
Уже позднее я прочитала знаменитый «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте, в котором сквозит подобная мысль: автору достаточно исторгнуть из себя текст, а затем текст должен жить своей жизнью, и автору совсем не обязательно для этого прилагать какие- то усилия, давать интервью, то и дело напоминать о себе и всячески обнажаться. Автор должен писать. А его творчество должно стать самодостаточным. Это были мои мысли! Мои мысли и мой опыт.
И я бесконечно благодарна «Сну Иокасты», что у него такая долгая и самостоятельная жизнь. И за то, что наши судьбы давно разошлись. Очень надеюсь, что мы с моим романом и дальше будем идти каждый своей дорогой. Ведь мое дело – писать, а его – быть написанным.
Июль 2022 года, Москва
«…и архипелаг этот найти по карте либо идя на судне упорядоченно в одном только направлении нельзя, поскольку его острова перемещаются по океану произвольно, хаотически меняясь между собой местами, так что никогда точно не определишь, где в данное мгновение они расположены, да и они ли это в действительности: в разное время архипелаг выглядит по-разному. В него входит множество мелких островов, число сочетаний которых бесконечно. Знамениты они тем, что, как и у предметов, и у животных, и у людей – местных жителей, – у них нет теней, ничто не притягивает их к почве, и если бы не сила человеческой привычки, дома, деревья и горы пребывали бы в вечном движении, постоянно перемещаясь с места на место.
Расстояние же между землями архипелага таково, что любой островитянин, стоя на берегу и вглядываясь в даль, не увидит ничего, кроме матового морского блеска и небес, посему даже самое строгое знание о порядке вещей не в силах удержать острова на одном месте…
Поступки людей, обитающих там, как и их желания, не обладают тенями, поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени…»
Подняв голову, он оглядел двор, где шеренги солдат, расположившиеся огромным крестом – в центре стоял главнокомандующий, – внезапно повинуясь пронзительному, похожему на невнятное мяуканье приказу, задвигались, меняя форму построения, закружились, образовав около фигурки в оранжевых генеральских шелках кольцо, от которого во все стороны растеклись по мощенной булыжниками площади смуглые, как и тела солдат, лучи. Снова раздалось то же мяуканье, но Эдип не стал смотреть, какую мозаику на этот раз составят ловкие и послушные воины; он встал и, повернувшись к окну спиной, равнодушно водрузив на полку книгу, которую только что читал с интересом, вышел вон из библиотеки. Его опять охватила скука, вот уже несколько лет подкрадывавшаяся к нему и ставшая отчасти для него привычкой.
Пройдя тронную залу, где он обыкновенно решал государственные вопросы, Эдип направился в парк и застал своих выросших детей в беседке. Несмотря на взрослость, им по-прежнему требовалась помощь нянюшек, устроившихся сейчас невдалеке в тени на маленьких резных лавочках и шепотом переговаривавшихся между собой.
Медленно, неуверенно шаркая по розовой гравиевой дорожке, он взошел на террасу и погрузился во мрак галереи, ведущей к воротам самой высокой башни.
С каждым годом подниматься в покои Иокасты ему было все труднее – даже тогда, когда его провозгласили царем, двадцать лет назад, молодым человеком, он из-за врожденного опухания лодыжек с трудом одолевал лестницы и длинные галереи дворца. Ноги, крепко державшие его во время рукопашных поединков, служившие ему фундаментом, опорой, пьедесталом, во время ходьбы словно бы вдавливали его в землю, оказываясь тяжелыми, как колодки, болезненно отекшими, и не позволяли ему быстро и легко передвигаться наравне со сверстниками. Таким странным недугом в его роду никто до него не страдал, и он, предполагая, что болезнь, не имеющая никакого иного объяснения, скорее всего, должна быть фамильной, поначалу сомневался, были ли его родители именно его родителями. Рассматривая себя в зеркало и зачесывая назад темные, как у Полиба, его отца, кудри, он обнаруживал, что выпуклый лоб и словно бы спрятанные под бровями глубоко посаженные глаза – темно-синие – роднили с Меропой, его матерью, однако нос и губы давали ему повод для страшных, неизъяснимых сомнений, поскольку они не были похожи на носы и губы многочисленных благородных предков. Это заставляло его жестоко мучиться, и томительные дни, проведенные им, еще ребенком, в полном одиночестве в горах, куда он часто уходил надолго с пастухами, представлялись ему вполне оправданными и заранее предопределенными его таинственным появлением – в котором он был уверен – у немолодых уже родителей.
Сомнения покинули его лишь тогда, когда какой- то нищий, явно чужестранец, человек со светлыми, соломенного цвета, волосами и маленькими хищными глазками на красном, одутловатом от браги лице, подойдя к нему вплотную во время праздника Равноденствия, громко крикнул: «Подкидыш!» – и, тут же юркнув в толпу полуобнаженных горожан, скрылся, как если бы обладал тайной превращения в воду, в ручей, и, невинно заструившись под сандалиями танцующих, ушел бы под землю, напоив собою взрыхленный плясками песок. Или он был божественным посланцем, ответившим на вопрос страдающего юноши, и тотчас, отбежав за ликующие спины, выпорхнул горлицей из дыры в холстине (откуда только что торчала его налитая кровью бычья шея), а его обноски разорвали, затоптали, смешали с прекрасным песком, принесенным накануне празднества с берега моря.
Обитателем ли подземного мира, или небесным видением, или хитрым гиперборейцем, но весть о том, что Эдип – неродной сын своих родителей, была принесена именно в миг наиболее тяжких сомнений и поисков, коим предавался он с самого раннего возраста. Она явилась решающей в бесконечном споре Эдипа с самим собой. Услышав столь желанное и столь жестокое оскорбление, Эдип окончательно понял, что он – не кто иной, как родной сын царя Полиба, законный наследник коринфского трона.
* Я запомнила лишь круглую глиняную вазу со сливами, зной утомил их, и они, слабо истекая желтым соком, прорвавшим тонкую лиловую кожу, благоухали – прямо возле ложа Иокасты. Она поспешно встала, словно не замечая ничего вокруг себя, и вышла вон; на тончайшем пурпуре заморского ковра осталось темное сладкое пятно да несколько раздавленных ягод, выпавших из чуть было не опрокинувшейся вазы. Медленно бредя по дворцу, она заглядывала в каждую залу, боязливо, не решаясь встретиться лицом к лицу с Лаем, несколько дней назад отобравшим у нее ребенка. Жара была настолько тяжелой и иссушающей, что даже легкий ветерок, едва шевеливший кисею над царским ложем, не приносил облегчения, но, напротив, еще более раскалял каменные стены покоев. Обойдя весь дворец, Иокаста поняла, что Лай отправился на охоту. Она снова поднялась к себе и позвала рабыню. Та вошла и встала в дверях покорной тенью, тихо внимая приказаниям царицы, и лишь мятежные белки глаз блестели на смуглом лице.
В этот день ей велено было заколоть дюжину гусынь и пару павлинов, тушки птиц приготовить для пира, а перья тайком, чтобы никто не увидел, доставить Иокасте.
Поднимаясь в покои Иокасты, Эдип едва переставлял опухшие – как всегда, к закату – ноги, размышляя о том, что когда-нибудь настанет время, и он не сможет уже взбираться на самую высокую башню своего дворца, тогда ему придется переселить Иокасту в другую башню, пониже, хотя за долгие годы она привыкла к своей комнате, вероятно, вынужденный переезд навредит ее здоровью. Ежедневно к ней отправлялась рабыня с лоханью теплой воды, в которой плавали сухие цветы лаванды, придававшие телу Иокасты и скользкому, прохладному белью на ее постели сладковато-терпкий аромат, рабыня оставалась там подолгу, без конца обтирая ослабевшие члены царицы душистым отваром, расчесывая волосы и расправляя складки на ее легкой одежде. Затем она спускалась – все с той же лоханью, где вода за время омовения обретала матовый блеск и походила на жидкий, расплавленный нефрит. Оказавшись внизу, рабыня неизменно сталкивалась у входа в башню с Эдипом – в темной галерее, где, замерев, подстерегал ее, он никогда не мог разглядеть в сумерках выражения ее лица – лишь сверкавшие белки глаз и мимолетный наклон головы, плывущей в такт тяжелому плеску мутного теперь, но все так же сильно пахнущего отвара. Дождавшись, пока гибкая тень рабыни, поглощенная стеной, исчезнет за поворотом, он направлялся к Иокасте, болезненно вдавливая свои слоновьи ступни в слишком крутые ступени лестницы.
Вот и сейчас, поймав молчаливый знак – кивок, – он начал медленно восходить наверх, отдыхая на каждой площадке, возле большого квадратного окна, затянутого черной узорчатой решеткой.
Войдя в спальню к Иокасте и ощутив, как всегда, запах сухой лаванды и летнего ветра, он опустился к ней на кровать. Ее глаза закрыты, руки, согнутые в локтях, лежат на подушках, губы слегка тронуты слабой улыбкой – не улыбкой даже, а призраком улыбки – улыбки приветствия. Он знал: она рада его приходу, хотя поза, в которой она ждала его, и это ее светлое выражение лица словно показывали ему, что она находится в полной его власти, что она доверяет ему и что, в то же время как будто бы сдается, уязвленная его силой и признавая ее.
Кожа ее, просвечивающая сквозь тонкие одежды, была густого янтарного цвета, она как бы сияла в солнечных лучах, пытавшихся, но не могущих достать ее сквозь белые шелковые занавеси, образовавшие над ложем пышный балдахин.
Он положил руку на ее ладонь, и улыбка исчезла со спящего лица, но пальцы скачущими неверными движениями сжали в ответ его запястье, он вздохнул. Женщина, которая заснула, получив весть о гибели своего первого супруга, за эти двадцать лет ни разу так и не открывшая глаз и не произнесшая ни единого слова, – эта женщина, казалось, позволила ему овладеть собою, сделала его царем, родила ему четверых детей, без единого стона, продолжая при этом спать, – она полюбила его, это стало для него с некоторых пор очевидно. Все явственней она откликалась на его приход и уход, на его слова и ласки, но по-прежнему не размыкала век и не отказывалась от своего сна. Он чувствовал растущую с каждым днем любовь к нему, он видел ее живое лицо, но он никогда так и не знал, какого цвета у нее глаза, и он никогда так и не был уверен, что это вправду она, Иокаста, и что она действительно любит его, отца своих детей, Эдипа. Ему чудилось, что, оставив собственное тело, как прекрасную, привычную, но ставшую вдруг по какой-то причине неудобной раковину, она, точно рак-отшельник, подыскала себе другое жилище, где-то очень далеко от него, и что там она и обитает – совсем другой женщиной, спит, разговаривает, смеется, готовит пищу, поет песни, а ее тело, оказавшись в его объятиях, улыбается, печалится и стонет, запоздало отвечая лишь на события нынешней ее жизни вдали от Фив, не зная ни Эдипа, ни детей, ни комнаты в башне.
Однако вместе с тем он ощущал, что от этого ее полуприсутствия рядом с ним он любит ее еще больше и что только здесь, вдали от бесконечно строящихся и мгновенно распадающихся армейских шеренг, вдали от громоздких библиотечных полок, вдали от парка, по спутанным аллеям которого вышагивают полуобнаженные юнцы, а со скамеечек им машут смуглыми ладонями девочки – его дети, – вдали от всего этого, казалось бы, реального мира, он в жарком, напоенном летними запахами и переливающимся бликами полудоме-полуаквариуме проживает самые насыщенные, самые явственно ощутимые мгновения своей жизни. И позже, когда у него не останется уже ничего, кроме воспоминаний и слабой насмешки победителя над неисполнившимся страшным предсказанием, полученным в молодости от оракула, он никогда не предастся подсчетам истаявшей за неурожайные годы казны и никогда не назовет имен сраженных за последние годы моровой язвой – никогда не позволит проникнуть в свою седую голову мысли о погибающем и разлагающемся живьем царстве, – одна лишь картинка возникнет на его сомкнутых веках изнутри, словно на сияющем шелке восточного театра теней, – белые, шелестящие занавеси, кисейные складки и золотисто- медовая обнаженная рука, неуверенно сжимающая его грубоватые, с тупыми ногтями, пальцы.
*Соорудив себе тяжелый, пахнущий птичьей кровью и приторным воском наряд из перьев, Иокаста потребовала, чтобы рабыня принесла ей серебряное зеркало.
Та с трудом, кряхтя и останавливаясь каждый миг, чтобы отдышаться, выполнила приказание госпожи. Однако Иокаста, надевшая было странное платье, тотчас сняла его и задумчиво опустилась на прохладные шелковые подушки. Ей не хватало еще парика и полумаски, чтобы не быть узнанной.
Спустя несколько дней она раздобыла себе пугающую чалму – из разноцветной змеиной кожи, кое-где свисающей путаной бахромой и скрывающей лоб, шею и плечи царицы. Полумаску пришлось Иокасте лепить из глины – два изогнутых овала с отверстиями для глаз крепились при помощи пары медных цепочек, туго наматывавшихся на уши. В своем новом диком облачении она была похожа на неведомое чудовище. Наблюдавшая за одеванием Иокасты, а иногда и сама помогавшая ей – расправить перья или бахрому – рабыня, отойдя в сторону и взглянув на нее, закрыла лицо руками и долго измученно качала головой: даже зная тайну ужасного зверя, горделиво представшего перед ней, она едва могла дохнуть, столь устрашающ был его облик.
Зачем именно теперь к нему зачастили глашатаи со всех концов страны – они по-прежнему продолжали зачитывать царские приказы на всех площадях и всех холмах, и часто слушателем их был лишь тяжелый от трупного запаха ветер, но, глотнув из фляги морской воды, укрепляющей голос, они выкрикивали слова, с которыми обращался Эдип к своему народу. Раньше подобные обращения воспринимались с радостью – царя любили и гордились им. Он был щедр, статен, его выходы украшались с невиданной роскошью, его солдаты никогда не ослушивались его приказов. В день Кроноса он разрешал не работать, и повсюду на перекрестках дорог, там, где раньше слышался стон осужденных на публичную казнь, в его правление стали раздавать бесплатно сладкую пьянящую брагу, называемую сфинксовым молоком.
Но прошло то время, и дымка погребальных костров окутала Фивы, запахло палеными волосами, и резкий, тоскливо-жестяной дух разлагающегося мяса потянулся, словно туман, прижимаясь к жухлой траве, не решаясь пока взобраться вверх по горе, на которой виднелся сам город, окруженный высокой серой стеной с узкими черными бойницами, и дворец из желтого грубого туфа. Обессиленные, люди поднимались к этим стенам и падали возле закрытых ворот – в лужи собственной крови и испражнений, их относили ко рву, в котором нескончаемо горел самый большой погребальный костер. Зарево от него по ночам делало стены еще более неприступными, а бойницы еще более черными, узкими, похожими на сощуренные глаза азиатского воина. Едва костер во рву разросся до размеров самого рва и пламя взяло город в тугое жаркое кольцо, а по улицам заструился особенный густой запах тлена, Эдип призвал Креонта, родного брата царицы, и просил его отправиться в Дельфы, к оракулу.
На рассвете, когда трупы были сожжены во рву, а еще живые паломники спали возле то вспыхивавших, то вновь затухавших угольев, ворота Фив приоткрылись – чуть-чуть, лишь на несколько мгновений, чтобы выпустить повозку, которая с невероятной быстротой промчалась по каменному мосту, исчезла среди холмов; намного раньше, чем ее скрыли холмы, она погрузилась в коричневатое облако пыли и, не видимая в нем, двигалась, точно небольшой смерч, который и мог различить царь Эдип, застывший светлым призраком во тьме одной из бойниц.
Спустя какое-то время Креонт вернулся – один, на исхудалом осле; шкура животного от старости и многочисленных клейм, оставленных его бывшими владельцами, походила на живую карту, возможно, она и была картой. Осел вскорости пал, и Эдип, найдя на его шкуре Фивы, Коринф и разделявший их Киферон, приказал сохранить ее в память о предсказании, полученном от оракула. Сам же Креонт проспал, вернувшись домой, неделю; Эдип боялся, что он и вовсе не проснется, что придется его уложить в башню, соседнюю с башней Иокасты, и нужно будет ходить к нему, разговаривать, как поначалу он делал с его сестрой, и ждать, когда его губы в ответ, дрогнув, искривятся подобием улыбки. Однако вскорости Креонт пришел в себя, облачился, как раньше, в оранжевый шелк и, более не отвечая на расспросы, вновь занялся своими солдатами, словно никуда и не ездил, словно не узнал ничего важного, словно перед тем, как заснуть на столь долгий срок, не рыдал всю ночь, сидя возле очага, в котором горели его дорожные одежды, пропитанные жреческими воскурениями.
И тогда, глядя на безупречно послушное войско, снова и снова строившееся вокруг своего генерала ступенчатыми лучами свастик, сжимавших его концентрическими кругами шеренг, Эдип подумал, что столь бесстрашный человек, умевший топить в себе свои самые тяжелые страхи – так, чтобы не только его душу, но и души окружавших его людей покрыло глухое забвение, – мог быть убийцей первого мужа Иокасты. Эта догадка занимала царя настолько, что каждое движение и каждое слово Креонта, будь то даже отработанный жест главнокомандующего или обычный приказ рабу заменить кубок с уже остывшим вином на другой, с обжигающе-густым, казались Эдипу новыми подтверждениями давней вины Креонта перед сестрой. Вглядываясь в людей, окружавших Креонта, Эдип начинал подозревать, что все давным-давно знают об убийстве и смирились с тем, что убийца Лая – сам главнокомандующий, что подобное никого давно не беспокоило, более того, оно всем представлялось совершенно обыденным делом.
*Я помню: Иокаста решила идти в давно выбранное ею место на рассвете, когда фиванцы еще спят, и лишь чужеземные торговцы, только открыв глаза, но не найдя в себе сил, чтобы встать и, перекусив лепешкой с козьим сыром, отправиться на базар, продолжают лежать и подсчитывать в мыслях проданный товар. Ее верная рабыня помогала ей, она быстро семенила вослед своей госпоже, придерживая два нелепых остроконечных крыла, пришитых к платью из перьев, чтобы Иокасте было легче передвигаться.
Я как следует разглядела ее, когда она поднялась на гору Сфингион и, встав над пропастью, посмотрела вдаль, туда, где, покрытый сизой утренней дымкой, просыпался город. Рабыня, стоявшая позади нее, в страхе оглядывалась, она не видела меня, однако была чем-то напугана. Прошло несколько мгновений, и она взмолилась, чтобы госпожа отпустила ее, Иокаста позволила ей уйти. Как только стихли шаги рабыни, я подошла к Иокасте и обняла ее. Поначалу мы обе ничего не чувствовали, лишь слегка кололо во внезапно налившейся сонливостью голове, да перед глазами замелькали, зарябили пестрые, невиданные нами доселе узоры. И вот я ощутила сухое дуновение ветра, пропитанного еле заметным ароматом жарящихся в городе лепешек, и страшная боль сдавила мне грудь. Я застыла над обрывом, наполняясь слезами и злостью. Когда-то я слышала о скорняках, пьющих утром теплую кровь только что убитого животного, чтобы вновь и вновь убивать – до темноты. Я ничего не пила, но вдруг словно бы вся пропиталась этой свежей, пьянящей кровью; когда я была готова к убийству, послышался легкий стук осыпающихся камешков, и передо мной предстал мой первый путник.
Песок и копоть давно забились в петли городских ворот, которые теперь открылись медленно, с тяжелым скрежетом, для того только, чтобы сквозь узкую щель внутрь скользнул слабый старик – в ореоле дыма и зловоний. Незнакомец сделал несколько шагов вдоль стены, пока солдаты не заперли засовы и не остановили вошедшего почтительным обращением. Тот замер и, спустя несколько мгновений, медленно, словно боясь внезапного удара по спине, повернулся. Лицо его было похоже на лицо статуи – не только странной бледностью и глубокими ровными морщинами, измявшими лоб и щеки, но и тем, что глаза на этом лице как бы и вовсе отсутствовали. Вернее, зрачки – радужка была неопределенно блеклого цвета, будто она выгорела от солнечного жара; всем, глядевшим в них, казалось, что старик смотрит лишь внутрь самого себя, – потому глаза потеряли выражение и напоминали двух правильной формы влажных рыбок – живых и подвижных. Эти рыбки были такими ослепительными и блестящими, что сияли серебристым светом, а яркое их свечение оттенялось густо-черной туникой, облекавшей худое тело старика чуть ли не от самого подбородка до пят.
Повернувшись наконец к солдатам, Тиресий (ведь это был именно он, великий прорицатель и скиталец) усмехнулся – обыденно и просто, давая страже понять, что не собирается дальше двигаться без ее дозволения. Солдаты неуверенно переглянулись, их неуверенность вызвала на поблекших старческих губах новую усмешку, и тогда оба воина, осознав, что белые рыбы, извивающиеся под седыми бровями Тире- сия, вовсе не бездействуют и старик замечает все, происходящее вокруг, – медленно, но уже с большей уверенностью, поклонились ему. Он ответил им кивком головы.
я всегда боялся стражи мне представлялось я в чем-либо виноват только я никогда не мог понять в чем именно думаю многие люди испытывали подобное и все же моя боязнь полагаю нечто особенное ведь я не совершал в своей жизни того о чем можно было бы жалеть ведь всякому своему поступку я доверял словно он не мой собственный но поступок моего лучшего друга моей тени вот и теперь я снимаю повязку и дрожу мне необходимо слабое бесцветное оправдание перед внушающими страх яркость окружающего мира уничтожает месиво красок смущает обнаженные глаза это уже и не краски вовсе но пугающая смесь из самых острых и самых загадочных ядов мира жар струится в меня жар сминает мне ресницы жар проникает по гортани в желудок жар царапает внутренности я испугался стражи снял повязку я комкаю свои стены разрушаю свое убежище свою крепость не вижу ничего кроме того что дано воспринимать моим безрассудным зрачкам играй моя арфа извивайся в моих мыслях как обнаженная нимфа расплавленный тростник играй моя арфа играй
«…любой островитянин, стоя на берегу и вглядываясь в даль, не увидит ничего, кроме матового морского блеска…
Поступки людей, обитающих там, как и их желания, не обладают тенями, поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени.
Среди местных жителей встречаются и древние старики, которым, судя по свидетельствам очевидцев, уже много сотен лет, эти старики могут быть глухи либо слепы либо страдать от какого-либо тяжкого недуга, однако поведение их пристало называть бодрым, они словно бы не замечают собственных изъянов, слепцы по необъяснимым причинам продолжают хорошо видеть, а глухие обладают недюжинным слухом…»
Эдип перечитал последнее предложение: оно ему показалось нелепым. За окном войско Креонта продолжало выстраиваться в виде неясных знаков – хвостатых звезд и многоярусных лабиринтов. Зачем Креонт с утра до вечера занимается этой дикой муштрой, отдавая войску странные, мяукающие приказания? Почему он никогда не отпускает солдат, даже когда тяжелое красное солнце повисает неподвижным горящим шаром над каменными стенами Фив и по улицам струится песчаная поземка, закручивающаяся смерчиками и вползающая в стянутые яркими тканями входные проемы домов? Лишь поздним вечером солдаты Креонта отправляются в прохладные казармы, но даже посреди ночи генерал поднимает их, чтобы проверить, насколько они готовы защищать свой город и что они станут делать, если внезапно нападет враг… А может быть, в одну из таких ночей Креонт поднимет войско и ворвется во дворец Эдипа, впрочем, ведь до сих пор он ничего подобного не пытался сделать, даже когда Эдип впервые поднялся на башню Иокасты; когда впервые в сумерках мимо него скользнула смуглая тень рабыни и, покорно склонив голову, исчезла за поворотом, трепеща и смущаясь, Эдип слушал шелест босых пяток, удалявшийся прочь под нежный плеск лавандовой воды. Даже тогда Креонт не предпринял ничего, он лишь сдержанно указал победителю Сфинкс, где находятся покои женщины, которая готова сделать Эдипа царем. Но теперь – теперь дети выросли, Иокаста так и не очнулась после своего многолетнего сна, теперь город окружен гниющими и тлеющими телами, каждый новый день приносит с собой новый страх, новую смерть, и оракул – сам оракул! – решился подшутить над стареющим фиванским правителем… Город удастся спасти лишь в том случае, если будет найден убийца Лая, а это Эдипу казалось бессмысленным и невозможным. Преступление совершено слишком давно, свидетелей, пожалуй, и вовсе не осталось, ничего нельзя поделать.
Сверкающий крест, составленный из потных человеческих тел, покачнулся, некоторые солдаты вдруг вытянули руки, отчего ровная линия тотчас же наморщилась и залоснилась, другие неожиданно двинулись с места и пошли – туда, где неестественно покачивались ветви оливковых зарослей, выбиваясь из общего ритмичного дрожания видимых Эдипу в окно травы и деревьев, и вот уже крест совсем смялся и растворился в бегущей толпе полуобнаженных мужчин; они все мгновенно окружили трепещущий куст и встали, потрясая кулаками, ропща возмущенно и грозно. Навстречу им, высвобождая хрупкие плечи из зарослей, шел старик с длинными седыми волосами, разметавшимися спутанными клочьями по черной ткани туники; солдаты в тот же миг смолкли. Эдип, чтобы получше разглядеть незнакомца, встал с кресла и оперся о мраморный подоконник. Старик, будто вдруг узнавший, что из окна на него смотрит сам царь, повернулся лицом к Эдипу и почтительно поклонился. Эдип в смущении понял, что на лице у старика – черная повязка из плотной ткани, скрывающая его глаза и не позволяющая ему даже различать свет и темноту.
*Иокаста должна была уйти, но мне стало жаль отпускать ее. Я срослась с ней, мне не хватало ее силы и ее печали. И все же мне пришлось расстаться с ней. Она оглянулась вокруг, будто впервые оказалась на вершине Сфингиона. В отвращении царица дотронулась до нескольких растерзанных трупов. Дрожа и спотыкаясь, она собралась было спускаться, как вдруг снова поднялась ко мне и, скинув с себя тяжелый наряд, принялась подтаскивать убитых мужчин к обрыву и сбрасывать их вниз, туда, где сверкали окутанные сумерками Фивы и куда придется ей вернуться, чтобы опять запереться в башне и не отвечать на мольбы своего мужа, Лая. Но отныне ночами она будет спать – крепким сном пахаря, и ей не приснится ее мертвый младенец, и не приснится черный небесный бык, врывающийся в башню и протыкающий своим воинственным алым рогом ее измученное родами чрево. Ей приснится густая синева воды да незнакомая прохлада песчаных берегов.
Она забудет о жертвах собственной мести, она безмятежно забудет слово «Иокаста». Эта ночь впервые за много недель принесет ей покой – для того только, чтобы утром, изнывая от жары и от тошнотворного запаха плавящегося воска, она вернулась ко мне, на одинокий Сфингион, во имя отмщения царю Фив, Лаю.
Твердо и почтительно, удивительным образом ориентируясь в незнакомом ему дворце и не натыкаясь на невидимые для него предметы, в библиотеку Эдипа вошел незнакомец, помешавший воинам Креонта выполнять их упражнения. Черная повязка по- прежнему скрывала глаза, очертания его фигуры были мягки и округлы, как у женщины, и Эдипу показалось, что пред ним предстала постаревшая, но грозная и статная Фемида. Старик поклонился, Эдип некоторое время стоял без движения, думая, что незнакомец не видит того, с кем пришел говорить. Однако, когда старик вновь поклонился, и в его поклоне, на этот раз судорожном и угловатом, сквозило явное нетерпение, Эдип неловко, удивляясь и – одновременно – впадая в резкое раздражение, приветственно кивнул. Несколько мгновений они молчали, Эдипу почудилось, будто незнакомец разглядывает его, и оттого царю, привыкшему к испуганно полусомкнутым векам своих рабов, стало неуютно. Вопреки всем правилам он заговорил первым.
– Слушаю тебя, старик. Зачем ты пришел в мой город, неужто ты несешь на плечах своих страшную чуму для моих подданных и для меня? Не думал ли ты, чем станут люди, лишившиеся Фив и спасителя своего Эдипа?
– Ты слишком торопишься, о, царь, строя поспешные предположения, не удовлетворяющие твоего любопытства и ничуть не пугающие меня, твоего собеседника. Нет, не за этим пожаловал я к тебе. Напротив, я знаю, как победить смертельную заразу, разъедающую твоих подопечных и теснящую тоской твою душу.
– Если ты намекаешь на предсказание оракула, то я не нуждаюсь в твоих толкованиях.
– Взгляни на меня: мои глаза бездействуют под этой черной тканью, разве затем пришел я, чтобы толковать предсказания, разве тебе самому не ясно оно? Я пришел потому, что знаю и прошлое, и будущее, и настоящее, знаю сердце женское и сердце мужское, и я дождусь того мгновения, когда ты пожелаешь меня выслушать.
– Черная ткань? Что можешь ты знать? Во время затмения ты делаешь попытку спрятаться, дабы луна не закрыла от тебя солнца. Ты смешон.
– Мои представления о солнце настолько истинны, что одни они лишь в состоянии затмить для меня само солнце.
– Не есть ли это признак твоего заблуждения?
– Нет, это есть доказательство того, что в действительности существую только я один. Того, что ты видишь, как и тебя самого, – нет, есть лишь мои представления о тебе и обо всем мире в целом, они и есть мир, которого не существует.
– Ты заблуждаешься, старик, хотя бы потому, что я могу точь-в-точь повторить твои слова, ведь и для меня существую только я сам, а тебя и всего остального нет и быть не может. Но чтобы ты осознал свою ошибку, я помещу тебя в темницу. Попробуй-ка, лежа на дне океана, рассуждать о цвете и силе пальмовых листьев, осеняющих прибрежный песок.
– Благодарю тебя за этот дар, о царь. Мне, познавшему блаженства мужского и женского тела, необходимо уйти подальше от действительности, чтобы ощутить наивысшее изо всех удовольствий – удовольствие отшельника. Оно способно позволить мне еще при жизни вкушать сладость погружения в Тартар.
Выслушав его, Эдип задумался. Вскоре в библиотеку вошли стражники, они почтительно взяли старика под локти и вывели прочь. Вновь усевшись возле окна и открыв книгу, Эдип был уже не в состоянии продолжать чтение, его мысли постоянно возвращались к разговору со стариком. К своему изумлению, Эдип понял, что не может вспомнить все сказанное ему незнакомцем, но отдельные лишь слова, точно разрозненные островки памяти, неожиданно и молниеносно всплывали, разрывая его мысли и внося в них непривычную сумятицу. Вот подлинный архипелаг, а не тот, придуманный незадачливым историком. Впрочем, я должен быть уверен в его существовании до тех пор, пока не увижу собственными глазами, что его нет. И потом, нужно спросить у него, что он имел в виду, когда утверждал, будто познал сердце женское и сердце мужское, как и блаженства женского и мужского тела. А что, если привести этого упрямца к Иокасте и посмотреть, на что он способен и как он сможет мне растолковать ее столь длительный сон. Вероятно, он мне расскажет, что видит она во сне, что чувствует, ведает ли она, что я – ее муж, или вот уже многие годы она просто пребывает в бессознательном состоянии и, подобно набальзамированным правителям заморских песков, лежит, не гния и не ссыхаясь, но безо всякого движения, без роста либо умирания.
*Каждый день Иокаста приходила ко мне, и мы опять и опять становились единым целым, так продолжалось долгие годы. Белые перья ее наряда пожелтели и обтрепались, павлиньи кольца, игравшие некогда желтым и синим, как бы слились воедино, смешались, стали буро-зелеными. Змеиная бахрома чалмы залоснилась, а кое-где и вовсе оторвалась. Мужчины, проходившие через Сфингион по направлению к Фивам, платили своей кровью за собственную недогадливость, за жестокость Лая и за нежные сны Иокасты. Ей снились далекие острова, из ночи в ночь повторялось одно и то же: она стоит на берегу и наблюдает за срывающимся полетом белых морских птиц – то взмывающих над водой, то камнем устремляющихся в волны, охотящихся на незаметных рыбешек. Поступь ее столь легка, что песок не скрипит под ногами и не хранит отпечаток ее босых ступней. Она ждет чего-то, но каждое утро, вспоминая приснившееся, не может объяснить себе, чего.
И внезапно я стала замечать, что реже и реже приходит ко мне Иокаста. Поначалу я ощущала лишь зудящее нетерпение, затем оно переросло в сильное беспокойство. Я поняла, что не могу более без нее обходиться. Но в то же время я знала, что не дела задерживают ее во дворце, не Лай со своей приторной, давно опротивевшей Иокасте страстью. Она спала – все дольше для нее тянулись неясные сновидения, все сильнее захватывали они ее, все меньше желания у нее оставалось пробудиться, встать, надеть поблекшее платье Сфинкс и отправиться ко мне – во имя жертвоприношения.
Не успело еще солнце подкатиться к западной окраине Фив и тронуть слоистые стены укреплений, как Эдип пожелал снова увидеть старика. Теперь он сам поклонился незнакомцу и пригласил его сесть рядом, возле окна.
– Здесь много книг, – начал старик, однако Эдип тотчас же перебил его:
– Как твое имя, старик? Уж не Тиресий ли ты, не сын ли нимфы и не тот ли, кто в юности узрел Афину обнаженной?.. Не тот ли, кого люди зовут, когда в доме меж самых скрытых и тайных камней фундамента заводится ядовитая гадюка, не тот ли знаменитый слепец и прорицатель, не тот ли, кого боги наделили великим даром соединять в своем теле и мужчину, и женщину?
– Сынами нимф в наших краях зовут подкидышей и сирот, их всех нарекают «дарами богов». Что же до Афины, то много в ранние мои годы довелось мне увидеть обнаженных женщин, но была ли среди них Афина – то мне неведомо. Я и вправду, о, царь, змеелов, но слепец лишь постольку, поскольку ношу эту черную повязку. Как и всякий другой человек, я с легкостью рассуждаю о том, что было, есть и будет, и иногда оказываюсь прав. Мне уже так много лет, что единственную возлюбленную свою ношу я в себе самом, и в этом смысле являюсь собственным любовником и братом, впрочем, думаю, каждый старик в точности повторит все, сказанное мной. В одном лишь ты не допускаешь ошибки – мое имя Тиресий, но откуда тебе оно известно – для меня великая загадка. И все же я не удивляюсь, ведь ты – победитель коварной Сфинкс, чего же мне ждать еще от тебя!
– Прошло немного времени, но ты говоришь со мной голосом другого человека, я слышу рассуждения шута, а не пророка.
– Так должно каждому говорить с тобой, Эдип. Вокруг твоего города – дым да тление, но у тебя на голове сверкает корона, твои дети сыты, а солдаты сильны и красивы. В башне ждет тебя жена. Я не смею говорить с тобой открыто, ты ежедневно поднимаешься слишком высоко – и тебя не останавливают даже боли в твоих изуродованных ногах. Но, поднимаясь, ты топчешься на месте, ты идешь вверх, оставляя под собой понятия севера и юга, что будет, когда ты ощутишь ничтожность самой высокой башни твоего дворца?
– Твои намеки туманны и потому оскорбительны, ты хитер, но ты не всеведущ, если тебе нужно золото, я одарю тебя им сверх всякой меры, но в знак уважения ко мне и к моему подарку ты должен будешь удалиться прочь из Фив.
– На что мне золото? Ведь его никто не ценит в моих краях. Я не желал тебя оскорблять, но твоя корона мешает нам разговаривать. Сними ее.
Эдип в растерянности ощупал свою макушку. Ни короны, ни платка – лишь жесткие вьющиеся волосы. Губы Тиресия приоткрылись, обнажив беззубый провал рта, и старик чудовищно, хрипло рассмеялся. Тут же появились два стражника, и Эдип снова остался в одиночестве и волнении.
В третий раз Эдип позвал Тиресия к себе ночью, когда тонкий светящийся месяц уже преодолел половину небосвода и висел над дворцом, точно изогнутая бровь. Волнение теперь полностью захватило царя, он едва сдерживался, чтобы отдать приказ своим стражникам спокойным, горделивым голосом, но грудь его точно втягивалась внутрь непонятной клокочущей пустотой, которую он ощущал на месте привычно сжимающегося, но отныне словно бы вовсе отсутствующего сердца. Старик был немедленно приведен, туника его смялась, седые волосы прилипли к разрумянившейся морщинистой щеке, видно было, что его разбудили. Глаза закрывала черная повязка.
– Я удивлен, о, царь, что в столь поздний час ты не спишь. Неужто луна не дает тебе покоя? Ее нежное тело сегодня моложе, чем когда бы то ни было, вряд ли она, будучи еще слишком слабой, могла раздражать твои глаза. Что же мучит тебя, Эдип?
– Тебе непонятны мои муки, ночь для тебя лишена таинственности, ведь перед взором слепцов равна она дню, а луна ничем не отличается от солнца, поскольку оба они невидимы таким, как ты. Но и тоска, и любовь должны быть полными загадками для Тиресия, ведь любовь к самому себе тождественна равнодушию, а тоска по самому себе напоминает смерть.
– Я мог бы прервать твою горестную речь: я знаю, зачем ты позвал меня. Сейчас, когда ты снял корону, я готов подняться с тобой в башню твоей печали: будучи равнодушным, как ты выразился, я остаюсь свободным от добрых деяний и злых, я брожу по крепостной стене, избегая стрел осаждающих и смолы осажденных, я смотрю внутрь самого себя и предупреждаю всякий женский вздох и всякую мужскую мысль. Веди меня.
эти коридоры закручены словно улитка поворачивая налево мы приближаемся к сердцевине дворца башня иокасты располагается внутри в самом центре я знал бы как попасть туда не будь я так напуган прохлада смягчает мою душу мне жаль моего провожатого мне жаль прячущихся за этими стенами мне жаль тлеющих вне их движение наше излишне замедленно эдип еле переступает мне ничего не стоит ощутить всю тяжесть и боль его ног я как отражающий кристалл я не умею быть равнодушным я умею терпеть когда мы придем я увижу царицу плывущую в лавандовом облаке завернутую в атлас и кисею и не найду в себе сил признаться будто это лишь пустой панцирь бабочка давно вылупилась и порхает над далеким морем а царь лишен того что любит более всего на свете но я поведаю ему царство его гибнет потому что много лет назад в случайной дорожной ссоре он убил собственного отца фиванского царя лая и все эти годы он почитал за свою возлюбленную собственную мать фиванскую царицу иокасту опустошенный панцирь породившая тебя женщина не трогай ее она лишь влажная могильная земля она полна любви к тебе и голода по твоему живому еще телу иокаста же подлинная ускользнула возлюбленная твоя тебе не принадлежит вытянувшаяся точно ненужная нить душа ее нашла себе иное прибежище забудь своих подданных забудь свое богатство беги беги прочь
Остановившись возле последнего, самого верхнего окна, Эдип взглянул на небо. Луны здесь видно не было, лишь легкое сияние сочилось откуда-то сверху, из-за башни, на последнем этаже которой отдыхал царь, медленно приходя в себя после мучительного подъема. Старик, шедший следом за ним, тоже остановился и повернулся к окну, то ли пытаясь различить тихие ночные запахи, струящиеся сквозь решетку в башню, то ли и вправду наслаждаясь слабыми лучами, живущими в каждом камне, каждом дереве и в самом дымном воздухе города. Чуть поодаль, на одну ступень ниже царя и Тиресия, замер раб, бледные пальцы его сжимали остроконечный факел, шипевший и коптивший при каждом вздохе ночи. Эдип обернулся. Тени подпрыгивали и раздувались, послушные огненным всполохам. Одна из них, изломанная лестницей, но самая длинная, принадлежала рабу. Она скользила вниз, в темноту, откуда все трое только что поднялись, другая – самого Эдипа – была короткой и коренастой, она распласталась на стене, оконный проем прожег у нее правое плечо, отчего тень казалась странно повернутой, слегка согнутой, тенью горбуна. Третьей тени не было.
– Поступки людей, обитающих там, как и их желания, не обладают тенями, поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени, – теперь уже Эдип и сам не понимал, каким образом ему удалось запомнить столь длинное предложение из книги, которую он с таким интересом читал еще вчера и которая сегодня уже ему представлялась надуманной и лживой.
*Однажды на наш Сфингион поднялся юноша, каштановые волосы которого были заплетены в тугие косы, а лицо словно бы горело из-за ярких бликов, отбрасываемых на него оранжевым шелком туники. Это был сын брата царицы Креонта – одного из фиванских военачальников. Увидев его, Иокаста вздрогнула, но это ее движение, похожее, скорее, на пляску, нежели на испуг, потонуло в тусклом наряде из перьев. Все тем же ровным, будто полусонным, глухим голосом она задала свою загадку и ему. Но только он присел и задумался, но едва он вскочил и схватился за драгоценный клинок, желая напасть на жестокое чудовище Сфинкс и – тем самым – признавая свое поражение, как Иокаста надвинулась на него, холодная, неумолимая, и столкнула вниз с обрыва. Тело юноши падало медленно, точно опускаясь в теплое масло, получая удары о камни – мягкие и беззвучные, напоминавшие прощальные поцелуи. Царица долго смотрела, как разбивается ее племянник.
Несколько дней после той смерти не видела я Иокасту. Даже на погребальный костер не пришла посмотреть царица, странный болезненный сон сковал ее, но Лай не желал приглашать лекаря, ему нравилось, что супруга его покорна и молчалива, за долгие годы он устал от ее упреков, ему уже даже больше хотелось равнодушия, чем презрения и ненависти.
Каждое утро Эдип, сидя по привычке в библиотеке, принимал старшего своего сына, Полиника. Обыкновенно они обсуждали государственные дела, ведь Эдип мечтал о том, что когда-нибудь, состарившись, он передаст фиванский трон Полинику. Если Эдипу случалось говорить об этом с Креонтом, тот бодро поддерживал каждое, пусть и вовсе незначительное предположение царя, касающееся будущего его детей, порой Эдипу даже казалось, что брат его жены неискренен в своих высказываниях, – настолько подобострастным было любое слово Креонта. Иногда Креонт приходил к Эдипу вместе с Полиником, и тогда Эдип чувствовал стеснение и нежелание говорить с сыном в присутствии Креонта.
На этот раз Эдип задремал лишь под утро, он сидел в излюбленном своем кресле, напротив окна, голова его склонилась на грудь, рот приоткрылся, отчего подбородок казался словно бы припухшим, глаза после бессонной ночи запали, их почти совсем поглотили тени, и издалека трудно было различить, спит или бодрствует Эдип. В библиотеку вошли трое – Креонт, Полиник и его родной брат Этеокл.
тебе снится что ты наг это самый мучительный для тебя сон я чувствую за тебя дрожь и растерянность мне неприятно почти так же как и тебе ты видишь что вокруг глиняные стены гладкие терракотовые обожженные они сходятся вниз конусом ты словно в мешке твои онемевшие ступни едва умещаются на его крошечном круглом дне страдания твои усиливаются еще тем что все вокруг тебя вымазано жиром каждое движение предательски опрокидывает тебя ты больно падаешь на спину она уже вся в ссадинах такое чувство будто позвоночник изламывается и выгибается между расцарапанными лопатками растет тяжелый напитанный кровью горб ты снова падаешь и вдруг замечаешь как по стенам глиняного мешка вьются и словно бы стекают черные шнурки змеи испуганно думаешь ты но нет это не змеи это муравьи ты давишь их ломкие тельца ладонями и ногами поначалу слышен омерзительный хруст но их все больше ты понимаешь для чего нужен был этот жир тебе неприятна твоя кожа она теперь тоже вся в жиру наконец-то ты знаешь как ты умрешь и просыпаешься с ледяным диском внутри живота
Острый луч воткнулся в остывшие за время сна зрачки Эдипа, солнце отражалось в огромном, искусно ограненном топазе, висевшем на голом выпуклом животе Полиника, сквозь светлые, будто наслаивавшиеся друг на друга прозрачные плоскости видна была пористая смуглая кожа. Эдип снова закрыл глаза, он не заметил, как заснул, и сейчас чувствовал непонятную легкую радость – воспоминания об ужасной ночи еще не успели наполнить собой его мысли, он улыбнулся. Неожиданно за его спиной раздались два приветствия – одно уверенное, сказанное низким голосом Креонта, другое – вторящее первому, слабое, как эхо, собственно, даже и не приветствие, но какой-то еле слышный призвук, вырвавшийся из юношеского горла Этеокла, младшего брата Полиника. Эдип открыл глаза и медленно обернулся. Креонт и оба царевича окружили кресло Эдипа, он сидел, будто заключенный в равносторонний треугольник, это должно было случиться, подумал Эдип. Он ведь предполагал, что Креонт воспользуется его сыновьями, дабы захватить власть; наступившее утро со столь трезвящими и резкими солнечными лучами, заставшее врасплох всегда настороженного, готового к измене Эдипа, очевидно, должно стать последним утром могущественного правителя и первым утром нового узника древних темниц. Тотчас Эдип вспомнил свой сон, и ему почудилось, что его шея, мгновенно намокшая от солнечного жара, медленно вползшего в окно, не потная, но жирная, она будто бы густо намазана плавящимся и стекающим по спине мутными каплями салом. Эдип взглянул вниз: воины Креонта бродили по площади, они представляли собой бесформенную толпу, едва шевелившуюся, судя по всему, они ожидали приказаний генерала, решившего сегодня уже занять царский трон. Эдип медленно, с трудом опираясь о подлокотники горячими ладонями, поднялся, он вдруг почувствовал равнодушие к замыслам всех троих, более того, ему стала неинтересной и даже скучной мысль о том, что они собираются сейчас сделать, он был готов ко всему, даже к удару по голове или в грудь, ему казалось безразличным, принесет ли с собой этот удар сильную боль, или обморок, или смерть.
– Отец, – начал Полиник, при каждом слове живот его вздрагивал, а на нем трясся и искрился топаз. – Мы пришли, чтобы поговорить с тобой.
Эдип слушал, не двигаясь.
Полиник неуверенно взглянул на Креонта, и тот с готовностью замяукал:
– Мы знаем о твоей мудрости, вот уже многие годы ты правишь Фивами так, как никто до тебя никогда не правил, за это время твой народ ни в чем не нуждался. Но теперь, когда страну поразил жестокий мор, ты замкнулся во дворце, ты не желаешь думать ни о чем, кроме своих книг, ты забыл, где находится тронная зала, ты живешь в библиотеке. За исключением, – тут Креонт незаметно усмехнулся, – тех ночей, когда ты отправляешься в башню Иокасты. Более того, ты пригласил этого нищего безумца, Тиресия, и последние дни либо молчишь, либо разговариваешь с ним одним. – Эдип замер, внезапно он почувствовал, что мысли его прояснились, он снова стал царем. Подняв вверх левую ладонь, он хотел было остановить Креонта, но тот, полуприкрыв глаза, словно не желая видеть предупреждающего жеста Эдипа, продолжал: – Мы пришли вразумить тебя. Я и твои сыновья взываем к тебе, мы надеемся на твою справедливость и силу: выйди на улицу, обрати взор на своих подданных, прогони вздорного старца, его бредни смешно слушать и младенцу. Не подобает царю мечтать под льстивое шамканье лживых прорицателей. Вспомни о предсказании оракула!
Теперь только Эдип понял, что его не станут сегодня убивать, он рассмеялся, чем заставил Креонта, Полиника и Этеокла удивленно переглянуться. Он увидел весь свой день, ему представилось, как, должно быть, сыро сидеть в плесневелой затхлой темнице и как много он сегодня сделает. Он и вправду захотел принять какое-нибудь важное для Фив решение. Сегодня же он займется расследованием убийства Лая, Тиресий обманул его, возможно, следовало бы расправиться с ним; впрочем, его самого чуть было не превратили в такого же жалкого узника, и Эдип простит его – в честь легкости этого солнечного утра. Легкости – и тотчас же Эдип вспомнил темный проем окна, площадку и три фигуры на ней – свою собственную, раба и Тиресия, невесомую фигуру Тиресия, будто парящую над каменным полом, будто ничем к нему не притягиваемую, – обман зрения, испуганного отсутствием привычной тени. Подозрение тут же проникло в радостные мысли Эдипа: Тиресия не за что винить, он сказал правду, он никогда не лгал и не ошибался, он видит все, однако увиденное никогда не использует для своей выгоды. Да и что есть выгода Тиресия? Быть может, выгода заключается в молчании, выгода – в нищете и скитаниях, выгода – в пророчествах и слепоте? Я бы желал быть таким, каков он: зачем? Хотя бы для того, чтобы знать наверняка, кто я и что я должен делать.
– Ладно, – неожиданно громко произнес Эдип, строго взглянув на сыновей. – Никто из вас не знает и не может знать, зачем царь проводит все время в библиотеке. Никому из вас не дано понять, почему царь выслушивает нищего прорицателя. Вам остается лишь строить догадки и терпеть. Ступайте, сегодня вы получите от меня решение, ступайте и не сердите царя, царский гнев страшнее пены на губах умирающего от чумы, ступайте.
ты бы желал быть таким каков я ты бы желал но ты не будешь как я единственный способ стать мной это стать мной в действительности войти в мое тело избрать мой путь я напуган и измучен но нет ничего сладостней знания и даже любовь тебе никогда не даст той легкости никогда не оторвет тебя от земли никогда не поднимет тебя над чревом твоей матери и не освободит от мыслей о могиле лишь зрение рвущееся точно сильные стебли лиан сквозь траурную повязку я и сам хотел бы сделать тебя собой но я избегаю убийства только потому что оно разрушает строгую ткань существования оно проверчивает дыру в бытии дырявит бытие разрывает орнамент и нарушает упорядоченные повторения я не дам убить себя для того чтобы тебе было легче бедный мой царь стоящий по колено в горячей сукровице пашни играй играй моя арфа зови зови меня страждущий и великолепный
В залу вошел гонец, лицо его было медным от сочной дорожной пыли, одежда – в грязи и в копоти, но сквозь копоть и грязь Эдип смог разглядеть белую тунику, подшитую коринфской узорной тесьмой. Этот человек наверняка прибыл от коринфского царя Полиба. Торопливо поклонившись и с печалью скрестив ладони на груди, незнакомец сообщил, что Полиб умер.
В следующее же мгновение Эдип поднялся и, подойдя к гонцу, схватил его за плечи. Он будто не мог понять, что ему сообщили, он пытался вглядеться в лицо гонца, но черты его, искаженные усталостью, как бы ускользали от внезапно ослабевшего зрения Эдипа, который, силясь узнать незнакомца, уже разжал пальцы и сделал шаг назад. Теперь только Эдип заметил, что голова гонца – крупная, круглая – чисто выбрита, а небольшая неправильная ямка, венчающая темя, вымазана чем-то черным и густым, скорее всего, скорбным пеплом.
Решив, что фиванский правитель не понимает его, гонец снова повторил свою печальную весть – уже медленнее и разборчивее, выговаривая каждое слово, как бы объясняя нечто очень важное больному ребенку. Эдип вновь попятился, его руки сами собой поднялись и сдавили виски, ногти царапали кожу под волосами, но он ничего не ощущал, кроме сильного, мучительного сердцебиения. Он был полон этим жжением, он весь дрожал и трясся, и чем сильнее колотилось его сердце, тем явственней он осознавал, что вокруг него – пустота, прохладная пустота пространства, напоенного сегодня особенно густым и тошнотворным запахом тлена, и эта пустота все сильнее втягивала его в себя. Он замер, растопырив руки, как большой, раскачивающийся из стороны в сторону крест, и все предметы, до которых случайно дотрагивались его потные ладони, начинали светиться и переливаться пестрыми лучами, его кресло, его книги, испуганное лицо гонца, дивно яркий провал окна, заполненный солнцем и зеленью, в голове его кружилась, бешено клокотала одна-единственная мысль: оракул ошибался, оракул, привнесший в мою юность желчь избранности и сиротства, оракул, вливший в меня отраву скитаний; чтобы избежать убийства собственного отца, я повернул на дорогу, ведущую в Фивы – через кровавый Сфингион, я стал царем, победив Сфинкс, и вот, я был все время здесь, я не убивал Полиба, он умер, умер сам, только что я об этом узнал, и сейчас я болен – от счастья и от тоски, он умер и освободил меня от моей горестной судьбы.
*Спустя несколько дней Иокаста опять пришла ко мне. Как я ни вглядывалась в ее лицо, на нем не было ни единой морщинки, ни черточки, ни пятнышка, свидетельствовавших о сильных муках или бессоннице. Впрочем, я и сама знала: она глубоко спала все это время и теперь готова была убивать – каждого нерасторопного и перепуганного путника. Утром – на четырех ногах, днем – на двух, вечером – на трех, – так спрашивала она любого, кто поднимался на Сфингион, и я вторила ей, отчего голос ее становился глуше, будто бы доносился из огромной вазы. Нам нравилось пугать всех подряд – рабов, несущих поклажу на голых, скользких от пота спинах, фиванских аристократов, ступающих горделиво и размеренно по каменистой тропе, усталых солдат, возвращающихся домой из плена. И не было ни одного, который бы прошел мимо нас невредимым, все эти сильные тела летели вниз, разбиваясь о камни, их провожал взгляд великолепной Иокасты, фиванской царицы, переодетой в кровожадное чудовище Сфинкс. А я с восторгом и любовью наблюдала за ее горделивой фигурой, стоящей на краю обрыва.
Эдипу стало лучше лишь тогда, когда он открыл глаза и увидел Тиресия: склонившись, старик тихо покачивался над пропитанным неведомой влагой ложем царя, казалось, он спал – стоя, сохраняя столь неудобную позу лишь для того, чтобы изобразить волнение и заботу о больном. Воздух был свежим, запах тления чудесным образом улетучился, чувствительные ноздри Эдипа смогли уловить лишь легкое благоухание мятной мази.
Эдип глубоко вздохнул, и вдруг ему показалось, что вся тоска его жизни навалилась на него – откуда- то изнутри, так, как, должно быть, наваливается на роженицу рвущийся на свет из ее чрева младенец. Боль в сердце отпустила, но тут же ее место заняла боль иная, и сильнее этих новых страданий для Эдипа не было ничего. Вздохнув еще раз, он приподнялся на локте и попытался разобрать, где он находится. Это были его покои, здесь он не ночевал уже несколько лет, по привычке засыпая каждый вечер в библиотечном кресле. Сумерки скрадывали непривычные – ибо канувшие в прошлом, забытые – вещи, Эдип не дотрагивался до них и не разглядывал их, и теперь они представлялись ему новыми. Поначалу он даже решил, что странные предметы – глиняный умывальник, небольшой мраморный жертвенник с алебастровой статуэткой Аполлона и круглой широкой вазой для воскурений, этажерка для книг и комод черного дуба, – все это принес с собой Тиресий, настолько каждое темное очертание было сейчас ему чуждо и непонятно.
– Где я, старик, ответь мне, неужели я в своих собственных покоях, но тогда почему не узнаю я все, что когда-то было мне дорого?
– Ты угадал, о, царь. Но каждая вещь здесь мнится тебе незнакомой, поскольку и они, твои вещи, не в силах отныне узнать тебя, ты слишком изменился за последние дни. Вспомнил ли ты, что произошло с тобой недавно? Полиб умер, и тебе достался коринфский трон. О, царь, о великий царь Фив и Коринфа!
– Не называй меня так, я не испытываю ни радости, ни гордости за то, что стал дважды царем, я не буду править Коринфом, ведь я покинул его добровольно, ведь я стремился уйти подальше от отца своего, Полиба. И когда думаю: я – царь Фив… что-то колет в груди, мучает меня, жжется: то’ мне знак… Фивами я править не стану. Не ведаю, как объяснить мои сомнения и мою горечь, но, впрочем, ведь ты молчишь и не требуешь от меня никаких объяснений.
– Разве посмею я требовать что-либо от царя Эдипа! Ты мне не должен, и я не родственник тебе и не слуга! Я служу только Локсию, двусмысленному богу пророков, еще называют его Аполлоном. Но, думаю, ты знаком с ним, я вижу, и жертвенник в этой комнате есть, воскурим же в честь Аполлона, подсказчика твоего и моего покровителя, душистые листья лавра и кипариса. Будем надеяться, что жертвенные благовония помогут хотя бы паре несчастных избежать одинокой смерти от властвующей в твоих землях чумы!
локсий ты хочешь чтобы свершилось то что должно свершиться но я не в силах сказать правду которой владею отпусти меня с миром из фив пусть каждый идет по своему пути мой путь это путь издалека издалека и обратно по морю по суше и снова по морю покровитель фиванских царей их древний предок посейдон не позволит вернуться домой мне на любимый тобой плавучий остров астерию самый прекрасный и самый плодородный в архипелаге я не желаю раскрывать этому несчастному пока еще недоступную истину разве же должен служить я против воли разреши мне сдернуть повязку с полуслепых уже глаз отними у меня прорицательский дар но дай мне божественный удалиться ведь есть же рабы и свидетели и домочадцы эдип узнает то что должен узнать а меня отпусти умоляю и арфу возьми хотя к чему тебе арфа кифара стройна многострунна и так благородно звучит
Наутро Эдип встал и снова направился в библиотеку. За ним повсюду следовал Тиресий – спокойный, тихий, он шел всегда чуть позади царя, и его темная фигура придавала Эдипу уверенности в том, что он еще царь, что никто не посмеет напасть на него со спины, пока она прикрыта пугающим всех его подданных стариком. Он желал бы говорить с Тиресием – обо всем, что встречается ему, обо всем, что его окружает, но, одновременно, он не знал, о чем именно и следует ли рассчитывать на ответы прорицателя или необходимо, оглянувшись на прошлое, на собственное мудрое правление, вновь увериться в самом себе, даже если Креонт, Полиник и юный Этеокл охвачены самыми жестокими сомнениями. С этой поддержкой в лице Тиресия, подоспевшей так вовремя, хотя и, с другой стороны, так непоправимо запоздалой, Эдип ощущал себя ребенком, которому велели играть самому, а он, все еще не решаясь и не осознав собственную нежданную свободу, оглядывается на мать в надежде на благосклонный жест или ласковое приказание.
Войдя в библиотеку, Эдип изумленно замер: на полу, подстелив грубый кожаный плащ, спал вчерашний гонец, принесший известие о смерти Полиба.
– Этого человека следует разбудить, он может рассказать тебе нечто весьма важное, – еле слышно прошептал Тиресий.
*О моя Иокаста, я запомнила каждый твой сон! Тебе снились далекие острова, их было множество, и они перемещались по океану произвольно, хаотически меняясь между собой местами, так что никогда нельзя было точно определить, где они расположены и они ли это в действительности. Ты будто бы стояла на берегу одного из них и наблюдала за срывающимся полетом белых морских птиц, у птиц этих не было теней, ничто не притягивало их к земле, кроме их собственной воли и силы человеческой привычки. Поступь твоя была столь легка, что песок не скрипел под ногами и не хранил отпечатков твоих босых ступней, ты вглядывалась в даль и не видела ничего, кроме матового блеска воды и изменчивых небес, даже самое строгое знание о порядке вещей не дало бы тебе представления, где ты находишься и чего ждешь на этом родном, но словно бы давным-давно позабытом тобой берегу.
Ты закрывала глаза, а затем вновь открывала их, и вот уже весь пейзаж тебе представлялся плоским и наивным, как картинка из детской азбуки, волны переливались, птицы, точно нанизанные на невидимые проволоки, то взмывали вверх, то камнем устремлялись в море, да и твоя собственная фигура, светлая, почти призрачная, будто парила над берегом. Внезапно мнилось тебе, что кто-то на тебя смотрит, ты оглядывалась, и ощущение нарисованной действительности еще более охватывало тебя, бедная моя Иокаста, ты была уверена, что и сама нарисована, что являешься лишь деталью рисунка, разглядываемого незнакомцем с седыми кудрявыми волосами и глубоко посаженными синими глазами. Но то был обман. Какое же блаженство для меня было обманывать тебя!
– Давным-давно, – начал гонец, почтительно опустившись перед Эдипом на корточки и прикрыв свои покрасневшие после недолгого отдыха глаза, – я служил пастухом у царя Полиба и царицы Меропы. Каждую зиму пас я овец на склонах Киферона, трава там была невысокая, но густая, и на несколько месяцев овцы были обеспечены едой. Весной же я отгонял стада на север, бродил с ними по незнакомым местам и возвращался назад лишь осенью, чтобы, проведя пару дней в Коринфе, направиться к древним зимним пастбищам. Однажды я встретил фиванца, который тоже служил пастухом – у царя Лая и царицы Иокасты. Он нес какое-то животное, завернутое в свиной пузырь, животное очень маленькое, оно извивалось и тявкало, похоже было, что это щенок или кошка, но, когда фиванец развернул пузырь, я с ужасом обнаружил там плачущего новорожденного младенца. Ступни его были в крови, кто-то жестоко проткнул ему лодыжки железными прутьями, и несчастное дитя извивалось и дергало ножками, словно понимая, откуда идет боль, словно желая выдернуть прутья из тела. Фиванец сказал, что это сын Иокасты и Лая, что будто бы Лаю предсказал оракул умереть от рук собственного дитяти, и потому, как только царица родила, Лай изуродовал ножки своего сына и повелел его бросить в горах умирать. Мне стало жаль ребенка, я предложил отдать его мне. Я стал бы растить его в моей бедной пастушьей хижине, жизнь у меня была суровая, все время приходилось бродить с места на место, и если младенец не выдержит и умрет, то оплакивать его никто, кроме меня, не станет, значит, и не жаль его и никому он горя не причинит. Фиванец согласился, но просил, чтобы я сохранил все происшедшее между нами в тайне, а Лаю он скажет, что, дескать, выполнил твое приказание, о, царь, ребенок теперь в руках Аполлона спускается в Тартар или поднимается на Олимп, как избранный, – на то воля богов.
У Полиба и Меропы не было детей. Увидав весной подросшего уже младенца, они, зная, что у меня нет жены, спросили, чей он. Я ответил, что обнаружил его среди белесых камней и сочной травы на Кифероне. И царь, и царица пожелали воспитать найденыша как собственного сына, а я и рад был, потому что теперь у мальчика появились отец и мать, богатство, игрушки, а меня назначили гонцом, с тех пор я езжу в самые дальние страны с посланиями и вестями, и при коринфском дворце никогда не оставался дольше, чем на одну ночь, но и в Фивы меня никогда еще не отправляли, первый раз приехал сюда. Я доволен, что ты, Эдип, жив и здоров, что ходишь сам, значит, ноги твои тогда хорошо зажили и не беспокоят тебя более, нежели любого другого. Однако, я вижу, ты едва передвигаешь ими…
Так как передать мне Меропе, той, что матерью для тебя была все эти годы?
благодарю тебя мой грозный локсий что оставил мне право выбирать и не отнял у меня за это право ничего из своих же давних даров впрочем нет погрешу против истины если забуду имя моей покровительницы всеведущей геры ведь она открыла мне путь на твердую землю она подсказала мне как найти тебя о аполлон необъяснимый она сообщила мне об астерии оказалось что рядом мы находились всю жизнь вместе росли вместе мужали томились по двусмысленности островов и материковой самоуверенности плавучий остров астерия родина наша там появились и там мы исчезнем когда-нибудь исчезновение это окрашено будет кровью и винами разве не родственник эдипа фиванского царя разве не вакх освятит нашу радость ухода разве не он подарил мне заморскую арфу разве не он насылает на женщин безумие если они позабудут его иокаста пой вместе со мной спасение близко
Выслушав нехитрый рассказ гонца, Эдип задумался. Тиресий все еще стоял за ним, молчаливо поворачивая голову то вправо, то влево, казалось, он старается уловить последние слова говорившего, точно они не растворились в постепенно накаляющемся воздухе библиотеки, но повисли под сводчатым потолком, в прохладной тени, и сейчас вяло опускались на головы царя и прорицателя, как засохшие листья, оторванные от осенних ветвей.
Коринфянин, очевидно, всю ночь провел среди книг, сюда мог войти кто угодно, Полиник, Креонт; заплатив гонцу, легко было заставить его солгать, когда Эдип придет в себя. Тем более смущала та легкость, с которой гонец поведал о происшествиях полувековой давности, Эдипу это казалось чрезвычайно подозрительным. Но было в рассказе коринфянина и нечто, дававшее Эдипу надежду, за что он мог бы зацепиться. Строго взглянув на гонца, царь потребовал повторить рассказ.
– Давным-давно, – вновь заговорил гонец, и Тиресий, приложив ладони к ушам и слегка сдвинув свою повязку, чтобы она не закрывала слуховые отверстия, одобрительно кивал после каждой услышанной фразы.
*Однажды взошел на Сфингион юноша, взгляд его был тревожен и суров. Дорожная туника его перепачкалась потом и пылью, на голове среди черных кудрей виднелась запекшаяся рана, похожая на след сильного удара. Тот, кто судьбой наречен в мужья Иокасте, не может погибнуть от ядовитой сумятицы, царящей в его благородной душе.
Твой сын и твой будущий супруг Эдип, утром убивший в дорожной драке царственного и жестокого Лая, вечером по моему наущенью нашел ответ на твою загадку, милая Иокаста, ты спрашивала о человеке. Глядя на него сквозь узкие прорези в глиняной полумаске, ты медленно приходила в себя, тело твое дрожало, и я не знала, как тебя успокоить. В то же мгновение Эдип шагнул к обрыву и взглянул на Фивы, и кровь в его жилах застыла, он стал задумчив, словно все, только что происшедшее с ним – и встреча со Сфинкс, и та смертельная опасность, которой он едва избежал, – словно все это мгновенно кануло под мутной толщей времени, словно все это случилось очень давно, с кем-то другим. Помню, как он пробормотал: в моем случае, пожалуй, наоборот. Утром на трех – помню детскую свою тросточку, днем на двух, вечером – на четырех, я уверен, что с такими ступнями я стану передвигаться вскорости лишь на четвереньках, если не займу какой-нибудь важный государственный пост и меня не будут таскать на носилках под балдахином.
Пока он так рассуждал, я сорвала с Иокасты платье из перьев, чалму из змеиной кожи и глиняную полумаску, оставив ужасное облачение на Сфингионе – в знак победы Эдипа над Сфинкс, – я проводила царицу тайной тропой во дворец, где она, изможденная, легла на свое ложе, чтобы уже не вставать с него никогда.
На следующий день стражники втолкнули в библиотеку фиванского пастуха. В отличие от коринфянина, выглядевшего хотя и немолодым, но статным и сильным, пастух Эдипа был дряхл. Он брел, опираясь на палку, искривленную многочисленными сучками; для того, чтобы лучше видеть, ему приходилось постоянно щурить густо-черные – еще чернее на бледном морщинистом лице – глаза, кожа его была слишком белой для человека, всю жизнь проведшего в горах под невыносимыми солнечными лучами, которые на вершинах жгли особенно жестоко. Подбородок пастуха трясся, и вместе с ним тряслась встрепанная жидкая борода, доходившая, впрочем, старику до самого пояса. Увидев Эдипа, он бросился на колени и, прижавшись дряблой щекой к каменному полу, запричитал:
– Пощади, о, царь, своего верного слугу! Неведомо мне ничего ни о мальчике, ни о жестокости Иокастина мужа, неведомо мне ничего! Эдипом тебя нарекли, так разве же то имя фиванское? Разве же это не коринфянское имя, о царь?
Эдип внимательно смотрел на рыдающего от ужаса старика. Откуда тот узнал, о чем именно желает царь с ним говорить? Стало быть, его предупредили, что речь пойдет о сыне Иокасты и Лая, – но кто? Эдип оглянулся: за ним по-прежнему стоял Тиресий, лицо его было неподвижно. Начни Эдип сейчас вспоминать, как повстречался ему знатный фиванец в окружении слуг и рабов – будучи чем-то рассержен, он потребовал, чтобы Эдип, тогда еще юноша, полный горечи и бахвальства, уступил дорогу ему и его свите, – начни Эдип сейчас вспоминать, как спустя несколько мгновений и злобный фиванец, ударивший Эдипа жезлом по голове, и его слуги были убиты, – начни Эдип сейчас вспоминать все это – и перед его внутренним взором встанет лишь раскаленная рыжая почва да несколько чахлых деревьев, растущих у подножия Сфингиона, через который лежал путь на Фивы… Эдип с усилием вызывал в себе ощущение той невозможной жары, боли в темени от влажной еще раны, тоску по родителям, вдруг охватившее его озлобление при виде знаменитой горы, где, по рассказам, жила кровожадная Сфинкс, во что сам Эдип не верил, – но не чувствовал ничего. Убитый на дороге фиванец оказался царем Лаем, супругом уснувшей – навечно – Иокасты, отцом Эдипа. При мысли об этом Эдипа охватывала тошнота, он едва мог бороться с отвращением к себе самому, к Лаю, к Фивам, к Ио- касте. Разве же я не прав в своей ненависти? Оракул не обманул, все было известно заранее, чего же ты хочешь, о недостойный преемник Лая? Нет, не преемник я черствости, не преемник я страха перед собственной судьбой. Зачем же тогда ненавидеть? Послушай, о, царь, в последний раз послушай, вот то, что всегда называл ты истиной! Ты – жертва обмана лишь потому, что не желал смотреть на действительного себя самого! Ты – жертва обмана лишь потому, что не желал смотреть на действительную Иокасту!
– Послушай, старик, успокойся, – начал Эдип, обратившись к пастуху. – Тебе здесь никто не причинит никаких страданий. Ты просто расскажешь мне, царю Фив, как все было, и тебя тотчас же отпустят к твоим овцам, награды дадут и кубок браги, благоуханного сфинксова молока. Итак, Эдип тебя слушает, не утаивай ни черточки, ни какой-либо мелочи, Эдип тебя слушает, а с ним и Тиресий, прорицатель, жрец Аполлона. И всякую ложь он заметит и знак мне тотчас же подаст…
*За все эти годы я поняла наконец, что удел богов – действовать и молчать. Мы не должны любить людей, мы не должны показываться им или становиться ими. Наши существования необходимо отъединить, мы’ лишь можем знать о людях, они же – только подозревать о богах. Думая об Ио- касте, я постоянно словно бы вглядываюсь в маленькое зеркальце: вижу каждое ее движение, каждую ее мысль, кроме того, я вижу все, что видит она. Я выбрала ее орудием мести, но она даже не знает в действительности, кому она мстит, за что и кто заставляет ее это делать. Удивительное совпадение заключается лишь в том, что обе мы желаем наказать одного и того же человека, это Лай, царь Фив, супруг Иокасты. Много лет назад он похитил Хрисиппа, сына Пелопса, славного правителя Элиды, похитил и овладел им. После этого мальчик покончил с собой, а Пелопс взмолился Гере, чтобы она отомстила жестокому Лаю.
Я никому не видна, и то, что я совершаю, можно считать лишь случайностью, которая приносит одному облегчение, а в другого, напротив, вселяет ужас. Одна лишь моя Иокаста будет прощена, поскольку нет тяжелее греха, чем умертвить младенца, оторвав его от истекающей тоской материнской груди, поскольку я и сама не могу точно решить, кто из нас был жертвой, а кто играл роль коварной Сфинкс, ведь никакой Сфинкс никогда не встречала всеведущая царица Олимпа.
* Эдип из последних сил шагал по розовому гравию во дворец. Длительное разглядывание лица Иокасты ничего ему не дало: оно оставалось для него неизменно прекрасным, не похожим ни на одно из тех, которые довелось ему видеть за всю жизнь, и тем более не имевшим ничего общего с его собственным, постаревшим и обрюзгшим за последние недели. Змеящаяся жажда проникала все глубже в его раскаленное чрево, и хотя дорога здесь шла под гору, ноги его все труднее ступали, все более неподъемными казались ему распухшие ступни. Споткнувшись, Эдип упал на колени и выставил вперед горячие ладони, чтобы не разбить голову. Острые камешки тут же врезались в потную кожу, он застонал и неловко попытался приподняться, однако ему не удалось, и он так и остался стоять на четвереньках, лицом к желтой стене дворца. Перед его глазами зарябили увеличенные жаром и слабостью черные овальные дырочки, испещрявшие туф, формой своей напоминавшие деревянные лекала архитектора, – он видел их еще в детстве, когда Полиб затеял постройку дворца. Эдипу, тогда младенцу, разрешено было поиграть с ними. Лекала плавно поблескивали в пухлых детских ладошках, черные дырочки в стене нестерпимо мелькали и вдавливались в ослепленные солнечным днем зрачки, Эдип почувствовал тошноту. Он застыл, по-собачьи вжавшись в землю, смежив набрякшие от бессонницы веки, уткнувшись носом в редкую траву, – тонкие листья ее, точно зеленые брызги, окаймляли дорогу. Ему представлялось, что он сидит в библиотеке, а на коленях у него покоится растрепанный том еще недавно любимых им «Свидетельств путешественников и паломников» – огромная книга в кожаном переплете, оправленном в медь и украшенном гранатами и топазами, мелкими, покалывающими руки читающего. Эдип понимал, что его ощущение – мираж, представление, вызванное зноем и падением, и тотчас же пытался открыть глаза и взглянуть вокруг, но желтое, зеленое и розовое беспощадно мешались, закручивались, превращаясь в расплывчатые водяные блики, и снова перед ним была книга, тень библиотеки, нещадно накалившееся окно. Когда бы он мог понять, что происходит, почему его ноги – ступни, лодыжки, икры – потеряли всякую чувствительность, почему глаза его отказываются воспринимать окружающее, все звуки уходят точеной округлой струей в некую бездонную воронку, он слышит лишь тишину, выраженную беззвучными, но сильными ударами в облепленной песком груди, когда бы можно было выяснить, почему так долго никто не подходит к нему, куда подевались воины Креонта, дети, Тиресий. Прорицатель будто бы отстал от него, когда Эдип выходил из башни Иокасты, я помню, он бормотал что-то про обратные перемещения внутри улиточной раковины; неужели человека успокаивает кружение справа налево, тогда как обратное пугает своей неотвратимой разматываемостью и оголением? Без Тире- сия я не в силах принимать решения, без него на меня наваливается одиночество, впрочем, царь ведь должен быть одинок, и все эти годы я был царем и не знал одиночества в своих мыслях, а теперь я, как никогда, один, единый, целый и, казалось бы, самодостаточный, и все же мне требуется тот, кто видит больше армии, больше детей, больше царства, как отныне мне стало ясно, что я не царь, я перестал быть царем, я стою на четвереньках и вдыхаю пыль, бесконечно осеняющую фундамент моего жилища, это даже не окна, даже не лестницы, даже не ложе, даже не жертвенник, это самая обыкновенная стопа, приступ и подступ, я скатываюсь в ничто, назад, во чрево, породившее меня. Однако радости моей нет предела, ведь именно сейчас я очищаюсь от божественной скверны, к чему мне Олимп, когда меня ждут непознанные воды Стикса, стало быть, я воссоздаю собственную память, бывшую со мной еще до моего появления на свет, носившую меня терпеливей, чем это делала моя мать, моя Иокаста.
Медленно на спину Эдипа, затем на темя и уже чуть позже на гравий возле самого его лица надвинулась прохлада, это была тень подошедшего сзади человека, и царю стало легче. Он открыл глаза, но по- прежнему ничего не мог различить среди пестрых наслоений действительности, ему снова пришлось смежить веки. Спустя несколько мгновений он уже оказался на своем ложе в темных покоях, вокруг него сквозь каменную свежесть струился тонкий аромат хвойного тления, помнится, Тиресий воскурил ветви кипариса на маленьком домашнем жертвеннике Аполлона, и этот дымок, проникая в забитые пылью и песком ноздри Эдипа, виясь перед его все еще ослепленными неподвижными зрачками, возвращал его из придуманной болезненным воображением библиотеки в то самое место, где вправду находилось его отяжелевшее непослушное тело.
Если бы знать заранее, глядя на крошечного ребенка, что произойдет с ним, когда вырастет он и возмужает, когда переливчатые чужестранные песни вытянут из него, точно внутренности из раздавленного насекомого, всю его душу, подчиняя все мысли его стремлению умчаться прочь, улететь в ранящую так глубоко синеву незнакомых небес, если бы знать все это, если бы слушать каждый свой сон и каждое, пусть самое нелепое предчувствие, предмыслие, предсуществование, тогда бы можно было все изменить, можно было бы приносить жертвы тем богам, которые особенно пристально следят за твоим возмужанием, а той Мойре, что однажды натянет твою нить, истоньшая ее до предела, возжечь непременный костер или хотя бы факел, хотя бы лучину, да и едва заметный лунный свет посвятить бы однажды той Мойре, пусть прядет она сильными своими пальцами с нежностью и опаской, успеть бы то, что необходимо! Разве бы обезумели те фиванки, когда бы поклонялись они Вакху? Разве бы Лай способен был на предательство, если бы знал он о Герином гневе? А жители архипелага – они непременно бы остановили свои острова в немыслимом их верчении, вознеси они вовремя молитвы и песнопения и зарежь они дюжину тонкорунных барашков в честь Посейдона?
И все же почему мне приходит в голову, что они несчастны, плавучие островитяне? Почему все, что чуждо, мне кажется безобразным? Разве нужно ослепнуть, оглохнуть и потерять корону, состариться, узнать, наконец, ужасную правду, чтобы возжаждать исчезновения?
Не будь у меня моей свинцовой, распухающей к вечеру, набухающей от невзгод тени, я был бы легок и быстр, и ноги мои мелькали бы средь зарослей и камней, как ноги воинственного Ареса, однако я не желал бы мчаться, как он, по крови и слезам, но мечтал лететь над землей и водой, над безжизненными далями, косматыми лесами и пастбищами прочь, прочь из страны моего несчастья, прочь от Иокастина чрева, к возлюбленной моей Иокасте.
*Размышляя над тем, как получилось у меня подняться над головами людей и богов, я неизменно прихожу к выводу, что все это произошло как бы без моего участия. Если бы не предсказание оракула – то, самое первое в этой истории, если бы Лаю не стало известно, что падет он от руки собственного сына, то и не удалось бы мне выразиться в прекрасном и кровожадном образе Сфинкс, не удалось бы мне сверкать среди смертных своей мудростью и неизбежностью. Не пожелай Олимп женить Эдипа на его родной матери, он вполне мог бы пасть жертвой – одной из многочисленных жертв – Сфинкс. Ведь встреча Эдипа и Сфинкс уже случилась после того, как Эдип умертвил – в случайной дорожной драке – Лая, своего отца. Однако, раз выпало ему на долю стать правителем Фив и мужем Иокасты, встреться ему на пути хотя бы и сотня Сфинкс и иных каких чудищ, он непременно бы выбрался из их цепких мертвящих лап целым и невредимым – просто хотя бы потому, что судьба его заранее была предопределена. Только такой человек, как Эдип, олицетворявший возмездие и предопределенность, служивший одновременно и жертвой, и палачом, не знающим ничего о суде над жестокостью и распутством, не будучи посвященным в истинное положение вещей, – только такой человек и был способен на молниеносную разгадку ужасной тайны Сфинкс.
Когда я размышляю об этом, я понимаю, что ни капли моей воли не было в том, что я помогала Иокасте-Сфинкс и в том, что я подсказала Эдипу слово «человек». Судьба богов тоже предопределена, и возможность выбора, и так называемая воля богов – все есть химеры и снижение понимания пути, ведь путь, судьба – нечто большее, чем кажется каждой песчинке в океане, нет, не в океане, но в капле, единственной темной капле Стикса.
Для того чтобы открыть ворота, на этот раз понадобилась сила одновременно трех стражников. Тиресий чувствовал, как их загорелые тела напряглись, как натянулись мускулы под их влажной кожей, и тотчас же он услышал скрежет и скрип давно не смазываемого, изъеденного гарью металла. В лицо старика пахнуло густым гвоздичным маслом, которым пользовались военные, вынужденные простаивать почти целый день под нещадным солнцем; затем, наверное, слишком даже резко, запах этот сменился другим, острым, отвратительным запахом тления и дыма, и Тиресий понял, что ворота уже открыты, он волен покинуть Фивы навсегда.
Старик шагал по дороге и повсюду слышал стоны и погребальное пение – кому-то еще доставало храбрости и терпения хоронить мертвых возле самой обочины, по несколько трупов в день. Он шел не спеша, то и дело останавливаясь и по-птичьи поворачивая голову из стороны в сторону. Некоторые больные подползали к Тиресию и пытались просить его о чем-либо: о еде ли, о целебных травах… Узнав его, они кричали вослед его удалявшейся спине – ответь, Тиресий, долго ли осталось мне жить? Но Тиресий молчал и лишь качал головой. Мысленно он все еще блуждал в желтом дворце Эдипа, спускаясь по бесконечным лестницам и мучительно подсчитывая количество поворотов, чтобы – на всякий случай – не ошибиться. Эдип опять занемог, но его болезнь давала возможность ему как следует поразмыслить над происходящим, осознать всю нелепость своего существования, очиститься от нее и бежать как можно скорее, оставив трон, Фивы, умирающих подданных и спящую Иокасту, бежать за Тиресием туда, где всякий смертный обретает бессмертие, лишаясь собственной тени.
я лишенный тени легкий как бормотание задремавшего пастуха могу сам служить тенью безмолвной тенью царю и даже жрецу согласился бы но нет покидаю я фивы навеки ведь царь уже больше не царь он теряет влагу и волю он станет вскорости сух точно щепка я был рядом с ним и больше не буду не царь он не царь он сам признается в том постоянно себе себе а значит и мне не утаит от меня и тайны рожденья и смерти и тайны венчающей короной печали одних лишь царей жрецов и поэтов не царь он и не поэт и жрецом вряд ли он станет однако жрецом он мог бы стать ведь отныне теряет он память по капле по струйке и силы во имя того чтобы легкость неизведанную обрести теряет он тень и я вижу как вскоре попутчиком будет моим попутчиком стариком целуйте ему шишковатые пальцы то корни вплетавшие в книгу весь сок его мысли то ветви в которых сидела возлюбленная его иокаста целуйте и он посвятит вас во сфинксы и он наделит вас загадкой которой разгадка вы сами я жду тебя бедный старик отзовись о эдип отзовись
Эдип приоткрыл глаза: сейчас он ясно понимал, что находится в своих покоях, но различал пока лишь темное и светлое, будто в наказание за слишком большую чувствительность к недавно поразившей его яркости дня. Мимо него скользнула какая-то тень, ему почудилось, что это Тиресий, и он позвал его. Однако это был один из придворных рабов, он принес небольшой кувшин с водой – на тот случай, если царь захочет пить. Кланяясь и почтительно опуская глаза в землю, раб спросил, как здоровье царя Эдипа. Эдип в ответ лишь что-то пробормотал и, внезапно ощутив вокруг себя странную пустоту, затих. Послышались бодрые шаги, и к Эдипу вошел Креонт, якобы узнавший, что царь вновь обрел способность говорить и мыслить.
Посмотрев на Креонта, Эдип с удивлением заметил, что отныне ему безразлично всякое слово и всякая попытка главнокомандующего в чем-либо убедить царя, ему также стало все равно, что происходит на площади перед дворцом, чье тело покоится в самой высокой башне дворца, много ли людей умирает в страданиях за стенами Фив. Я больше не царь, несомненно, Тиресий предупреждал меня о короне, и вот я уже отрекаюсь, я потерял свое царство, и мне не жаль и не больно.
*Одинокая Гера стоит на прежнем своем Сфингионе. Одинокая Гера оглядывает окрестности и предается мечтаниям. Моя Иокаста, поверь, что давно ты стала центром Вселенной, словно мать наша, Гея. Вокруг тебя движутся все: и большие и малые звезды, и Солнце, увенчанное искрами твоих истлевающих богатств. И я среди всех, – однако я ощущаю свою отстраненность и двойственность, я среди всех и вроде бы нет, я одинока. И это мне позволяет рассуждать о тебе, моя Иокаста, я убеждена, что ты будто водоворот, затягивающий в себя события, превращающий время в невиданную условность, мы все по твоей милости как бы застыли в тугих маслянистых волнах подземной реки, и прошлое для нас становится тождественным будущему.
Все воедино сплелось. Посейдон ли родил Агенора, основателя Фив, или только даст ему жизнь? А Семела, распутница, став соблазнять Громовержца, уже носит во чреве дитятю, веселого Вакха, деда Лая, или тоскует в надежде на Зевсовы грозовые объятья? Лай ли это ласкает тебя, Иокаста, в медовых потьмах, или сын твой Эдип, или я сжимаю чело тебе кожей змеиной? Все слилось, повернуло все вспять, закрутилось, связалось!
На следующий день Эдип призвал к себе своего младшего сына, Этеокла. Юноша был усажен возле отцовского ложа, в руки ему настойчиво дали любимую книгу Эдипа, и тот должен был вслух читать до самого вечера.
«…множество мелких островов, число сочетаний которых бесконечно…
…поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени.
…слепцы по необъяснимым причинам продолжают хорошо видеть, а глухие обладают недюжинным слухом…»
И лиловые в закатных отблесках волны, и бесшумный песок под легкими босыми ступнями, и непременно острый запах гиацинтовых соцветий, и кипарисовая роща, оглашаемая предвечерним птичьим клекотом, и светлая, будто прозрачная трава, не хранящая в себе ни единой темной черточки, ни малейшего сгусточка надвигающихся сумерек, – все это представлялось Эдипу во время чтения. Этеокл читал бесстрастным голосом, видно было, что содержание книги не увлекает его, и он выполняет скучную обязанность перед больным отцом. Подумать только: и это мой сын, ведь это дважды моя кровь, это наивысшее умножение моей крови на самое себя, Этеокл, мой сын и мой брат одновременно, проклятый ребенок, осужденный на вечную тоску по власти! Если бы не все эти пастухи и прорицатели, если бы не моровая язва, если бы не разверзнувшиеся в одночасье передо мной и моими подданными ворота Тартара, – разве бы мог я поверить, что я – подкидыш в доме Полиба и Меропы? Несхожесть – свойство, которое венчает глубочайшую привязанность между отцом и сыном, несхожести не надо бояться, но следует ею наслаждаться, ведь, разглядывая двух совершенно различных людей, можно прийти к удивительным заключениям о многосторонности мира и переменчивости всего сущего. Что со мной? – кажется, раздражение покидает меня, покидают меня боль и чувство – одно из самых ужасных – вины. Я едва заметно приподнимаюсь над своим ложем и вьюсь, и плаваю в струях божественных воскурений, неужели солнечный жар поразил меня столь жестоко? Неужели ноги мои отказали мне навсегда?..
– Отец, ты не слушаешь меня, что с тобой? Напрасно ли я читаю эту книгу?
Этеокл приподнялся и с трудом захлопнул пухлый том. Эдип все еще был погружен в свои странные новые ощущения и молчал, чем только больше раздражил Этеокла. Царевич подошел к отцовскому ложу и наклонился над Эдипом. Глаза Эдипа были прикрыты, лицо сохраняло выражение внутреннего покоя и даже – так показалось юноше – блаженства. Этеокл протянул руку и дотронулся до смуглой щеки Эдипа, и ему вдруг почудилось, что отец уже умер, что лицо у него влажное и холодное, точно у покойника.
– Клянусь богами! – вскричал Этеокл, Эдип медленно разлепил веки и окинул мутным взором сына, закрытую книгу, сумеречные углы своих прохладных покоев. – Я так испугался, отец, мне мерещилось, что… я не знаю, зачем я читал эту книгу, ведь ты не слушал! А мне… мне было не очень интересно читать ее, – залепетал испуганный Этеокл. Эдип опять прикрыл глаза – теперь уже в знак понимания.
И тогда Этеокл обнаружил, что он вовсе не наклоняется над отцом, хотя расстояние между их лицами не изменилось, отец продолжал лежать, но как-то вроде выше, чем раньше. Этеокл придвинулся ближе и увидел, что голова Эдипа парит высоко над подушкой. Тогда он в ужасе сдернул с отца царское покрывало из золотистого шелка и отпрянул. Эдип покоился в прежней расслабленной позе – на воздухе, высоко над ложем.
*Ты по-прежнему вглядываешься в даль, и горизонт уже представляется тебе узкой-узкой щелью, тебе хочется разъять небо и море и проникнуть в образовавшуюся сверкающую пустоту, чудом врывающуюся сквозь гигантские пространства волн внутрь твоей груди. В своем желании ты уже не замечаешь, что делаешь, пальцы твоих перекрещенных рук сжимают озябшие плечи, ниже, ниже. Ты приходишь в себя лишь тогда, когда на песок падают тяжелые аметистовые бусины, – катятся и подскакивают.
Я вижу, как ты устало опускаешься на колени, погружая руки в песок, и начинаешь в отчаянии собирать непослушные розоватые шарики, их полированная поверхность сверкает и отражает оранжевые блики заката и темную зелень моря, светлое платье и еще кого-то, мелькнувшего за твоей спиной, метнувшегося и растворившегося в предвечерних сумерках. Ты останавливаешься, мысли твои замерли вместе с твоим телом: ты здесь уже не одна.
Эдип парил над собственной простыней: весь вечер он был один в своих покоях. Он знал: Этеокл побежал разыскивать Креонта, они позвали с собой и Полиника и уже долго советуются, не ведая, как поступить с летающим царем. В то же время пришел один из воинов и доложил генералу, что слепой старик, все эти дни сопровождавший царя, куда-то пропал, стражники, охранявшие ворота, ведут себя необъяснимо, они сидят на корточках – словно молятся – и на все расспросы лишь качают головами, щурясь в ярком свете факелов. Их лица мрачны и полупрозрачны, всем, кто на них смотрит, кажется, будто они превратились в собственные тени. Креонт и царевичи решили было послать вдогонку Тиресию пару всадников, но затем передумали: к чему, если он и так ушел, если он больше не станет вмешиваться в правление государством, влияя самым подавляющим образом на царя и на придворных? Однако что делать с Эдипом, эти трое еще не решили.
Эдип внезапно понял, что ему удается мысленно входить в каждую залу дворца и подслушивать разговоры, которые ведут рабы и кухарки. Он наблюдал за своими сыновьями и Креонтом: собравшись в его библиотеке на тайный совет, они обсуждали, как лучше объявить Эдипа – умершим ли? умалишенным? бежавшим? – неспособным в любом случае более править Фивами, и под этим предлогом передать власть… Здесь все трое стали спорить, их слова Эдип различал достаточно ясно, но они не вызывали в нем никаких чувств, ему вдруг стало безразлично, о чем они договорятся, и он – все так же, пользуясь каким-то случайно проснувшимся в нем виденьем, покинул библиотеку и направился в другие покои дворца. Он заглянул в тронную залу, где отчего-то горел один-единственный факел, но никого не было, и пламя гулко шипело, будто таким образом откликаясь на пристальный взгляд отсутствующего Эдипа. Он незримо проник в галерею, ведущую к башне Иокасты, проход был непривычно тих и темен, но ему все-таки довелось различить задремавшего между колоннами стражника, – очевидно, поставленного на пост Креонтом. Дольше всего Эдип пребывал в башне Иокасты – он не был в состоянии угадать, сколько сможет так бездвижно висеть в воздухе и когда он наконец увидит свою жену – свою мать. Впрочем, наверное, уже никогда. Он завороженно всматривался в ее лицо, надеясь найти в нем черты той женщины, которую так любил, но не находил их. Он окидывал безучастным взглядом тонкие складки кисеи, скрывавшие ее желтоватую кожу, – на этот раз она представлялась ему не янтарной, но восковой, кожа его матери была кожей старухи – сухой и пожухлой. И безмерно долго он любовался бликами, отбрасываемыми серебряными пряжками на свежей одежде царицы. Эти пряжки сияли нестерпимо, но он принуждал себя не моргать и словно бы впитывать белесый блеск – до тех пор, пока глазам не станет больно, а затем в изможении смежил веки и опять очутился в своих покоях. Как только ему удастся встать на ноги, он тотчас отправится прочь из дворца, прочь из Фив, чтобы догнать Тиресия и уже не отставать от него. Он наденет точно такую же повязку, как и у Тиресия, он завяжет себе глаза, чтобы уже больше не видеть того, что он видел – всю свою жизнь, чтобы наслаждаться только воображаемыми картинами – шипением факела, темнотой галерей, блеском пряжек на женской одежде, – так как воображаемые картины отныне он считает единственно правдивыми… Тиресий! Вероятно, только Тиресий знает, где находится плавучий архипелаг, вероятно, только Тиресий сумеет привести Эдипа туда, на родину Аполлона, или, как называл его старик, Локсия, двусмысленного бога. А Фивы? Разве же они не спасутся от жестокого мора? Разве же не оставит чума его отныне нелюбимый город? Город Лая, его отца, его соперника, его убийцы, его жертвы?
ты найдешь меня ведь и я не стану прятаться я лишь притаюсь за древним дубом корявым и сильным жертвенником локсию притаюсь в ожидании тебя и ты не замедлишь прийти небо утонет в серой глухоте туч из которых посыплются белые ледяные хлопья но мы не испугаемся бояться нам нечего мы лишь вспомним что они называются снегом нам будет весело старик окликнешь ты меня я не выдержу дольше и меня будет разрывать изнутри невиданное ликование от встречи с тобой но ты слишком слаб старик отвечу я выйдя навстречу ты слишком слаб твой лоб ледяной и влажный будто ты уже умер я и вправду умер ответишь ты я умер а перед собой ты видишь не меня но лишь мое давнее желание ухода лишь мою жажду спокойствия и мудрости ты способен мне дать и то и другое и третье и вот я здесь ты ждал меня да соглашусь я без обиняков да и в этом согласии будет заключено все о чем мечтал царь но что доступно было только самому эдипу я поведаю тебе о том что твое виденье есть не что иное как подлинное зрение и протяну тебе черную повязку точно такую же как и у меня самого остаток ночи мы проведем возле костра ты спящий новым глубоким сном я бодрствующий вглядывающийся в черную чащу застывшую за твоим доверчивым затылком непривычного к уходу человека
Когда Эдип проснулся, была ночь. Он сел, спустив ноги со своего ложа, но, вместо того чтобы ощутить неприветливую прохладу мраморного пола, его неожиданно окрепшие ступни скользнули по чему-то теплому и податливому. Наклонившись, он понял, что стоит над полом – и как граница, как разделительная черта между его ногами и блеклыми прожилками камня искрится, трепещет прозрачный слой воздуха, не затемненный тенью и никак не сминаемый отныне невесомым его телом. Мягко и легко пройдя по комнате, Эдип остановился и взглянул вокруг. Сейчас он был совершенно уверен, что все, увиденное им, было ему незнакомо. Не под давлением мучительной лихорадки, последние дни помутившей его рассудок, не под расплавляющим все очертания дыханием жары, не под пугающими заклинаниями усталых жрецов – все окружающее изменилось по какой-то непонятной ему причине, но единственным, доподлинно известным ему было то, что оно действительно изменилось – внезапно и бесповоротно. Это уже были не его покои, поскольку стены здесь закруглялись, точно бока глиняного сосуда, углы бесследно исчезли, а окно, еще недавно бывшее квадратным, как и все окна во дворце фиванских правителей, теперь изогнулось и формой своей напоминало узкую продолговатую арку. Вместо обычной решетки его закрывала прозрачная твердая пленка, похожая на искусно отшлифованный кристалл, впрочем, украшенная пестрым орнаментом, в центре которого, среди разноцветных треугольников и кружков, была нарисована печальная женская фигура – Иокаста? – держащая в руках уснувшего дитятю – Эдипа? – оба они, и мать, и ребенок, сидели верхом на осле с огромными карими глазами, подходящими скорее корове; осла того вел старик, лицо его было морщинисто и измученно, Эдипу показалось, что это лицо фиванского пастуха. Эдип подошел к окну и дотронулся до него. На ощупь картинка была ледяной – такой удивительно ледяной, что Эдип быстро отдернул от нее палец и долго дышал на него, отогревая. Осел! Обернувшись, Эдип увидел, что ложе, на котором он только что спал, покрыто серовато-бурой шкурой. Приглядевшись, он понял, то была шкура осла – того самого, на котором Креонт вернулся из Дельф, принеся Эдипу весть, что моровую язву, разразившуюся в его царстве, можно победить лишь узнав имя убийцы Лая, убийцы, уже двадцать лет безнаказанно живущего в Фивах, живущего и не ведающего отмщенья, узнав его имя и изгнав его прочь, в чужие земли. Эта шкура – Эдип сам велел ее не сжигать – хранила на себе карту: составленная неизвестным путешественником, такая карта, в точности отображавшая действительное расположение фиванских земель и соседствующих с ними, а также и неведомых Эдипу царств, городов и островов; карта помогла бы ему в поисках плавучего архипелага, о котором он читал с такой жаждой в своей излюбленной книге.
Наклонившись над шкурой, Эдип снова нашел и Фивы, и Коринф, нашел он и морской берег, и горы и долго сидел, разглядывая каждый изгиб и каждую точку на карте, сидел, пока шкура не окрасилась, не заиграла цветными бликами, скользнувшими сперва по округлым стенам и упавшими затем на ложе – через странный орнамент в окне, скрывавший от бессонных глаз Эдипа наступающий рассвет.
На шкуре отчетливо выделялось странное рыжее пятно – в самой середине проплешины, принятой им за Фивы, и из этого пятна, означавшего, без сомнения, его собственный, Эдипа, дворец, вилась тонкая, будто начерченная лезвием клинка, изогнутая линия, бывшая, конечно же, дорогой, по которой Эдипу следовало идти – в направлении моря.
Не ведая как, Эдип выбрался из сложного и чужого ему здания – то ли храма, то ли дворца. Это был не его дворец, не тот фиванский дворец, чьи коридоры и галереи за долгие годы он выучил наизусть. Здесь ему приходилось бесчисленное множество раз поворачивать, но перед тем останавливаться, прислонившись к тусклой стене и подставив растерянное лицо навстречу метущемуся меж разноцветных окон сквозняку. Эдип раздувал ноздри, по запаху пытаясь определить то место, где заканчивались закоулки и где он смог бы выйти наружу. В конце одного подобного коридора показалось нежное утреннее свечение, и, направившись туда, Эдип через несколько мгновений очутился на улице.
Однако перед ним предстала вовсе не привычная дворцовая площадь, мощенная смуглыми булыжниками, на которой Креонт устраивал своим воинам учения. Все вокруг было голо: деревья, будто во время чудовищного урагана потерявшие свои листья, дорога – обыкновенная, славно утоптанная тропа, однако слишком широкая, замершие вдоль нее небольшие каменные дома с наглухо закрытыми окнами и дверями. Эдип взглянул на небо: оно почти совершенно скрылось за тяжелыми мутными облаками, лишь над горизонтом золотилась чистая полоска зари. Эдип шагнул, и в то самое мгновение, когда у него за спиной остались гулкие переходы, где он только что блуждал, в лицо ему ударил ломкий морозный воздух, небо точно дрогнуло, облака поблекли и натянулись, из них медленно попадали на землю белые мокрые хлопья, видом своим напомнившие Эдипу состриженную овечью шерсть.
Водрузив себе на плечи ослиную шкуру, служившую ему и картой, и накидкой, и ощутив обнаженными руками тепло, он медленно пошел по тропе, с радостью замечая, что ступни его по-прежнему никак не соприкасаются с землей. Он двигался в ту сторону, где, как он чувствовал, шумят холодные волны и откуда струится зовущий и такой знакомый запах соли и лаванды.
*Гера спускается в царство мертвых, – сама Гера пожелала перейти через Стикс, чтобы узнать, чем кончится придуманный ею миф. Она подходит к реке и видит Харона, лицо его серо, под глазами тяжелые кожистые мешки – следствие многовековой бессонницы, он не узнает ее. Своей маленькой проворной рукой он открывает ее таинственно сомкнутые губы и достает из-под ее языка розовую аметистовую бусину – точно такую, какие рассыпала Иокаста, гулявшая по берегу Астерии. Харон не знает ничего ни об Иокасте, ни об Эдипе: он лишь видит перед собой новую пассажирку для своего ветхого судна, он берет себе бусину, ему нравится аметист, оживляющий все в этих скорбных сумерках светлым сиянием, переправа оплачена, и Гера садится в ладью – на паром ли? на движущийся ли мост? на плот, подпрыгивающий при каждом вздохе времени? – садится и отправляется на другой берег. Сойдя там, она протягивает вперед ладони, и, захватив будущее, создает мутную смесь его с прошлым. В эту смесь включено все, там плавают соединившиеся фигурки Эдипа, Тиресия и Иокасты, там растворяются глиняные таблицы, поведавшие потомкам о плавучем архипелаге и развлекавшие предков, явленных на свет позже собственных детей.
Стоя на черном песке и глядя вослед удаляющемуся в ладье Харону, Гера чувствует славную прохладу окружающей ее смерти, она вздрагивает и издает резкий крик – победоносный и испуганный крик новорожденного.
Искусство ухода
Повесть
Посвящается Жене Богдановой
Глава 1
Двери теперь были закрыты, и анфилада существовать перестала. Все для меня потеряло смысл: и катание по кругу на моем тяжелом темно-желтом самокате – через все комнаты, – и наблюдение за танцующей девушкой, обутой в мужские ботинки, на которые сверху были надеты полотерные щетки – по коричневатому блеску паркета, и игры с бабушкой в прятки. Я стал избегать переходить из комнаты в комнату, потому что теперь это можно было сделать лишь через боковой коридор, параллельный моей некогда любимой анфиладе, то есть, в сущности, представлявший собой другую анфиладу, но всегда казавшуюся мне слишком светлой, слишком незащищенной, ибо ее восточная стена была нещадно пробита кем-то в трех местах, и мне, возможно, из-за малого роста либо еще по какой-то другой причине казалось, что именно над этим коридором отсутствовала какая бы то ни было кровля, и мне бывало особенно страшно смотреть сквозь три стекла на движение серых влажных облаков прямо над моей головой.
Теперь все переставили, словно пытаясь навсегда стереть из моей памяти некогда стремительно разворачивавшуюся передо мной перспективу, но я по-прежнему мог представить себе быстрое движение бабушкиных полных ног, колыхавшийся пониже колен подол светлого платья в мелкий цветочек, икры, похожие на две округлые рюмки, эти икры я никогда бы не перепутал с какими-нибудь другими, бабушку я могу бы узнать даже только по ним, – а пара прямоугольных бликов, таких, которые бывают лишь на тщательно чищенной обуви с высокими крепкими каблуками. Даже сейчас я закрываю глаза и вижу, как бабушка твердой энергичной походкой направляется, распахивая одну за другой двери анфилады, вглубь квартиры и говорит своим высоким, немного даже театрально-гулким голосом:
– Фу, духота! Надо непременно устроить ветер!
Увы, комнаты вдруг стали тусклыми, у мебели появился какой-то особенный химически-затхлый запах, как раньше, когда звали двух мужчин в мешковатых синих брюках с маслянистыми пятнами на коленках, и они из маленького тонкого шланга поливали за шкафами и диванами потрескавшиеся от старости плинтусы оранжевой густой жидкостью против жучков. После того как они уходили, появлялся тот самый тяжелый запах, и у меня начинали чесаться глаза, а бабушке особенно часть хотелось «устроить ветер». Спустя несколько дней этот запах исчезал, и в квартире снова привычно воцарялись благоухания сладких цветочных духов и вытекавший из кухни соленый аромат жарившихся котлет.
Каждое утро я просыпался теперь оттого, что дедушка заходил ко мне, в детскую, наклонялся и целовал меня в лоб своими сухими губами – перед тем, как отправиться на работу. Я открывал глаза и видел его удалявшуюся спину – костюм сидел на нем свободно, так, словно был ему великоват – мой дед был высок, но субтилен, издалека, когда я мог разглядеть его целиком, он напоминал мне тонкую длинную кость. Возвращался с работы он вечером, когда мы с бабушкой уже успевали нагуляться, почитать и немного помучить старинный рояль, покоившийся в центре гостиной. В это время я чувствовал себя особенно усталым, и приход дедушки был для меня долгожданным сигналом к ужину и – затем – отправлению спать. Но – странно – ложась в кровать, я еще долго не мог заснуть, мне вдруг мерещилось, что все тело мое превратилось в миниатюрную железную дорогу и что тысячи поездов начинали двигаться по никому не ведомым запутанным маршрутам, меня лихорадило, в голове стоял беспрерывный звон кондукторских колокольцев и стрекот переключаемых стрелок, и голоса двух споривших стариков, сочившиеся в детскую сквозь неприкрытую дверь, сперва звучали резко и раздражающе, а потом вдруг укладывались в общий ритм моего тела и страстно пульсировали на перекрестках зелеными и красными огнями.
По выходным дедушка брал меня с собой гулять в парк. Мне нравилось надевать бежевый фланелевый берет с маленькой петелькой на макушке и особенно шедшие мне темно-коричневые лакированные ботинки – массивные и тупоносые, в каких обыкновенно вышагивали самые дерзкие мальчишки на книжных картинках. Мы бродили по мокрому асфальту вдоль аккуратно постриженных спутанных кустов, иногда садились на скамейку и вели чинные медленные разговоры о птицах или о неизвестных мне сортах хлеба – исчезнувших за несколько лет до моего рождения.
Когда анфилада исчезла, все как-то стало портиться, дедушка брал меня на прогулки все реже, и фланелевый берет вдруг стал мне мал – он туго обхватывал мне голову, и спустя несколько минут на лбу у меня появлялась розовая полоска. Тогда бабушка связала мне шерстяную шапку из толстой белой пряжи, и она мне сразу не понравилась, потому что тут же искусала мне уши и шею, и я расчесал их до красноты в первый же выход на улицу.
Кроме того – и это самое неприятное, – во время наших вылазок в парк к нам в друг стала присоединяться какая-то чужая женщина. Хорошо помню, что она носила длинное вишневое пальто и полусапожки на шнурках. Она немного хромала, и ее хромота не испугала бы меня, если бы я не заметил, что под шелковым чулком ее правой ноги при ходьбе, возле самого уже начинающегося голенища сапога, где ткань сильно натягивалась, беспощадно поблескивала полировка деревянного протеза.
Когда мы встречали ее, она всегда наклонялась и называла меня по имени, и я отчетливо видел, как ее сочный рот огромным, темно-бордовым мотыльком уже готов был упасть на мою холодную от осеннего ветра щеку, и тогда я судорожно отстранялся и натягивал мучительно колючую шапку себе почти на самые брови. Правда, этот воинственный жест не давал никаких результатов, моя обидчица лишь звонко смеялась – однако же несколько искусственно, похоже смеялись по радио старые актрисы, игравшие роли придворных дам или владелиц отправленных под молоток усадеб… Затем она неизменно протягивала мне кулек из грубой серой оберточной бумаги, наполненный полупрозрачными круглыми карамельками, я мстительно разжевывал их одну за другой, клейкая масса забивалась между зубами и натирала мои чувствительные десны, – пока дедушка о чем-то оживленно беседовал с незнакомкой, прохаживаясь с ней под руку мимо той скамейки, где теперь я призван был сидеть в одиночестве и набивать себе желудок этими противными мне сладостями.
По возвращении домой мы с дедом должны были словно забыть о существовании женщины с деревянной ногой и о ее безвкусных, похожих на стеклянные бусины конфетах.
Отныне все чаще я сидел один у себя, в детской и чем-нибудь тихо занимался. Обычно это было рисование. Я полюбил рисовать акварелью – правда, мне не разрешали портить плотную бумагу, хранившуюся в большой картонной папке с широкими белыми завязками, некогда принадлежавшую моей матери. Поэтому я пользовался обычными писчими листами, они вздувались и морщились под действием моей обильно смоченной кисти, разноцветные пятна расплывались и наползали друг на друга, и трудно было разобрать какие-либо контуры и очертания, все превращалось в яростное месиво, поначалу смешившее бабушку и страшно раздражавшее деда.
Между тем я все реже сидел с ними в гостиной – не из любви к одиночеству, но просто из желания не пользоваться лишний раз светлым коридором. Я почти совсем перестал участвовать в их беседах – впрочем, и бесед-то уже никаких не было, все чаще они долго молчали, и если прислушаться, можно было уловить тонкое позвякивание бабушкиных вязальных спиц и густой шелест читаемых дедом газет. Даже когда я ложился спать и множество вагончиков отправлялись по вибрирующим дорогам моих утомленных членов в туманные пункты назначений, я не слышал более спорящих за стеной голосов, и мне казалось, что светофоры на моих путях теперь уже не мигают, а лишь одинокие стрелочники бродят вдоль рельсов и уныло переключают рычажки – наугад, рискуя столкнуть друг с другом встречные составы.
Меня вдруг стала пугать возможность столько бессмысленной и к тому же неизвестно что с собою несущей катастрофы. Я больше не вытягивался на спине, а старался свернуться калачиком и не прислушиваться к щелчкам и гудению в моем теле. Засыпалось мне труднее, пока я не придумал себе другую игру. Теперь я, ложась спать, оказывался помещенным в удобный гамак, привязанный к ветке дерева. Я мысленно начинал раскачивать его, и вместе с ним раскачивался и сам, это ритмическое движение поначалу убаюкивало меня ничуть не хуже железной дороги, но потом вдруг что-то случилось и с моим уютным гамаком, я словно бы потерял над ним контроль, и он несколько раз вдруг неожиданно и быстро переворачивался, а я вздрагивал и понимал, что уже почти заснул, но вот очнулся, да притом еще и с колотящимся сердцем и дрожью в ногах, и мне придется заново усыплять себя.
Вскоре бабушка заболела. Она лежала на кровати бледная, какая-то вдруг высохшая, и тяжело, надрывно кашляла всей грудью. Рядом, на тумбочке, подпрыгивал стакан с лимонным чаем, старый серебряный подстаканник тихо звенел. В то время светлым коридором старались пользоваться как можно реже, чтобы было поменьше сквозняков. Двери во всей квартире закрывались плотнее, в комнате бабушки прочно установился сладковатый анисовый запах лекарств.
Мне разрешили выходить на улицу без взрослых.
Бабушка чаще стала есть сладкое, она внезапно пристрастилась к пирожным и посылала меня почти каждый день в кондитерскую на углу нашей улицы – за покупками. Особенно она стала охоча до восточных сладостей – чай теперь пили с плотным темно- желтым шербетом или с липкой ослепительно-белой косхалвой. Я уже умел неплохо считать в уме и всегда педантично приносил домой сдачу. Я выкладывал влажные от пота, потемневшие, смятые в кулаке бумажки на тумбочку, и бабушка слабым голосом благодарила меня. Она не играла со мной, как прежде, лишь изредка брала в руки какую-нибудь детскую книжку и принималась читать вслух, чтение это длилось недолго, вскоре голос ее срывался, она некоторое время молчала, изумленно обводя непонимающим взглядом комнату, затем разражалась своим ужасным кашлем. Когда она кашляла, щеки ее краснели, а глаза начинали сильно слезиться. Мне было мучительно смотреть, как разрывается от кашля ее рот, как она силится сдержаться, положив себе на колышущуюся от хрипов грудь ладони, в такие минуты я словно бы видел, как все громоздкие вещи, окружающие ее, не дают ей успокоиться, они будто сгрудились вокруг ее больного тела и не позволяют ей дышать. И шкаф, набитый старыми книгами, увенчанный темными резными деревянными шкатулками, в которых хранились разноцветные мотки ниток и груды перламутровых и костяных пуговиц – я всегда с удовольствием их пере бирал, – и тучный дубовый комод, поскрипывающий порой под тяжестью своих льняных накрахмаленных внутренностей, и тумбочка, бережно хранящая на своей поверхности уже высохшие кружки от некогда небрежно кем-то поставленных на нее чашек, и вздрагивающий за серебряными арабесками подстаканника чай с лимоном – все наползало на мою бедную бабушку и жестоко душило ее. Мне хотелось закричать, затопать ногами, заставить неумолимые предметы расступиться, освободить ход для воздуха, отпустить из своих цепких клешней бабушку. Но я чувствовал бессмысленность борьбы, поскольку был слаб, и моя слабость прибавляла мне злости. Я выбегал из ее комнаты и несся по светлому коридору в детскую, в отчаянии пиная каждую дверь ногой и не заботясь о том, чтобы снова их прикрывать. Однажды меня за это отругал дед – он пришел домой и увидел, что все двери распахнуты и на некоторых из них – прямо на белой краске – остался призрачно-серый след моего перепачканного пылью улицы ботинка.
К этому времени мы с дедушкой еще больше отдалились друг от друга, он перестал меня брать с собой на прогулки, чему, впрочем, я был рад: я и так бывал теперь вне дома почти каждый день, когда ходил за сладостями для бабушки, кроме всего прочего, я не жалел о том, что все реже видел женщину с деревянной ногой. Реже – потому как выяснилось, что она работает продавщицей в кондитерской, где я стал завсегдатаем. Она стояла за прилавком отдела, где были выставлены карамель и дешевое печенье, и призывно улыбалась мне всякий раз, как видела, что я направляюсь из другого конца магазина, нагруженный красиво упакованными восточными сладостями, к выходу, я же лишь судорожно кивал ей и выбегал наружу.
Между тем, бабушка разговаривать совсем перестала, она лишь молчала и с нежностью смотрела на меня, когда я спешил исполнить ее мелкие желания, о которых она могла мне поведать только жестами. К моему изумлению, дед вдруг перестал ходить на работу, а однажды утром я проснулся и обнаружил, что взрослые куда-то исчезли и в квартире, кроме меня, никого нет. Я оделся и прошел по светлому коридору – мне почудилось, что там было особенно зябко, затем в гостиную, в кабинет деда – везде мои шаги звучали необычно гулко, словно квартиру покинули не только люди, но и вещи. Затем я заглянул в комнату бабушки. Я сразу заметил странное изменение в обстановке. Все было на своих местах, но я ощутил, что каким-то необъяснимым образом здесь стало свободнее, мебель и мелкие вещицы, громоздящиеся на ней, будто бы отступили от бабушкиной кровати и скромно и печально затихли по углам. Я подошел и сел на покрывало, тщательно разглаженное дотошной рукой сиделки, я пытался понять, что же произошло, но все вокруг хранило молчание, и ни складка, ни морщинка на ткани, ни даже по-прежнему стоящий на тумбочке, но безнадежно остывший чай не желали выдавать своих тайн. Я втянул носом воздух, и, не сдержавшись, при этом всхлипнул: ставший уже привычным запах аниса исчез, и в комнате теперь пахло, как и раньше, приторными духами и пыльным деревом.
Глава 2
Когда Люся поселилась у нас, мне стало легче, хотя крепкий малиновый запах ее помады был для меня невыносим, и я поначалу долго не мог заснуть, не привыкший к ее сбивчивой походке. Но мне уже было не так одиноко в нашей огромной квартире, кроме того, анфиладу снова открыли, и, хотя я больше не любил носиться на самокате, все же приятно было иногда пробежаться от северной глухой стены в детской насквозь через все комнаты до бабушкиной, где, достигнув южного окна – самого солнечного места в доме – и повернув направо, можно было встретиться взглядом с бабушкиным портретом. Там она, еще молодая, с аккуратно зачесанными назад белыми волнистыми волосами, смотрела исподлобья и улыбалась – так, словно ей еще не очень смешно, но она сейчас наконец поймет только что услышанную шутку и засмеется уже от всей души – громко и радостно.
Отныне в бабушкиной комнате жила Люся, но портрета этого она не сняла, поначалу мне даже показалось, что она не знает, кто изображен на нем. Мне же чрезвычайно нравилось разглядывать его, но делал я это тайно, так, чтобы ничем не напомнить Люсе о его существовании. Я не хотел, чтобы портрет отправился в чулан – туда, где хранились всякие никому не нужные вещи.
Неожиданно обстановка в доме стала менее строгая – под роялем в гостиной, на соломенном половичке водрузилось несколько керамических кувшинов и пара пухлых оранжевых тыкв, которые Люсина сестра прислала нам из деревни. Мне было разрешено пользоваться плотной бумагой для рисования, и я теперь без конца запечатлевал этот странный натюрморт: черный рояль, светлый половичок, кувшины и яркие тыквы.
Вслед за тыквами и кувшинами из деревни был привезен Люсин сын – рослый румяный мальчик, пятью годами меня старше. Я как раз готовился пойти в первый класс, он же – как радостно сообщила мне Люся – должен был учиться в одной со мной школе, но в шестом классе. Признаться, я не был готов к появлению еще одного ребенка в нашей семье, поэтому встретил Алешу весьма сдержанно. Он, напротив, вел себя со мной дружелюбно, протянул мне руку и ничуть не обиделся, когда я не пожал ее. Позже я и сам не мог себе объяснить, отчего я не захотел дотрагиваться до его руки – мне даже пришло в голову, что я попросту не понял его, ведь мне никогда прежде не приходилось здороваться с кем бы то ни было за руку. В любом случае, неприязни я к Алеше не питал – лишь мимолетное раздражение, какое обыкновенно чувствуют друг к другу чужие люди, вынужденные подолгу жить вместе. Иногда мне даже нравились некоторые его повадки, и я, по секрету от других, оставшись наедине с зеркалом, копировал их, наслаждаясь непривычными для меня жестами, которые выходили сперва неуклюже, а затем, после нескольких минут тренировок, весьма ловко, даже было похоже, что это – не жалкая имитация, а исконно мною придуманные движения. К примеру, меня забавляло нарочито растягивать рукава свитера – так, чтобы горловина становилась слишком просторной, а кисти рук целиком скрывала резинка, оставляя на виду лишь кончики пальцев. И вот, я поднимал почти совсем утопшую в ткани ладонь, морщил нос и легко чесал его горбинку ногтем указательного пальца, одновременно придавая лицу выражение озадаченности. Этот жест мне особенно нравится, я его повторял слишком часто, и однажды к вечеру у меня на носу появилось розовое пятно раздражения, которое Люся приняла за ушиб и старательно намазала йодом.
И все же я иногда очень злился на Алешу. В частности, я ревновал к нему свои книжки. Надо сказать, увидев в детской целых два шкафа, заполненных книгами, он, фанатик чтения, стал деловито раздвигать корешки и, наклонив набок голову, шептать названия, затем вытащил несколько книг и положил их на мой письменный стол – который отныне я должен был с ним делить. Читал он быстро, притом яростно трепля книги, никогда не пользуясь закладками, он обычно сгибал угол страницы, на которой остановился, поэтому после знакомства с ним книги приобретали вид жалкий – словно из них выжали все соки, словно чтение было не столько актом познавательным, сколько вампирическим.
Несколько раз я делал вялую попытку с ним подраться, но в дверях, как часовой, молча неизвестно откуда появлялась Люся и строго смотрела на нас, ее малиновые губы плотно сжимались – так плотно, что на месте пышного мотылька оставалась лишь прямая узкая полоска. Мне было непонятно, почему Алеша терпит, когда его защищает мать, почему он сам не врежет мне – даже тайком, раз уж он так боится взрослых, – ведь я был сильно младше него. Еще мне было совершенно неясно, почему он никогда не играл с мальчишками во дворе, никогда не катался с ними на велосипеде, – впрочем, и велосипеда-то у него никакого не было, но даже когда я не пользовался своим, Алеша не просил у меня его на время.
Однажды, правда, я видел его в компании мальчишек из нашего дома, это было как раз в первую зиму моего с ним знакомства. Люся с дедом выпроводили нас погулять, а через некоторое время заметили в окно, как Алеша и его новые друзья, поставив меня у дерева, пытались угодить мне в лицо снежками. Сам я этот случай помню смутно, осталось лишь чувство обиды и растерянности, затопившее меня в тот самый момент, когда кто-то все-таки попал мне колючим снежком прямо в нос. Спустился за нами дедушка, говорил он сдержанно, видно было, что сердится, однако в голосе его сквозила какая-то непонятная мягкость, будто он боялся обидеть Алешу.
Единственное, в чем Алеша не мог меня превзойти, было рисование. К третьему классу я уже управлялся с любыми красками.
Обращаясь к своему детству, я редко припоминаю случаи с участием дедушки или Люси, видимо, они все-таки присматривали за нами с Алешей, но мы будто этого вовсе не замечали. Нас учили, как правильно сидеть за столом, когда следует мыть руки или ложиться в постель, а когда вставать, дабы не опоздать к нужному сроку, но, таким образом нас обучая, ни Люся, ни дед не могли проникнуть глубоко, туда, где все приличия уже давно не имеют никакого смысла, где люди перестают делиться не только на детей и взрослых, но и на мужчин и женщин и где скрывается нечто, с таким трудом поддающееся вербализации. Эта сфера полной внутренней свободы, каждый человек там свободен настолько, что заключает себя по собственной воле в наистрожайший карцер, и уж если он это сделал, то и выбраться оттуда подвластно лишь ему одному. В подобных глубинах и обитают призрачные существа, заставляющие меня помещать на холсте фиолетовый и желтый вместе, почти не пользуясь льняным маслом, писать как можно более пастозно.
Я осознал бессилие слов тогда, когда открыл, что человек населяет собственное тело не целиком, что, безусловно, он в нормальном состоянии чувствует свои, например, конечности, но что если тело представить в виде архитектурного сооружения, то каждый из нас обитает лишь на верхнем его этаже, где пара глазниц играет роль двух окон. Казалось бы, рот или уши тоже вполне могли бы претендовать на органы прямой связи с миром, но нет, они не значат ничего по сравнению с глазами, и посему, чтобы воздействовать на человека наиболее сильным методом, требуется владеть неким визуальным искусством.
Уже в десять лет, утвердившись в правильности своего выбора, я почти все свободное время стал проводить за рисованием, и меня ничуть не смущали наши с Алешей споры по поводу главного вида искусства: он-то, как раз, был целиком уверен в единственно высоком, даже безупречно-элитарном положении литературы относительно всего остального. Когда я поведал ему свою теорию о глазах как о самом важном органе чувств, он заявил, что человек способен воспринимать текст и через глаза, и через уши, стало быть, текст – нечто более интересное, чем живопись. Мы с ним обсуждали это весь вечер и даже наутро, направляясь в школу, спорили, в конце концов каждый утвердился еще раз в собственной правоте, и более ничего.
К тому времени он уже не просто читал, а иногда даже выписывал цитаты из прочитанного – в небольшой, но довольно пухлый и, как всякая брошюра, побывавшая в его руках, сильно растрепанный, даже разлохмаченный, блокнот. Тогда я порывался завести дружбу с ребятами моего возраста, целые дни проводившими во дворе за игрою в футбол, однако меня каким-то мистическим образом тянуло домой, туда, где в тишине и сумеречности детской сидел Алеша, сгорбившись, почти даже плашмя улегшись на наш письменный стол и, читая очередную книжку либо отложив ее, но оставив открытой, что-то записывая мелким почерком в свой блокнот.
Позже я свел близкое знакомство с его почерком, но тогда я мог сказать о нем лишь то, что он был мелкий, и мне представлялось абсолютно невозможным разобрать хотя бы строку, написанную Алешиной рукой.
Я не могу утверждать, что любил своего сводного брата и не в состоянии был долго обходиться без него. В моем стремлении оказаться поскорее рядом с ним и заняться рисованием было скрыто какое-то тайное, очень сильное любопытство, смешанное с чувством соперничества. Я хотел видеть Алешу и быть в курсе всего, что он делает, и делать больше и лучше него.
У меня хранятся альбомы с эскизами того времени – обыкновенные школьные, с белыми плотными листами, на которых вполне сносно смотрелась бы даже акварель. Каждый лист в них испещрен многочисленными карандашными зарисовками – это своего рода мой дневник в картинках. И больше всего в этих альбомах отведено места Алеше, его сгорбленной фигуре, его сосредоточенному за чтением лицу – брови слегка сдвинуты, веки опущены, кажется, что они и вовсе смежились, однако густая тень от ресниц, лежащая уже на самой щеке – беспорядочная, скользящая, живая, говорит о том, что мой натурщик читает, а не спит. Я мечтал тогда написать Алешин портрет, мне чудилось, что, увидев своего двойника на холсте, он поверит в силу живописного искусства и его испугает его собственное лицо, слепленное из красок и ткани, которому суждено будет его пережить… Помню, как Алеша листал эти мои альбомы – насмешливо-удивленно, – иногда бормотал нечто вроде «похоже», иногда делал вид, будто совсем не понимает, что я пытался изобразить – нарочно, чтобы задеть меня. И эти его иронические замечания меня заставляли рисовать больше и больше, я от обиды, бывало, просиживал с карандашом всю ночь, только желая досадить ему, я вглядывался в его сутулую спину – когда он читал за столом или когда он, не имея сил больше так изнуряюще работать, ложился на свой узенький детский диванчик и засыпал, повернувшись лицом к стене, – я смотрел на него и погружался в извивы теней и контуры бликов, и желание плакать потихоньку отпускало меня. Иногда я мечтал подраться с ним, но тотчас в памяти моей всплывало задумчиво-строгое лицо Люси, и я чувствовал, что этого ни в коем случае нельзя делать, что здесь скрывается что-то загадочно-запретное и что, возможно, даже сам Алеша не знает об этом.
То ли потому, что моими учителями были скользкие тяжелые каталоги выставок и пожелтевшие глянцевитые репродукции, хранившиеся в книжном шкафу у деда, то ли потому, что мне никто не мог ничего посоветовать относительно рисования – во всяком случае, в моей семье, – но я вдруг почувствовал невероятную легкость и вседозволенность, я было стал рисовать натюрморты, но явность очертаний стала претить мне, я увлекся перетеканием теней и сверкающим разноцветьем поверхностей, я согласился с условностью существования любого предмета, и это дало мне возможность найти собственный стиль.
Через год Алешин портрет был готов.
Глава 3
Мы не говорили с ним все лето, и мне стало не хватать его. Я скучал по нему, вернее, не по нему как по человеку, но по траектории его мысли, его перемещения. Погрузившись в молчание, мы как бы оставили наши отношения в какой-то определенной точке, в то время как каждый из нас продолжал двигаться по своей собственной дороге. Я знал, более того, я видел, какие книги он читал, я замечал, как у него отрастали волосы и как они снова укорачивались под действием больших расшатанных ножниц, лихо клацающих в Люсиных проворных руках. Я, как никто, способен был обнаружить мельчайшие изменения в выражении Алешиных глаз и пытался угадать, что на него так повлияло: какое-то событие в нашей семье либо прочитанное прошлым вечером. Но подлинных причин этих изменений я был уже не в силах понять.











