Читать онлайн История любви
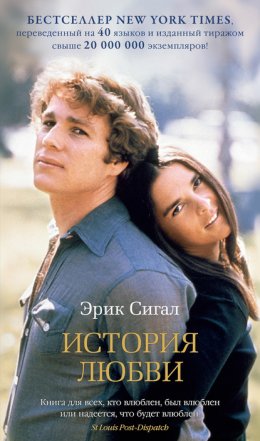
1
Что можно рассказать о двадцатипятилетней девушке, которая умерла?
Что она была красивая. Умная. Любила Моцарта и Баха. Армстронга. Битлз. И меня. Однажды, когда она объединила меня с этими музыкантами, я спросил, в каком порядке она нас любит? «В алфавитном», — ответила она, улыбнувшись. Я тоже тогда улыбнулся. А теперь сижу и гадаю, включила ли она меня в этот список по имени — тогда я шел за Моцартом, или по фамилии — тогда вклинивался между Армстронгом и Бахом. Так или иначе, первым я не получался. И это меня по какой-то глупой причине чертовски раздражало; наверное, потому что я вырос с мыслью, что всегда должен быть первым. Семейная традиция, понимаете?
Осенью, уже на последнем курсе, я часто занимался в библиотеке Рэдклиффского колледжа. И не только чтобы поглазеть на девочек, хотя, признаться, любил их разглядывать. Просто место это было тихое, никто меня там не знал, да и книг в свободном доступе было больше.
До очередного экзамена по истории оставался всего один день, а я еще не прочел даже первую книгу из рекомендованного списка — типичная гарвардская болезнь. И вот я поплелся к стойке выдачи, чтобы получить очередной том, который должен был выручить меня на следующее утро. На выдаче работали две девицы. Одна — высокая, на вид заядлая теннисистка, а другая — очкастая мышка. Я выбрал Минни-Четыре-Глаза.
— У вас есть «Закат средневековья»? — спросил я.
Она подняла на меня взгляд:
— А у вас есть своя библиотека?
— Гарвард имеет право пользоваться Рэдклиффской библиотекой.
— Я говорю не о праве, подготовишка, я говорю об этике. У вас там не меньше пяти миллионов томов, а у нас всего несколько жалких тысяч.
A-а, с комплексом превосходства! Из тех, которые думают, что раз в Рэдклиффе впятеро больше студенток, чем в Гарварде — студентов, то они впятеро умнее. Обычно я их ставил на место, но сейчас мне позарез нужна была эта чертова книга.
— Слушай, мне нужна эта чертова книга!
— Что за грубые слова, подготовишка?!
— Кстати, с чего ты взяла, что я ходил на подготовительные курсы?
— По твоему виду — глупый и богатый, — сказала она, снимая очки.
— Ошибаешься, — возразил я. — На самом деле я бедный и умный.
— Э, нет, подготовишка. Это я бедная и умная.
Она смотрела на меня в упор. Глаза у нее были карие.
Ладно, может, на вид я и богач, но я не позволю студентке какого-то женского колледжа — даже с красивыми глазами — называть меня глупым.
— А с чего ты решила, что ты умная?
— Потому что не пойду с тобой пить кофе.
— Да я тебя и не приглашаю.
— Вот потому, — заявила она, — ты и дурак.
Давайте объясню, почему я все-таки пригласил ее выпить чашечку кофе. Хитроумно капитулировав в решающий момент — то есть, притворившись, что мне вдруг захотелось ее пригласить, я получил свою книгу. А так как она не могла уйти до закрытия библиотеки, у меня было много времени усвоить несколько умных фраз о перемещении опоры королевской власти от священников к судьям в конце одиннадцатого века. На экзамене мне поставили высшую оценку — такую же, которую я дал ногам Дженни, когда она впервые вышла из-за стойки. Не скажу, однако, что я столь же высоко оценил ее одежду — слишком небрежную и богемную на мой вкус. Особенно мне не понравился какой-то мешочек в индейском стиле, который заменял ей сумку. К счастью, я ей об этом не сказал, а потом узнал, что фасон придумала она сама.
Мы пошли в «Гнома» — в маленькую забегаловку неподалеку, куда, несмотря на название, пускали и людей обычного роста. Я заказал два кофе и еще шоколадное пирожное и мороженое (для нее).
— Меня зовут Дженнифер Кавиллери, — сказала она.
— Я американка итальянского происхождения.
Как будто я сам не догадался бы.
— И мой главный предмет в университете — музыка, — добавила она.
— Меня зовут Оливер, — сообщил я.
— Это имя или фамилия? — спросила она.
— Имя, — ответил я и затем признался, что полное мое имя, точнее, большая его часть — Оливер Барретт.
— О, — сказала она. — Барретт… Как у поэтессы?[1]
— Да, — подтвердил я. — Но мы не родственники. В последовавшей затем паузе я мысленно порадовался, что она не задала обычного и раздражающего меня вопроса: «Барретт как Барретт-холл?» Ибо мой крест — быть в родстве с человеком, построившим Барретт-холл — самое большое и самое уродливое здание в Гарварде, колоссальный памятник нашему семейному богатству, тщеславию и вопиющему гарвардизму.
Потом она как-то притихла. Неужели уже не о чем поговорить? Или я слишком грубо сказал, что не родственник поэтессы? Что произошло? Она просто сидела и с полуулыбкой смотрела на меня. Чтобы чем-то заняться, я принялся листать ее тетради. У нее был смешной почерк — мелкие и заостренные буквы, заглавных букв вообще нет. (Кем она себя воображает? э. э. каммингсом, поэтом, не признававшим заглавных букв?) Среди курсов, которые она посещала, были довольно мутные: «Сравнит, ист. мир. литры-105», «Музыка-150», «Музыка-201»…
— Музыка-201? Разве это не для аспирантов?
Она утвердительно кивнула, не сумев скрыть гордости.
— Полифония эпохи Возрождения.
— Что такое полифония?
— Ничего сексуального, подготовишка.
С какой стати я все это терплю? Она что, университетскую «Кримсон» не читает? Не знает, кто я такой?
— Эй, ты что, не знаешь, кто я такой?
— Знаю, — сказала она с некоторым пренебрежением. — Ты тот, которому принадлежит Барретт-холл.
Нет, она все-таки не знала, кто я.
— Нет, уже не принадлежит, — сказал я. — Мой прадедушка подарил его Гарварду.
— Чтобы у его правнука не было проблем с поступлением?
Ну, это уж слишком!
— Дженни, если ты так уверена, что я неудачник, зачем ты вынудила меня пригласить тебя в кафе?
Она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась:
— Мне нравится твоя фигура.
Хочешь побеждать, умей проигрывать. Это не парадокс. Это типично гарвардская черта — способность обратить любое поражение в победу.
«Не повезло вам, Барретт. Но играли вы здорово!»
«Ей-богу, я рад, что вы не раскисли, ребята. Я ведь знаю, как вы хотели выиграть».
Конечно, чистая победа лучше. Самый предпочтительный вариант — вырвать ее в последний момент. Короче, провожая Дженни до общежития, я все еще не терял надежды победить эту рэдклиффскую сучку.
— Слушай, в пятницу вечером хоккейный матч в Дартмуте.
— Ну и что?
— Хочу, чтобы ты пришла.
Она ответила с обычным для Рэдклиффа почтением к спорту:
— Какого черта я пойду на этот вонючий хоккей?.
— Потому что я буду играть, — многозначительно сказал я.
Последовало короткое молчание. Слышно было, как падает снег.
— А за кого? — спросила она.
2
Оливер Барретт IV
Место рождения: Ипсвич, Штат Массачусетс, США.
Возраст: 20 лет.
Рост: 5 футов 11 дюймов (180 см).
Вес: 185 фунтов (83 кг).
Колледж: Филлипс Эксетер.
Курс: выпускной.
Основной предмет: общественные науки.
В списке лучших на курсе: 1961, 1962, 1963.
Будущая специальность: юриспруденция.
В первой сборной: 1962, 1963.
Дженни уже наверняка прочла мою биографию в программке, которую раздавали зрителям. Я трижды напомнил нашему менеджеру Вику Клейману, чтобы ей ее дали.
— Господи, Барретт, можно подумать, это твое первое свидание!
— Заткнись, Вик, а то собственными зубами подавишься.
Когда мы разминались на льду, я не махал ей рукой (еще не хватало!) и даже не смотрел в ее сторону. И все-таки она, наверное, думала, что я поглядываю на нее. Ведь не из уважения же к американскому флагу она, дальнозоркая, сняла очки, когда исполняли национальный гимн?
К середине второго периода мы выигрывали у Дартмута 0:0. Иными словами, Дейви Джонстон и я вот-вот должны были распечатать их ворота. Зеленые черти это почуяли и стали грубить. Они вполне могли переломать нашим пару костей, прежде чем мы переломим их оборону. Болельщики орали, требуя крови. В хоккее это означает либо действительно кровь, либо гол. Как говорится, положение обязывает, и я никогда не отказывал зрителям ни в том, ни в другом.
Дартмутский центральный нападающий Эл Реддинг рванулся в нашу зону, но я врезался в него, отобрал шайбу и бросился в атаку. Трибуны взревели. Слева от меня был Дейв Джонстон, но я решил забивать сам, помня, что их вратарь малость трусоват — я нагнал на него страху, еще когда он играл за «Дирфилд». Однако, прежде чем я успел бросить, на меня навалились оба дартмутских защитника, мне пришлось проехать за ворота, чтобы не потерять шайбу. Втроем мы рубились за спиной у вратаря, сшибаясь и швыряя друг друга на борт. Моя обычная тактика в таких потасовках — молотить что есть силы по всему, что одето в цвета противника. Где-то у нас под коньками металась шайба, но мы сосредоточенно старались вышибить друг из друга душу.
Судья засвистел.
— Вы! Две минуты штрафа!
Я поднял глаза. Он показывал на меня. Что я такого сделал, чтобы меня удалять?
— Ладно, судья, что я такого сделал?
Но тот, похоже, не был расположен к продолжению диалога. Подъехав к судейскому столику, он прокричал:
— Номер семь, две минуты!
Я, конечно, немного попрепирался — это уж так, для публики. Болельщики ждут протестов, каким бы грубым ни было нарушение. Но судья от меня отмахнулся, и я, кипя от досады, покатал к скамейке для штрафников. Я уселся на место, звякнув коньками о пол, и услышал, как динамики рявкнули на весь зал: «Оливер Барретт из Гарварда, удален на две минуты за задержку».
Толпа недовольно загудела. Несколько гарвардских болельщиков громогласно взяли под сомнение ясность зрения и объективность арбитров. Я сидел, пытаясь отдышаться и не глядя на площадку, где наши вчетвером сражались с пятеркой Дартмута.
— Ты почему здесь прохлаждаешься, когда твои товарищи играют?
Это был голос Дженни. Я оставил ее вопрос без внимания и принялся подбадривать своих:
— Давайте, ребята, держитесь! Отними у него шайбу, ну!
— Чем ты провинился?
Я обернулся — все-таки Дженни пришла на матч ради меня.
— Перестарался, вот чем, — ответил я и снова стал наблюдать за тем, как наши пытаются сдержать рвущегося к воротам Эла Реддинга.
— Это большой позор для тебя?
— Дженни, прошу тебя. Я должен сосредоточиться.
— На чем?
— На том, как я прикончу этого ублюдка Реддинга.
И снова стал следить за игрой, стараясь оказать своим хотя бы моральную поддержку.
— Ты любишь грязную игру?
Взгляд мой был прикован к нашему вратарю, вокруг которого так и кишела зеленая нечисть. Мне не терпелось снова ринуться в бой. Но Дженни упорствовала:
— Может, ты и меня когда-нибудь прикончишь?
— Прямо сейчас, если ты не замолчишь.
— Я ухожу. Прощай.
Когда я обернулся, она уже исчезла. Я поднялся, чтобы лучше видеть, и в этот момент услышал, что мое штрафное время кончилось. Перемахнув через борт, я снова оказался на льду.
Трибуны бурно приветствовали мое возвращение: с Барреттом дело пойдет. Где бы ни пряталась сейчас Дженни, она обязательно услышит, какое ликование вызвал мой выход. А раз так, кого волнует, где она сейчас?
Но где же она?
Эл Реддинг сделал сильный бросок, и наш вратарь отбил шайбу Джини Кеннуэю, который перебросил ее мне. Устремившись вперед, я решил, что у меня есть доли секунды, чтобы метнуть взгляд на трибуны и отыскать Дженни. Так я и сделал. И сразу увидел ее. Она не ушла.
В следующее мгновение я шлепнулся жопой на лед.
Два зеленых ублюдка врезались в меня с двух сторон, я упал на спину и не знал, куда деться от стыда. Барретта завалили! Пытаясь затормозить скольжение, я слышал, как верные гарвардцы стонут от досады за меня. И как болельщики Дартмута скандируют: «Бей их! Бей их!».
Что скажет Дженни?!
«Дартмут» снова привел шайбу к нашим воротам, и голкипер снова отразил бросок. Кеннуэй протолкнул шайбу Джонстону, а тот кинул мне (я уже успел встать). Трибуны бесновались. Надо забивать! Я подхватил шайбу и на скорости ворвался в зону противника. Пара дартмутских защитников кинулась прямо на меня.
— Вперед, Оливер, вперед! Врежь им по башке!
Пронзительный вопль Дженни перекрыл рев трибун. В крике ее было упоение битвой. Я увернулся от одного защитника, саданул другого так, что он задохнулся, и потом, вместо того, чтобы бросить в падении, я отдал пас Дейви Джонстону, который появился справа, и он всадил шайбу в сетку. Гол!
В следующую секунду мы бросились обниматься и целоваться — я, Джонстон и остальные ребята. Мы тискали друг друга, хлопали по спине, целовались и прыгали от радости. (Все это на коньках.) Толпа орала. А дартмутский защитник, которого я сбил с ног, все еще не мог оторвать зад ото льда. Этот удар переломил хребет противнику. (В переносном смысле, конечно, — защитник отдышался и встал). В итоге мы их побили 7:0.
Если бы я был сентиментальным и настолько любил Гарвард, чтобы повесить на стену фотографию в память о нем, то это был бы не Уинтроп-хаус, не Храм Поминовения, а Диллон-Филд-хаус. Там мой духовный дом. Каждый вечер, пока я учился в Гарварде, я приходил в этот спортзал, приветствовал ребят какой-нибудь разнузданной шуткой, сбрасывал с себя мишуру цивилизации и превращался в спортсмена. До чего это было здорово — нацепить хоккейные щитки и рубашку с номером семь (я мечтал, что он будет навечно моим, но этого не случилось), встать на коньки и выйти на площадку.
Возвращение в раздевалку было еще приятнее — сдираешь с себя пропотевшую форму и нагишом топаешь за чистым полотенцем.
— Как сегодня игралось, Оливер?
— Нормально, Ричи. Классно, Джимми.
Потом под душ, дослушать, кто, с кем и сколько раз сделал это в субботу вечером. «Мы этих мочалок из Маунт-Иды приволокли, понимаешь?..» Я был в привилегированном положении — имел местечко для уединенных размышлений. Судьба благословила меня больным коленом (да, именно благословила — вы видели мой военный билет?), и после каждой игры мне полагался водный массаж. Сидя там и разглядывая свои синяки и ссадины (а они мне по-своему милы), я думал о чем-нибудь — или ни о чем. В тот вечер я думал о голе, который забил, о голе, который помог забить, и о том, что вот и закончился мой третий сезон в университетской сборной.
— Полощешь коленку, Оливер?
Это был Джеки Фелт, наш тренер и самозваный духовный наставник.
— А что я, по-твоему, делаю?
Фелт хмыкнул и расплылся в идиотской улыбке.
— Хочешь знать, что у тебя с коленкой? Сказать?
Я был у всех ортопедов на Восточном побережье, но Фелт, конечно, знал лучше.
— Это от неправильного питания.
Я не реагировал.
— И соли мало ешь.
Может, если ему подыграть, быстрее отстанет?
— О’кей, Джек. Буду есть больше соли.
Господи, как он был доволен. Отошел с видом невероятной удачи, так и читавшейся на его идиотском лице. Я снова остался один. Сполз всем своим приятно ноющим телом в бурлящую воду, закрыл глаза и долго сидел так, погруженный по шею.
Ах ты, черт! Ведь Дженни ждет на улице. Надеюсь, что ждет. Вот черт! Сколько времени я тут проболтался в тепле, пока она там мерзнет на улице. Я поставил новый рекорд скорости одевания и распахнул дверь центрального входа в Диллон.
На улице было чертовски холодно. Просто мороз! И темно. Неподалеку все еще болталась группа самых стойких болельщиков, главным образом бывших игроков нашей сборной, вроде старого Джордана Дженкса, который не пропускает ни одной игры команды — ни дома, ни на выезде. Как он успевает? Ведь он крупный банкир! И зачем это ему нужно?
— Что, Оливер, пришлось сегодня попотеть?!
— Да уж, мистер Дженкс. Сами видели, как они играют.
Я выискивал глазами Дженни. Неужели она одна отправилась в Рэдклифф пешком?
— Дженни!
Я отошел на несколько шагов от болельщиков, отчаянно озираясь по сторонам и выкрикивая ее имя. Внезапно она появилась из-за кустов, лицо упрятано в шарф, видны только глаза.
— Эй, подготовишка, здесь чертовски холодно.
Как же я был рад ее видеть!
— Дженни!
Как-то само собой я легко поцеловал ее в лоб.
— Я тебе разрешала? — спросила она.
— Что?
— Разве я разрешала тебе меня поцеловать?
— Извини. Увлекся.
— А я нет.
Мы были одни. Было темно, холодно и поздно. Я снова поцеловал ее. Но не в лоб и не легким поцелуем. Поцелуй был долгим, страстным и приятным. Когда он завершился, Дженни все еще держала меня за рукава.
— Мне это не нравится, — сказала она.
— Что?
— То, что мне это нравится.
Всю дорогу обратно (я был с машиной, но Дженни захотелось идти пешком) она держала меня за рукав. Не за руку, а за рукав. Не знаю, почему. У дверей общежития я не стал целовать ее на прощание.
— Знаешь, Дженни, может так получиться, что я не позвоню тебе несколько месяцев.
Она помолчала секунду. Несколько секунд. Наконец спросила:
— Почему?
— А может, позвоню, как только вернусь к себе.
Повернулся и быстро зашагал прочь.
— Гад! — проговорила она мне вслед.
Я обернулся:
— Что, Дженни, тебе можно, а другим нельзя?! Хотелось бы разглядеть выражение ее лица в этот момент, но нельзя было нарушать стратегические замыслы.
Мой сосед Рэй Страттон играл в покер с двумя своими приятелями-футболистами.
— Привет, зверье!
Они ответили соответствующе.
— Каковы сегодня успехи, Оливер?
— Гол и пас.
— С Кавиллери?
— Не ваше дело, — отрезал я.
— Кто такая? — полюбопытствовал один из бегемотов.
— Дженни Кавиллери, — объяснил Рэй. — Тощая такая, с музыкального.
— А, знаю, — сказал третий. — Лакомая жопка!
Игнорируя этих грубых и похотливых говнюков, я распутал телефонный шнур и понес аппарат к себе в спальню.
— Она играет на рояле в Баховском обществе, — сообщил Стрэттон.
— А во что она играет с Барреттом?
— Наверное, в ну-ка отними.
Ржанье, хрюканье, гогот. Я же говорю — скоты.
— Джентльмены! — заявил я на пороге. — В жопу вас всех.
Захлопнув дверь перед новой волной скотских воплей, я разулся, улегся на кровать и набрал номер Дженни. Мы разговаривали шепотом.
— Дженни!
— Да?
— Как ты прореагируешь, если я тебе скажу…
Я заколебался. Она ждала.
— Мне кажется… что я в тебя влюбился.
Снова молчание. Потом она ответила очень тихо:
— Говнюк ты, вот что я тебе скажу.
И повесила трубку.
Я не расстроился. И не удивился.
3
Меня ранили в игре с Корнелльским университетом.
Сам виноват. Во время острого момента я совершил роковую ошибку, обозвав их центрального нападающего «ебаным канадцем». Забыв, что в их команде четверо канадцев. Все патриоты, здоровые и с хорошим слухом. Так меня еще и удалили. И не на две минуты, а на пять — за драку. Слышали бы вы, как на это реагировали корнелльские болельщики, когда об этом объявили по стадиону. Из наших мало кто притащился в такую дыру. Тут в Итаке, штат Нью-Йорк, наших болельщиков было мало, хоть это и был решающий матч. Пять минут! Усаживаясь на скамейку штрафников, я видел, как рвет на себе волосы наш тренер.
Джеки Фелт примчался ко мне. Тут только я и обнаружил, что вся правая половина лица у меня превратилась в кровавое месиво. «Господи, — причитал он, пытаясь остановить кровь. — Господи, Оливер!»
Я сидел тихо, отрешенно глядя перед собой. Было стыдно смотреть на площадку — нам забросили шайбу. Счет стал равным. Более того, они вполне могли выиграть матч — а с ним и первенство. Черт возьми! Мне еще сидеть больше двух минут!
На противоположной трибуне, где сидели немногочисленные; гарвардцы, царило мрачное молчание. Обо мне забыли уже и свои, и чужие болельщики. Только один зритель по-прежнему не отрывал глаз от скамейки штрафников. Да, он был здесь. «Если совещание завершится вовремя, постараюсь приехать». Среди гарвардских болельщиков сидел — но, разумеется, не болел — Оливер Барретт III.
Молча и без эмоций наблюдал он за тем, как заклеивают пластырем последнюю кровоточащую ссадину на лице его единственного сына. О чем он думал в эту минуту?
«Оливер, если тебе так нравится драться, может, займешься боксом?»
«В Эксетере нет боксерской команды, отец».
«Наверное, мне не надо ходить на твои игры».
«Ты думаешь, я дерусь ради твоего удовольствия?»
«Я бы не стал употреблять слово „удовольствия“».
Хотя, кто знает, о чем он думает? Ведь Оливер Барретт III — это ходячая, иногда говорящая, гора Рашмор[2].
Может, он предавался сейчас своему обычному самолюбованию. Смотрите на меня! Здесь так мало гарвардских болельщиков, но один из них — я! Я, Оливер Барретт III, чрезвычайно занятой человек, мне надо банком управлять, но я нашел время приехать на этот дурацкий хоккейный матч. Как здорово! (Для кого?)
Толпа опять завопила, на этот раз громче — нам снова забили. С красным от злости лицом Дэйви Джонстон проехал мимо меня, даже не взглянув. Злой, а в глазах, кажется, слезы. Господи, помилуй! Я, конечно, понимаю, решающий матч и все такое, но слезы?!
Мы проиграли 3:6.
Сделанный после матча рентген показал, что сломанных костей нет, и доктор Ричард Зельцер наложил двенадцать швов мне на правую щеку. Джеки Фелт слонялся по кабинету, рассказывая корнелльскому врачу, что я неправильно питаюсь и что всего этого можно было избежать, если бы я принимал соляные пилюли. Доктор Зельцер его проигнорировал, а меня строго предупредил, что я едва не повредил «дно орбиты» (это такой медицинский термин) и что лучше бы мне не играть неделю. Я его поблагодарил, и он ушел, преследуемый по пятам Фелтом, который продолжал разглагольствовать о правильном питании. Наконец я остался один. Не спеша принял душ, стараясь не намочить пораненное лицо. Новокаин переставал действовать, но чувствовать боль было даже приятно. И то — ведь вся эта хуйня из-за меня произошла: и первое место просрали, и вообще дали себя победить, чего давно уже не случалось. Может, в этом не только я был виноват, но в тот момент я винил лишь себя.
В раздевалке никого не было. Наверно, все уже в мотеле. Ясное дело, никто не хочет меня видеть, не желает разговаривать. С отвратительным вкусом горечи во рту, — а мне было так хреново, что она действительно на вкус ощущалась, — я собрал вещички и вышел на улицу. Несколько гарвардских болельщиков всё еще были там, на ледяном ветру в северной части штата Нью-Йорк.
— Как твоя щека, Барретт?
— Ничего, нормально, мистер Дженкс.
— Наверно, бифштекс сейчас хочешь, — произнес другой знакомый голос. Это был Оливер Барретт Третий. Очень похоже на него — вспомнить наше старинное семейное средство от подбитого глаза — приложить кусок сырого мяса.
— Спасибо, отец, — сказал я. — Врач уже обо всем позаботился, — и прикоснулся пальцем к пластырю, под которым скрывались двенадцать наложенных швов.
— Да нет, сынок, я имею в виду, съесть.
За обедом у нас опять состоялся традиционно тупой обмен репликами, начиная с «Как дела, сынок?» и кон чая «Что я могу для тебя сделать?»
— Как дела, сынок?
— Нормально, отец.
— Скула болит?
— Нет. — А ведь болело всё сильнее.
— Давай, Джек Уэллс посмотрит тебя в понедельник.
— Да не надо, отец.
— Но ведь он специалист…
— Так ведь и корнуэлльский врач не ветеринар, перебил я его очередную снобистскую тираду о преимуществе специалистов, экспертов и прочих знатоков.
— Жаль, — сказал Оливер Барретт Третий, — у тебя зверские порезы.
Тут я подумал: может, это он так выражает неодобрение моим действиям на льду. Но сказал другое:
— Ты имеешь в виду, что я вел себя как зверь?
На лице у него появилось довольное выражение, потому что удалось спровоцировать меня на вопрос, но он лишь сказал:
— Это ты заговорил о ветеринарах.
Я решил внимательнее изучить меню.
К тому времени, когда принесли горячее, он уже начал свою новую дурацкую проповедь. О победах и поражениях. Сказал, что мы потеряли звание чемпионов (какое точное наблюдение, папочка!), но что вообще-то в спорте важнее не выигрывать, а участвовать. Всё это было подозрительно похоже на девиз Олимпийских игр, и, решив, что сейчас он перейдет на рассуждения о преимуществе Олимпиад перед такой ерундой, как первенство университетов, я быстренько его заткнул, повторяя как попка «Да, конечно» и «Точно, именно так».
Тогда он начал следующую свою любимую тему: мои планы.
— Скажи, Оливер, из Юридической школы тебе уже ответили?
— Вообще-то, отец, я еще не точно решил об этой школе.
— Я тебя не о том спрашиваю. Я спросил, что они в школе о тебе решили?
Очень остроумно. Может, мне еще улыбнуться надо?
— Нет, отец, они мне еще не ответили.
— Я мог бы позвонить Прайсу Циммерману.
— Нет! — я не дал ему договорить. — Пожалуйста, не делай этого.
— Не для того, чтобы повлиять, а просто так, поинтересоваться…
— Отец, я хочу, чтобы мне ответили письмом, как и всем остальным. Пожалуйста, не вмешивайся.
— Да. Конечно. Хорошо.
— Спасибо.
— И потом, тебя ведь почти наверняка примут и так, — добавил он.
Не знаю, как это у него получается, но Оливер Барретт Третий умеет унизить меня, даже когда хвалит.
— Совсем и не наверняка, — ответил я. — У них ведь там нет хоккейной команды.
Не знаю, чего это я себя унижал. Может, из чувства противоречия.
— У тебя есть и другие достоинства, — заявил Оливер Барретт Третий, но развивать эту тему не стал. (Да и сомневаюсь, что смог бы.)
Еда в ресторане была не лучше нашего разговора. Хотя я могу предсказать, что булочки будут черствыми, еще до того, как их принесут, но никогда не могу угадать, что захочет обсудить со мной отец.
— Кроме того, всегда можно вступить в Корпус мира, — сказал он ни с того, ни с сего.
— Чего? — Я даже не понял, вопрос это или утверждение.
— По-моему, Корпус мира — отличная вещь. Ты согласен?
— Ну, — ответил я, — во всяком случае лучше, чем Корпус войны.
Теперь мы были квиты. Я не понимал, что он имеет в виду, и наоборот. Значило ли это, что тема исчерпана и теперь мы перейдем к обсуждению других текущих проблем и правительственных программ? Нет. Я на мгновение забыл, что главнейший наш предмет — мои планы.
— Я бы не возражал, если бы ты вступил в Корпус мира.
— Я тоже, — сказал я, желая сравняться с ним в великодушии. Я знаю, он меня все равно никогда не слушает, и поэтому не удивился, что он пропустил мимо ушей мой тонкий сарказм.
— А среди твоих однокашников, — продолжал он, — какое к нему отношение?
— К кому?
— К Корпусу мира. Считают ли они, что он имеет какое-то значение в их жизни?
Похоже, слышать слова «да, отец» моему отцу так же необходимо, как рыбе — вода.
— Да, отец.
Яблочный пирог, даже он оказался черствым.
В половине двенадцатого я проводил его к машине.
— Я что-нибудь могу для тебя сделать, сынок?
— Нет, отец. Спокойной ночи.
И он уехал.
Да, между Бостоном и Итакой, штат Нью-Йорк, летают самолеты, но Оливер Барретт Третий предпочел приехать на машине. Не потому, что хотел выдать несколько часов за рулем за жест родительской заботы, нет. Просто он любит водить машину. Быстро водить. А в тот поздний час и на такой машине, как у него («Астон Мартин ДБС»), можно ехать чертовски быстро. Я не сомневался: Оливер Барретт Третий решил побить свой собственный рекорд скорости на маршруте Итака — Бостон, который он установил в прошлом году, после того как мы выиграли в финале у Корнелльского университета. Знаю: я видел, как он взглянул на часы перед отъездом.
Я вернулся в мотель, чтобы позвонить Дженни, и это была единственная хорошая вещь за весь вечер. Я рассказал Дженни про драку (не уточняя ее причину) и почувствовал, что история ей понравилась. Мало кто из ее утонченных друзей-музыкантов давал или получал по морде.
— Но ты, по крайней мере, прикончил того типа, который тебя ударил? — спросила она.
— Да, абсолютно.
— Жаль, я не видела. Может, побьешь кого-нибудь на матче в Йеле, а?
— Обязательно.
Я улыбнулся. Как она любила простые развлечения.
4
— Дженни на телефоне внизу, — сообщила мне в понедельник вечером дежурившая на входе в общежитие студентка, хотя я не успел назвать ни себя, ни цели своего визита. Очко в мою пользу, решил я. Наверняка она читает «Кримсон» и знает, кто я такой. Ну, да ладно, это мне привычно. Важнее то, что Дженни не скрывает, что встречается со мной.
— Спасибо, — сказал я. — Подожду здесь.
— Жалко, что в Корнелле так получилось, — сказала дежурная. — «Кримсон» пишет, на тебя сразу четверо набросились.
— Точно. А потом меня же и удалили. На пять минут.
— Ага…
Разница между знакомым и болельщиком та, что с последним через минуту уже не о чем говорить.
— Дженни все еще на телефоне?
— Да, — ответила она, взглянув на коммутатор.
Интересно, с кем она говорит, отнимая время, выделенное ею на свидание со мной? С кем-нибудь из своих музыкантов? Я знал, что некий Мартин Дэвидсон, студент последнего курса Адамс-колледжа и дирижер оркестра Баховского общества, претендует на исключительное внимание Дженни. На ее тело он не претендовал; он вообще ничего не мог поднять, кроме дирижерской палочки. Но все равно, пора прекратить его посягательства на отведенное мне время.
— А где этот телефон, который внизу?
— Там за углом, — она показала, где.
Я еще издали увидел Дженни. Дверь будки она оставила открытой. Я шел медленно, надеясь, что она заметит меня, увидит все мои бинты и раны и, бросив трубку, кинется в мои объятья. Приблизившись, я уже мог разобрать обрывки ее разговора.
— Да, конечно! Обязательно. Я тоже, Фил. Я тоже тебя люблю, Фил!
Я остановился. С кем она говорит? Это не Дэвидсон — того зовут не Фил. Я уже давно проверил его по нашему справочнику: Мартин Юджин Дэвидсон. Высшая школа музыки и искусств. Домашний адрес: Нью-Йорк, Риверсайд-драйв, 70. Судя по фотографии, чувствительный и интеллигентный юноша, весит килограммов на двадцать пять меньше меня. Но зачем я думаю об этом Дэвидсоне? И он, и я брошены Дженнифер Кавиллери ради кого-то, кому она в этот момент (ну и сучка!) признается в любви и посылает поцелуи по телефону.
Отсутствовал всего сорок восемь часов, и уже какой-то говнюк по имени Фил забрался к ней в постель (так, наверное, и есть!).
— Да, Фил, я тебя тоже люблю.
Вешая трубку, она, наконец, заметила меня и, даже не покраснев, улыбнулась и послала воздушный поцелуй. Потом чмокнула меня в здоровую щеку.
— Слушай, ты ужасно выглядишь!
— Я ранен, Дженни!
— Но ведь тот парень выглядит еще хуже?
— Да, и намного. Мои соперники всегда выглядят хуже. Я сказал это как можно более зловеще, намекая, что вышибу мозги любому сопернику, который залезет к ней в постель, пока меня по моей же глупости нет рядом. Она ухватила меня за рукав, и мы направились к двери.
— Пока, Дженни, — сказала дежурная.
— Пока, Сара-Джейн, — отозвалась Дженни.
Когда мы вышли на улицу и уже собирались сесть в мою машину, я набрал в легкие побольше вечернего воздуха и как можно небрежнее спросил:
— Слушай, Дженни…
— Да?
— Э-э… Кто этот Фил?
Она ответила мне, садясь в машину:
— Мой отец.
Так я и поверил.
— Ты зовешь своего отца «Фил»?
— Да, это его имя. Как ты зовешь своего?
Дженни как-то уже говорила мне, что ее воспитал отец и что он держит пекарню в Крэнстоне, штат Род-Айленд. Мать погибла в автомобильной катастрофе, когда Дженни была совсем маленькой. Все это она рассказала мне, объясняя, почему у нее нет водительских прав. Ее отец — во всех других отношениях «отличный парень» (по ее словам) — стал ужасно суеверен и не давал своей единственной дочери водить машину. Ей это сильно мешало в последних классах школы, когда она стала брать уроки фортепиано в Провиденсе. Зато в долгих автобусных поездках она успела прочесть всего Пруста.
— Так как же ты зовешь своего? — повторила она свой вопрос.
Я думал совсем о другом и не понял вопроса.
— Кого своего?
— Каким термином ты пользуешься для обозначения своего родителя?
Я назвал термин, который всегда вертелся у меня на языке.
— Сукин Сын.
— Прямо в лицо? — не поверила она.
— Я никогда не вижу его лица.
— Он носит маску?
— Да, пожалуй. Каменную. Всю из камня.
— Да перестань, он наверняка чертовски гордится тобой. Ты ведь знаменитый гарвардский спортсмен.
Я быстро взглянул на нее. Похоже, она многого не знает.
— Он тоже был знаменитым спортсменом, Дженни.
— Сильнее, чем ты?
Мне нравилось, что она такого высокого мнения о моих спортивных достижениях. Жаль, что придется уценить себя, рассказав ей об успехах отца.
— Он участвовал в финальном заезде байдарок-одиночек на Олимпийских играх 1928 года.
— Ничего себе! — сказала она. — И выиграл?
— Нет, — ответил я. И она, по-моему, догадалась, что меня несколько утешает тот факт, что в финале отец был только шестым.
Мы немного помолчали. Теперь Дженни, наверное, поймет, что быть Оливером Барреттом Четвертым — это значит не только жить рядом с серым каменным зданием в Гарвардском университетском городке. Это еще и тяжелый физический гнет. Гнет чужих спортивных достижений. Я имею в виду — надо мной.
— Но что он такого сделал, чтобы заслужить звание сукиного сына? — спросила Дженни.
— Он меня заставляет.
— Как это?
— Ну, заставляет, — повторил я.
Глаза у нее стали как два блюдца.
— Ты имеешь в виду инцест? — спросила она.
— Это твои проблемы, Дженни. Мне своих хватает.
— Каких, Оливер? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он тебя заставляет?
— Заставляет делать правильные вещи.
— А что неправильного в правильных вещах? — спросила она, и сама обрадовалась от получившейся игры слов.
Я ответил, что ненавижу, когда меня программируют на продолжение барреттовской традиции — да она и сама должна была это понять, видя, как я морщусь, когда мне приходится после имени называть свои порядковый номер. И еще мне не нравится, что каждый семестр я обязан выдавать энное количество академических успехов.
— Ну конечно, — сказала Дженни с нескрываемым сарказмом. — Я уже заметила, как тебе не нравится получать высшие оценки и играть за сборную…
— Я ненавижу, что отец ожидает от меня только успехов. — Я никогда раньше этого не говорил (хотя всегда думал) и сейчас чувствовал себя чертовски неловко; но мне надо было объяснить Дженни все. — А он даже бровью не поведет, когда мне действительно что-то удается. Он абсолютно все принимает как само собой разумеющееся.
— Но он же занятой человек. Ему ведь надо управлять всеми этими банками и много чем еще.
— Господи, Дженни, на чьей ты стороне?
— А это что, война? — спросила она.
— Безусловно.
— Но это же смешно, Оливер.
Похоже, я ее совершенно не убедил. Тогда-то я и заподозрил, что у нас с нею расхождения во взглядах на жизнь. С одной стороны, три с половиной года в Гарварде и Рэдклиффе превратили нас обоих в самоуверенных интеллектуалов, которых обычно и производят эти университеты. Но когда дело доходило до того, чтобы признать, что мой отец сделан из камня, она цеплялась за какие-то атавистические итальянско-средиземноморские понятия типа «папа любит своих деток», и спорить не о чем.
Я попытался привести наглядный пример. Наш дурацкий «антиразговор» с отцом после матча в Корнелле. Рассказ явно произвел на нее впечатление. Но абсолютно не то, на которое я рассчитывал.
— Так он специально приехал из Бостона в Итаку ради какого-то дурацкого хоккейного матча?
Я попытался объяснить ей, что мой отец — это сплошная форма и никакого содержания. Но она оставалась под впечатлением того, что он проделал столь долгий путь ради такого (относительно) заурядного спортивного события.
— Слушай, Дженни, давай оставим это, ладно?
— Слава богу, что ты так зациклен на своем отце, — сказала она. — Это означает, что тебе еще далеко до совершенства.
— Хочешь сказать, что ты совершенство?
— Конечно, нет, подготовишка. Разве я стала бы тогда с тобой встречаться?
Опять все сначала.
5
Хочу сказать пару слов о наших интимных отношениях.
Удивительно долго их не было вовсе. То есть ничего более серьезного, чем те несколько поцелуев, о которых я уже рассказал (и которые до сих пор помню в мельчайших подробностях). Это было для меня нетипично — по природе я горяч, нетерпелив и предприимчив. Если бы кто-нибудь сказал любой из доброго десятка девиц в Тауэр-корт, Уэллесли, что Оливер Барретт Четвертый ежедневно в течение трех недель встречается с девушкой, но ни разу не переспал с ней, она бы наверняка рассмеялась и подвергла сомнению женские достоинства этой особы. Но, разумеется, дело, было не в этом.
Я не знал, как действовать.
Только не надо понимать меня слишком буквально. Я знал все ходы. Но не мог справиться с собственными чувствами и сделать эти ходы. Дженни была так умна, что я боялся, что она просто рассмеется над тем, что я привык считать изысканно-романтичным (и неотразимым) стилем Оливера Барретта Четвертого. Да, я боялся, что она отвергнет меня. Или примет, но не по тем причинам, по которым я хотел, чтобы она меня приняла. Всеми этими путаными объяснениями я хочу сказать одно: мои чувства к Дженни были иными. Я не знал, как сказать ей об этом, и совета спросить было не у кого.
(«Надо было спросить у меня!» — скажет она потом.)
Я ощущал эти чувства. К ней. Ко всему в ней и вокруг нее.
— Ты завалишь экзамен, Оливер.
Мы сидели у меня в комнате в воскресенье днем и занимались.
— Оливер, ты завалишь экзамен, если будешь просто сидеть и смотреть, как занимаюсь я.
— Никуда я не смотрю, я занимаюсь.
— Не ври. Ты разглядываешь мои ноги.
— Только иногда. В начале каждой главы.
— Что-то уж очень короткие главы в твоей книге.
— Слушай, самовлюбленная красотка, не так уж ты хороша.
— Я знаю. Но что я могу поделать, если ты думаешь иначе.
Я отбросил книгу и подошел к ней.
— Дженни, ну как я могу читать Джона Стюарта Милля, если каждую секунду умираю от желания заняться с тобой любовью.
Она нахмурилась.
— Оливер, прошу тебя!
Я присел на корточки рядом с ее стулом. Она снова уставилась в книгу.
— Дженни…
Она тихо закрыла книгу, отодвинула ее и положила руки мне на плечи.
— Оливер, прошу тебя…
Тут-то все и произошло. Все.
Наша первая физическая близость была полярной противоположностью нашему первому разговору. Все было так неторопливо, так тихо, так нежно. Я и не догадывался, что это и была настоящая Дженни, ласковая Дженни, чьи прикосновения так легки и любовны. Но по-настоящему я удивился самому себе. Я тоже был нежен. Я был ласков. Неужели это и был настоящий Оливер Барретт Четвертый?
Я уже упоминал, что ни разу не видел хоть одной расстегнутой пуговицы на кофточке у Дженни. И удивился, обнаружив, что она носит маленький золотой крестик. На цепочке, которую не снять. Так что когда мы занимались любовью, крестик оставался на ней. Когда мы отдыхали тем чудесным днем, когда кажется, что ничего больше не имеет значения и в то же время значения исполнено все, я прикоснулся к этому крестику и спросил, что сказал бы ее священник, узнав, что мы с ней в одной постели. Она ответила, что у нее нет священника.
— Разве ты не добропорядочная католическая девушка?
— Я девушка, — ответила она. — И добропорядочная.
Она посмотрела на меня, ожидая подтверждения, и я улыбнулся. Она улыбнулась в ответ.
Так что два пункта из трех. Тогда я спросил ее, почему она носит крестик, да еще на запаянной цепочке. Она объяснила, что это крестик ее матери и носит она его по причинам сентиментальным, а не религиозным.
Разговор снова вернулся к нашим отношениям.
— Слушай, Оливер, я уже сказала, что люблю тебя?
— Нет, Дженни.
— Почему же ты меня не спросил?
— Боялся, если честно.
— Спроси сейчас.
— Ты любишь меня, Дженни?
Она посмотрела на меня и без всякого кокетства ответила вопросом на вопрос:
— А ты как думаешь?
— Да, наверное. Может быть.
Я поцеловал ее в шею.
— Оливер?
— Что?
— Я тебя не просто люблю… Господи, ну что еще?
— Я тебя очень люблю, Оливер.
6
Мне нравится Рэй Страттон.
Может, он не гений и не великий футболист (скорости не хватает), но он хороший сосед по комнате, верный друг. Как же он, бедолага, страдал весь наш последний курс! Куда он шел заниматься, когда видел свисающий с дверной ручки галстук (традиционный знак, что комната занята)? Конечно, он не все время занимался, но что-то надо было делать. Допустим, он мог пойти в библиотеку, или в Ламонт, или даже в клуб. Но где он спал в те ночи с субботы на воскресенье, когда мы с Дженни, нарушая университетские порядки, оставались у меня до утра? Рэй вынужден был искать место, где бы прикорнуть, хотя бы на соседском свободном диване если, конечно, там было свободно. Хорошо хоть, что футбольный сезон уже кончился. Ну и, конечно, я бы сделал для него то же самое.
А какая Рэю награда? В прежние времена я делился с ним мельчайшими подробностями своих любовных успехов. Зато теперь он не только был напрочь лишен этого неотъемлемого права соседа по комнате, я даже ни разу не признался в открытую, что мы с Дженни любовники. Я просто давал ему знак, когда нам понадобится комната. Пусть сам догадывается, зачем.
— Черт побери, Барретт, так вы с ней этим занимаетесь или нет? — допытывался он.
— Рэймонд, я тебя как друга прошу — не спрашивай.
— Но черт побери, Барретт, но ведь и днем по будням, и по ночам в пятницу и субботу!.. Наверняка вы с ней этим занимаетесь.
— Что тогда спрашиваешь, Рэй?
— Потому что это вредно для здоровья.
— Что именно?
— Да все! Вся эта ситуация. Раньше ведь так не было?! Раньше ты дядю Рэя уважал, все детали ему выкладывал. А так — несправедливо, тут что-то нездоровое. Черт возьми, что в ней есть такого, чего нет в других?
— Послушай, Рэй. Это зрелая любовь.
— Любовь?
— Не произноси это слово, как ругательство.
— Любовь? В твоем возрасте? Мне страшно за тебя.
— Почему? Боишься, что я свихнусь?
— Боюсь за твое холостяцкое состояние. За твою свободу. За твою жизнь!
Бедный Рэй. Он действительно обеспокоен.
— Ты что, боишься потерять соседа по комнате?
— Выдумал еще[3], потерять? Да мне еще одна досталась, вечно тут торчит!
Я как раз одевался идти на концерт, пора было завершать это обсуждение.
— Не мучайся, Рэй. Снимем квартиру в Нью-Йорке, будем менять девочек каждую ночь. Все перепробуем.
— Как же не мучаться? Я же вижу. Она тебя окрутила.
— Все под контролем, — сказал я. — Расслабься. Поправляя галстук, я направился к двери. Но Рэй не мог угомониться.
— Эй, Оливер!
— Ну?
— Так ты ее трахаешь?
На этот концерт не я пригласил Дженни. А она меня. Она в нем участвовала. Оркестр Баховского общества исполнял Пятый Бранденбургский концерт, и она солировала на клавесине. Конечно, я часто видел, как она играет, но никогда — с оркестром или на публике. Я так ею гордился! И по-моему, она ни разу не ошиблась.
— Ты великий музыкант, — сказал я ей после концерта.
— Сразу видно, как ты разбираешься в музыке, подготовишка.
— Достаточно.
Мы были во дворе Данстерского колледжа. Стоял один из тех апрельских вечеров, когда начинаешь верить, что весна, наконец, доберется и до Кембриджа. Ее приятели-музыканты прохаживались поблизости (включая и Мартина Дэвидсона, который забрасывал меня невидимыми снарядами ненависти), и поэтому я не мог спорить с Дженни о тонкостях игры на клавишных.
Мы решили прогуляться по берегу реки.
— Протри глаза, Барретт. Я играю хорошо. Не отлично. И даже не на уровне университетской сборной. Просто хорошо. Понятно тебе?
Как с ней спорить, если она решила принизить себя?
— Понял. Ты играешь хорошо. Так и действуй.
— А кто сказал, что я не буду продолжать? Поэтому я и собираюсь заниматься у Нади Буланже.
О чем это она говорит? По тому, как она осеклась, я сразу понял, что она сказала больше, чем хотела.
— У кого?
— У Нади Буланже. Знаменитая учительница музыки. В Париже.
Последнее слово она произнесла довольно невнятно.
— В Париже? — медленно повторил я.
— Она набирает очень мало учеников из Америки. Мне повезло. И стипендия хорошая.
— Дженнифер… Ты едешь в Париж?
— Я никогда не была в Европе. И жду не дождусь.
Я схватил ее за плечи. Может, слишком грубо, не знаю.
— И давно ты это решила?
Единственный раз в жизни она не смогла посмотреть мне прямо в глаза.
— Оливер, не будь дураком! — сказала она. — Это неизбежно.
— Что неизбежно?
— Окончим университет, и каждый пойдет своей дорогой. Ты в юридическую школу…
— Постой, постой. Что ты такое говоришь?
Теперь она посмотрела мне в глаза. Лицо ее было печально.
— Оливер, ты миллионер, а я социальный ноль.
Я все еще держал ее за плечи.
— А при чем здесь свои дороги? Мы вместе. Мы счастливы.
— Да ладно тебе придуриваться — повторила она. — Гарвард — это как мешок с подарками Санта-Клауса. Туда можно засунуть любую игрушку. Но когда Новый год прошел… — она запнулась, — надо возвращаться по домам.
— Ты хочешь сказать, что собираешься печь булки у папы в Крэнстоне?
Я был в отчаянии.
— Пирожные, — поправила она. — И не надо смеяться над моим отцом.
— Тогда не оставляй меня, Дженни. Пожалуйста.
— А моя стипендия? А Париж, которого я, черт побери, ни разу в жизни не видела?
— А как же наша свадьба?
Эти слова произнес я, хотя на какую-то долю секунды сам засомневался.
— Кто говорит о свадьбе?
— Я говорю.
— Ты хочешь жениться на мне?
Склонив голову набок, она без всякой улыбки спросила:
— Почему?
Я смотрел ей в глаза.
— Потому.
— А-а, — сказала она. — Это очень хорошая причина.
Она взяла меня за руку (а не за рукав, как раньше), и мы пошли вдоль реки. Говорить больше было не о чем.
7
Город Ипсвич, штат Массачусетс, находится в сорока минутах езды или около того от нашего моста через реку — зависит от погоды и скорости. Мне несколько рад удавалось уложиться в двадцать девять. Один почтенный банкир из Бостона утверждает, что проехал еще быстрее, однако когда речь заходит о том, что кто-то преодолел расстояние от университета до имения Барреттов меньше, чем за тридцать минут, становится трудно отделить факты от фантазий. Ведь и на шоссе № 1 есть светофоры. Лично я считаю двадцать девять минут абсолютным пределом.
— Ты несешься как маньяк, — сказала Дженни.
— Это Бостон, — ответил я. — Здесь все маньяки. — В этот момент мы остановились у светофора.
— Мы разобьемся еще до того, как нас прикончат твои родители.
— Мои родители, Дженни, прекрасные люди.
Зажегся зеленый свет, и меньше чем через десять секунд мы снова ехали со скоростью шестьдесят миль в час.
— Даже Сукин Сын?
— Кто?
— Оливер Баррет Третий.
— Он славный малый. Тебе сразу понравится.
— Откуда ты знаешь?
— Он всем нравится, — ответил я.
— А почему же тебе не нравится?
— Потому что всем нравится.
Зачем я вообще повез ее к нам? Что, мне нужно было его благословение? Но, во-первых, Дженни сама захотела («так полагается, Оливер»), а во-вторых, по той простой причине, что Оливер номер три был моим банкиром в прямом смысле этого слова: он платил за мое обучение.
Значит, должен быть воскресный обед. Так полагается.
Наконец я свернул на Гротон-стрит, по которой гонял с тринадцати лет, не притормаживая на поворотах.
— Тут же нет домов, — сказала Дженни, глядя по сторонам. — Одни деревья.
— Дома за деревьями.
Когда едешь по Гротон-стрит, надо глядеть в оба, иначе проскочишь свой поворот. Так и случилось в тот день. Проехав лишних триста метров, я резко затормозил.
— Где мы? — спросила Дженни.
— Проехал, — пробурчал я, добавив несколько нецензурных слов.
Разве не символично, что я триста метров ехал задом, чтобы попасть домой? Так или иначе, оказавшись на земле Барреттов, я сбавил скорость. От Гротон-стрит до фамильного особняка Довер-хаус почти километр. По дороге к нему проезжаешь другие здания. Наверное, впечатляет, когда едешь первый раз.
— Вот это да! — ахнула Дженни.
— В чем дело, Дженни?
— Стой, Оливер! Останови машину. Я не шучу.
Я остановился. Дженни сидела, вцепившись руками в сиденье.
— Слушай, я же не представляла, что тут все такое.
— Какое такое?
— Такое… такое богатство. Держу пари, у вас и крепостные есть, или даже рабы.
Я хотел прикоснуться к ней, но почувствовал, что у меня влажные ладони (обычно так не бывает), и решил успокоить ее словами.
— Успокойся, Дженни. Все будет в порядке.
— Вполне возможно, только мне вдруг захотелось, чтобы меня звали не Дженни Кавиллери, а что-нибудь вроде Абигейл Адамс, и чтобы я была белокожей протестанткой англо-саксонских кровей.
Остаток пути мы проехали молча и, выйдя из машины, направились к парадному входу. Я позвонил. Пока мы ждали, когда нам откроют, Дженни снова ударилась в панику.
— Давай убежим!
— Нет. Останемся и будем сражаться, — твердо сказал я, подозревая, что она не шутит.
Открыла нам Флоренс, старая и преданная служанка семейства Барреттов.
— А, мастер Оливер, — приветствовала она меня.
Господи, до чего я ненавижу, когда меня так называют, унизительно подчеркивая неравенство между мной и отцом.
Флоренс сообщила, что родители ждут нас в библиотеке. Дженни была явно смущена развешанными по стенам фамильными портретами. И потому, что некоторые из них принадлежали кисти Джона Сингера Сарджента (в частности, Оливер Баррет И, которого изредка выставляли в Бостонском музее), но и потому еще, что вдруг осознала: не все мои предки носили имя Барретт. Представительницы женской линии рода Барреттов, обретшие достойных супругов, произвели на свет таких людей, как Барретт Уинтроп, Ричард Барретт Сьюэлл и, наконец, Эббот Лоуренс Лаймен, который сумел прожить жизнь и стать химиком и Нобелевским лауреатом, не имея в своем имени ни малейшего намека на принадлежность к клану Барреттов.
— Боже всемилостивый, — бормотала Дженни. — Здесь висят названия половины гарвардских зданий.
— Это все ерунда, — сказал я.
— Я не знала, что ты состоишь в родстве даже со Сьюэллской лодочной станцией.
— Да уж, камней и бревен в моем роду вдоволь.
В конце длинной портретной галереи, перед самым поворотом к библиотеке, стоит большая стеклянная витрина. В ней хранятся трофеи. Спортивные трофеи.
— Они великолепны, — воскликнула Дженни. — Никогда не видела, чтоб эти штуки были так похожи на настоящее золото и серебро.
— Это и есть золото и серебро.
— Вот здорово! Это твои?
— Нет. Его.
Известно, что Оливер Баррет III не завоевал олимпийской медали в Амстердаме. Однако он добился внушительных побед в гребном спорте на других соревнованиях. На нескольких. На многих. Хорошо начищенные доказательства его успехов находились перед ошеломленным взором Дженни.
— Да, за боулинг таких не дают.
Потом она бросила кость и мне.
— А у тебя есть призы?
— Есть.
— Тут, под стеклом?
— Нет. У меня в комнате. Под кроватью.
Она одарила меня своим взглядом и прошептала:
— Потом покажешь, ладно?
Не успел я ответить или хотя бы оценить истинные мотивы ее предложения осмотреть мою кровать, как нас прервали.
— А, вот и вы.
Сукин Сын. Это был он.
— Здравствуйте, сэр, — ответил я. — Это Дженнифер…
— А, привет, привет.
Я еще не успел ее представить, а он уже жал ей руку. Я заметил, что сегодня он не в банкирской униформе. Совсем нет. Оливер Барретт Третий вырядился в элегантный кашемировый блейзер. А на лице, обыкновенно похожем на каменную маску, играла коварная улыбка.
— Входите, прошу вас, и познакомьтесь с миссис Барретт.
Дженни ожидало еще редкостное удовольствие — встреча с Элисон Форбс Барретт, школьная кличка Пьянчужка. (Иногда я спрашивал себя, какую роль могло бы сыграть в ее жизни полученное в пансионе прозвище, не стань она с годами серьезной благодетельной дамой, попечительницей музея.) Колледжа «Пьянчужка» Форбс так и не окончила, бросив его на втором курсе с полного благословения родителей, чтобы выйти замуж за Оливера Барретта III…
— Моя жена Элисон, а это — Дженнифер э-э…
Он уже узурпировал право представлять Дженни.
— Калливери, — закончил я, пользуясь тем, что он не знал ее фамилии.
— Кавиллери, — вежливо поправила Дженни. Я переврал ее фамилию — в первый и единственный раз в жизни.
— Как в опере «Cavalleria Rusticana»? — спросила моя мать, желая, видимо, показать, что, несмотря на незаконченное высшее образование, женщина она культурная.
— Правильно, — улыбнулась Дженни. — Но мы не родственники.
— A-а… — сказала моя мать.
— A-а… — сказал мой отец.
Мне оставалось добавить свое «а-а» и гадать, дошел ли юмор Дженни до моих родителей.
Мать и Дженни пожали друг другу руки, и, после обычного обмена банальностями, дальше которого у нас в доме дело не шло, мы сели. Все молчали. Я пытался понять, что происходит. Мать, конечно, оценивает Дженни и ее костюм (на этот раз без всякой богемности), ее манеру держаться, ее произношение. Надо признать, крэнстонский говор оставался у Дженни всегда.
Дженни, наверное, тоже оценивала мою мать. Мне говорили, девушки часто так делают, желая лучше узнать человека, за которого они собираются замуж. Не исключено, что она оценивала и Оливера III. Заметила ли она, что он выше меня ростом? Понравился ли ей его кашемировый пиджак?
Оливер III, как всегда, сосредоточил огонь на мне.
— Как дела, сын? (Он был бесподобный собеседник.)
— Прекрасно, сэр, прекрасно.
Как бы желая поддержать равновесие, мать обратилась к Дженни:
— Вы хорошо доехали?
— Да, — ответила Дженни. — Хорошо и быстро.
— Оливер всегда водит очень быстро, — вставил отец.
— Не быстрее тебя, — парировал я.
Ну, что он на это скажет?
— Да, пожалуй, что так.
Спорим, что нет.
Мать, которая всегда на его стороне, перевела разговор на более общую тему — то ли на музыку, то ли на живопись, — я не очень внимательно слушал. Потом у меня в руках оказалась чашка чаю.
— Спасибо, — сказал я и добавил: — Мы скоро поедем.
— Как это? — не поняла Дженни. Они, кажется, обсуждали Пуччини или еще кого-то в этом роде и потому сочли мое замечание несколько неожиданным. Мать посмотрела на меня (редкое событие):
— Но вы же приехали на обед?
— Ну, мы не сможем, — сказал я.
— Да, конечно, — почти одновременно сказала Дженни.
— Мне надо вернуться, — серьезно сказал я Дженни.
Дженни посмотрела на меня с немым вопросом: «О чем ты говоришь?».
— Вы остаетесь обедать, это приказ.
Фальшивая улыбка на лице отца ничуть не смягчила командирского тона. Но я этого не потерплю даже от олимпийского финалиста.
— Мы не сможем, сэр, — повторил я.
— Но мы должны, Оливер, — сказала Дженни.
— Почему? — спросил я.
— Потому что я хочу есть, — ответила она.
Мы сидели за столом, покорные воле Оливера III. Он склонил голову. Мать и Дженни последовали его примеру. Я тоже чуть-чуть опустил голову.
— Благослови пищу нашу и нас во служение Тебе и наставь нас всегда помнить о нуждах и желаниях иных слуг Твоих. Об этом молимся во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Господи помилуй, я чуть сквозь землю не провалился. Неужели хоть на сей раз нельзя было обойтись без набожности? Что подумает Дженни? Как будто в Средние века вернулись, честное слово!
— Аминь! — сказала мать (и Дженни тоже, очень тихо).
Мы ели не в полном молчании лишь благодаря замечательной способности моей матери вести светскую беседу..
— Так ваш род из Крэнстона, Дженни?
— По большей части. Мать была из Фолл-Ривера.
— У Барреттов есть заводы в Фолл-Ривере, — заметил Оливер III.
— Где они эксплуатировали целые поколения бедняков, — добавил Оливер IV.
— В девятнадцатом веке, — добавил Оливер III.
Мать улыбнулась, явно довольная, что этот раунд выиграл ее Оливер. Но не тут-то было.
— А как насчет планов автоматизировать эти самые заводы? — нанес я ответный удар.
Последовала короткая пауза. Я ждал резкого возражения.
— А как насчет кофе? — произнесла Элисон Форбс Барретт по кличке «Пьянчужка».
Мы перешли в библиотеку, где должен был состояться последний раунд. У нас с Дженни завтра занятия, отцу идти в банк и тому подобные учреждения, у матери наверняка запланировано какое-нибудь блестящее мероприятие.
— С сахаром, Оливер? — спросила она.
— Оливер всегда пьет кофе с сахаром, дорогая, — сказал отец.
— Но не сегодня, спасибо, — ответил я. — Без молока и без сахара, мама.
Ну вот, у каждого своя чашка, все уютно устроились, а сказать друг другу абсолютно нечего. И тут я придумал тему для разговора.
— Скажи, Дженнифер, что ты думаешь о Корпусе мира? — поинтересовался я.
Она нахмурилась и отказалась мне подыгрывать.
— Так ты еще не сказал им, Оливер? — воскликнула мать, обращаясь к отцу.
— Сейчас не время, дорогая, — сказал Оливер III с фальшивым смирением, которое так и просило: «Спросите меня, спросите!» Ну я и спросил.
— О чем речь, отец?
— Да ничего особенного, сын.
— Не понимаю, как ты можешь так говорить, — сказала мать (я же предупреждал, она всегда, на его стороне) и, повернувшись ко мне, сообщила потрясающую новость:
— Твой отец будет директором Корпуса мира!
О! — сказал я.
Дженни тоже сказала «О!», но другим, более радостным тоном.
Отец притворился смущенным, а мать, кажется, ждала, что я ему поклонюсь или еще что-нибудь в этом роде. Но его же не государственным секретарем назначили, в конце концов?!
— Поздравляю вас, мистер Барретт! — взяла на себя инициативу Дженни.
— Да, поздравляю, сэр, — сказал я.
Матери так хотелось об этом поговорить.
— Я думаю, это будет замечательный опыт в области образования, — произнесла она.
— Да, конечно, — согласилась Дженни.
— Да, — сказал я без особого убеждения. — А ты не передашь мне сахар, мама?
8
— Дженни, его же не государственным секретарем назначили, в конце концов.
— И все-таки, Оливер, у тебя могло бы быть побольше энтузиазма.
— Я же его поздравил.
— Очень великодушно с твоей стороны!
— Черт возьми, а ты чего ждала?
— Господи, меня просто тошнит от всего этого.
— Меня тоже, — ответил я.
Мы долго ехали, не говоря ни слова. Но что-то тут было не то.
— От чего это «от всего» тебя тошнит?
— От того, как ты отвратительно обращаешься со своим отцом.
— А как насчет того, что он со мной отвратительно обращается?
И тут началось! Всей своей мощью Дженни набросилась на меня в защиту родительской любви. Все эти итальянско-средиземноморские взгляды. И что у меня нет к нему ни капли уважения.
— Ты все время ему хамишь и хамишь, все время!
— Он мне тоже, Дженни. Или ты не заметила?
— Я уверена, ты ни перед чем не остановишься, только бы достать старика.
— Достать Оливера Барретта Третьего невозможно…
И после короткой паузы она добавила:
— Разве только женившись на Дженнифер Кавиллери…
У меня хватило выдержки свернуть на стоянку какого-то рыбного ресторана у дороги. Выключив двигатель, я в бешенстве повернулся к Дженни.
— Ты действительно так думаешь?
— Отчасти, наверное, да, — сказала она очень тихо.
— Дженни, ты не веришь, что я люблю тебя?! — крикнул я.
— Верю, — ответила она по-прежнему тихо. — Но каким-то сумасшедшим образом ты любишь и мое низкое общественное положение.
Я ничего не мог придумать, что сказать, кроме «нет». Я повторил это несколько раз с различными интонациями. Ну, то есть я так расстроился, что даже задумался, нет ли доли правды в ее отвратительном предположении?
На нее тоже жалко было смотреть.
— Я не могу судить, Оливер. Но думаю, что отчасти это так. Я ведь тоже люблю не только тебя самого. Но и твое имя. Твой порядковый номер.
Она отвернулась, и я подумал: уж не собирается ли она заплакать? Но она не заплакала, а завершила свою мысль:
— Ведь все это тоже часть тебя.
Я посидел, глядя на неоновую надпись «Устрицы и мидии». Больше всего я любил в Дженни ее умение заглянуть внутрь меня, понять вещи, которые самому мне не было нужды облекать в слова. Вот как сейчас. Но хватит ли у меня духу посмотреть правде в глаза и признать, что я не совершенен? Ведь она-то увидела и мое несовершенство, и свое. Господи, каким недостойным я себя чувствовал!
Я не знал, что сказать.
— Хочешь устриц или мидий, Дженни?
— А хочешь в зубы, подготовишка?
— Хочу, — сказал я.
Она сжала кулак и размахнулась, а потом легонько прижала его к моей щеке. Я поцеловал его и потянулся к ней, но она уперлась рукой мне в грудь и рявкнула, как сущий бандит:
— Веди машину, подготовишка! Живо за руль! Жми!
Так я и сделал.
Главный пункт беспокойства моего отца касался того, что он считал излишней торопливостью. Спешкой. Нетерпением. Я забыл его точные слова, но помню смысл проповеди, которую он мне прочел за обедом в Гарвард-Клубе — речь главным образом шла о том, что я спешу. Я вежливо напомнил ему, что я уже взрослый человек и что ему не следует исправлять мое поведение или даже комментировать его. Однако он заявил, что даже мировым лидерам нужна время от времени конструктивная критика. Я счел это не слишком тонким намеком на его участие в первом правительстве Рузвельта… Но я не собирался давать ему повод для воспоминаний о Ф. Д. Рузвельте и о его роли в реформировании Банка США. Поэтому я промолчал.
Как я уже сказал, мы обедали в бостонском Гарвард-Клубе, и я, по его словам, ел слишком быстро. А это значит, что вокруг были сплошь его люди. Его однокашники, его клиенты, его обожатели и т. д. Все подстроено, сомнений тут не было. Если прислушаться, можно было разобрать, как они бормочут: «Вот идет Оливер Барретт!», или: «Это Барретт, знаменитый атлет».
Между нами происходил очередной раунд псевдоразговора. Только на сей раз у нас и темы не было.
— Отец, ты ни слова не сказал о Дженнифер.
— А что тут говорить? Ты ведь поставил нас перед свершившимся фактом, разве нет?
— И все же, что ты о ней думаешь?
— Я думаю, Дженнифер замечательная девушка. И с ее происхождением пробиться в Рэдклифф…
Вся эта чушь собачья про общество равных возможностей, про Америку в роли плавильного котла — он просто хочет уйти от ответа.
— Говори по делу, отец.
— Если по делу, то юная леди здесь ни при чем. Все дело в тебе.
— Почему?
— Это твой бунт. Ведь ты просто бунтуешь, сын.
— Не понимаю, почему бунтом считают женитьбу на красивой и умной студентке Рэдклиффского университета? Не понимаю. Она ведь не какая-нибудь сумасшедшая хиппи…
— Она много чего не…
Ага, начинается.
— Отец, что тебя больше раздражает, — что она католичка или что бедная?
Он ответил почти шепотом, слегка подавшись ко мне:
— Что тебя больше привлекает?
Я хотел встать и уйти. Я ему так и сказал.
— Останься и говори, как мужчина.
А не как кто? Как мальчишка? Как барышня? Как мышонок? Так или иначе, я остался.
Сукин Сын испытал неимоверное удовольствие, что я не встал из-за стола. Было видно, что он расценил это как еще одну свою победу надо мной.
— Я только прошу тебя немного подождать.
— Что значит немного?
— Закончи юридическую школу. Если у вас настоящее чувство, оно выдержит это испытание временем.
— Чувство настоящее, но какого дьявола я должен подвергать его навязанным кем-то испытаниям?
Мой намек был, по-моему, ясен. Я не собирался ему уступать. Ему и его произволу. Его стремлению подавлять меня, контролировать мою жизнь.
— Оливер, — начал он новый раунд. — Ты еще не достиг совершенно…
— Совершенно чего? — черт побери, я терял выдержку.
— Тебе нет двадцати одного года. По закону ты еще не взрослый.
— Насрать мне на твое по закону!
Сидящие по соседству посетители, наверное, услышали эти слова. Чтобы сбалансировать мой выкрик, Оливер III ответил мне зловещим шепотом:
— Если женишься на ней сейчас, на меня больше не рассчитывай! Эта глупость тебе дорого обойдется!
— Отец, да кто на тебя рассчитывает?!
Я ушел из его жизни, чтобы начать свою.
9
Оставалась проблема визита в Крэнстон, штат Род-Айленд, который лежит чуть дальше на юг от Бостона, чем Ипсвич — на север. После неудачной попытки представить Дженнифер моим родителям я не был уверен в удачном знакомстве с ее отцом. Ведь меня ждет итальянско-средиземноморский синдром любвеобилия, осложненный тем, что Дженни — единственная дочь, выросла без матери и, значит, ненормально близка с отцом. Следовательно, мне предстояло столкнуться с целым букетом эмоций, которые описываются в книгах по психологии.
Плюс я теперь без средств к существованию.
Представьте себе на секундочку Оливеро Барретто, славного итальянского парня, живущего в Крэнстоне на соседней улице. Он является к мистеру Кавиллери, главному городскому кулинару, живущему на одну зарплату, и говорит: «Я хочу жениться на вашей единственной дочери Дженнифер». О чем первым делом спросит отец невесты? (Разумеется, не о том, любит ли этот Барретто Дженни, его дочь, ибо, зная Дженни, нельзя ее не любить, это очевидная истина.) Нет, мистер Кавиллери спросит примерно так: «Послушай, Барретто, а на что ты собираешься содержать жену?»
А теперь представим себе реакцию доброго мистера Кавиллери, когда Барретто сообщит ему, что все будет наоборот, по крайней мере, в ближайшие три года: его дочь будет содержать его зятя. Не укажет ли добрый мистер Кавиллери на дверь Барретто, а то и накостыляет ему, если этот Барретто размером не с меня?
Клянусь, так и сделает.
Говорю все это для того, чтобы объяснить, почему послушно соблюдал все предписанные дорожными знаками ограничения скорости, когда воскресным майским днем мы с Дженни ехали на юг по шоссе № 95. Дженни, которая уже привыкла наслаждаться моей скоростной ездой, даже стала бурчать, когда я ехал со скоростью сорок миль в час там, где стоял знак «не более 45». Я ответил, что машина плохо отлажена, но она ничуть не поверила.
— Расскажи еще раз, Дженни.
Терпение не принадлежало к числу добродетелей Дженни, и она отказалась подкрепить мою уверенность в себе, вновь повторив ответы на все мои глупые вопросы.
— Ну пожалуйста, Дженни. Последний раз.
— Я позвонила ему. Сказала. Он ответил: о’кей. По-английски, потому что, как я тебе уже говорила, хоть ты, похоже, ничему не хочешь верить, он не знает ни единого итальянского слова, кроме нескольких ругательств.
— Но что значит это «о’кей»?
— Ты хочешь сказать, что Гарвардская юридическая школа зачислила в студенты человека, который не понимает значения слова «о’кей»?
— Это не юридический термин, Дженни.
Она коснулась моей руки. Этот жест я, слава богу, понял, но мне все равно были нужны разъяснения. Я хотел знать, что меня ждет.
— «О’кей» может также означать: «Ладно, готов мучиться».
Жалость снизошла в ее сердце, и она в энный раз повторила мне во всех подробностях свой разговор с отцом. Он обрадовался. Действительно обрадовался. Он, разумеется, и не рассчитывал, отправляя ее в Рэдклифф, что она вернется, чтобы обвенчаться с соседским парнем (который, кстати, сделал ей предложение перед ее отъездом). Сперва он не поверил, что ее нареченного зовут Оливер Барретт IV. Когда Дженни сказала ему это, он велел ей не нарушать одиннадцатую заповедь.
— Это какую же?
— Не вешай лапшу на уши отцу своему.
— А-а.
— И это все, Оливер. Честно.
— Он знает, что я беден?
— Да.
— И это его не волнует?
— По крайней мере, у вас есть что-то общее.
— Но он был бы счастливее, если бы у меня имелись денежки?
— А ты разве не был бы счастливее?
Я заткнулся до конца поездки.
Улица, на которой жила Дженни, называлась проспект Гамильтона и представляла собой длинную вереницу деревянных домиков, перед которыми играла детвора, и несколько чахлых деревьев: Увидев эту картину, я почувствовал себя, как в другой стране. Начать с того, что кругом было столько людей! Кроме играющих детей, на верандах сидели целые семьи, которые в этот воскресный день, судя по всему, не нашли занятия интересней, чем смотреть, как я паркую машину.
Дженни выпрыгнула из машины первой. В Крэнстоне ее рефлексы стали быстрые, как у маленького проворного кузнечика. Когда зрители на верандах увидели, кто у меня был пассажиром, раздался дружный хор приветствий. Великая Кавиллери! Услыхав эти радостные крики, я почувствовал, что почти стыжусь вылезти из машины. Ведь я при всем желании не мог сойти за гипотетического Оливеро Барретто.
— Привет, Дженни, — зычно крикнула какая-то матрона.
— Здравствуйте, миссис Каподипуло, — прокричала в ответ Дженни. Я выбрался из машины, сразу почувствовав на себе множество взглядов.
— Эй, а кто этот парень? — крикнула миссис Каподипуло.
У них тут без церемоний, верно?
— Никто, — откликнулась Дженни, что чудесным образом прибавило мне уверенности в себе.
— Может, и так, — прокричала миссис Каподипуло в мою сторону. — Зато девушка у него что надо!
— Он знает, — ответила Дженни.
Затем она повернулась, чтобы доставить удовольствие другой стороне улицы.
— Он это знает, — повторила она для другой группы болельщиков. Потом взяла меня за руку (я был чужаком в этом раю) и повела вверх по ступеням дома 189А на проспекте Гамильтона.
Это был неловкий момент.
Я просто стоял там, а Дженнифер сказала:
— Это мой отец.
И крепыш Фил Кавиллери, лет сорока с большим хвостиком, рост примерно 175, вес 75, протянул мне руку.
Я ощутил его крепкое пожатие.
— Рад с вами познакомиться, сэр.
— Фил, — поправил он. — Просто Фил.
— Фил, сэр, — сказал я, продолжая трясти его руку.
Еще был момент испуга. Потому что когда он выпустил мою руку, мистер Кавиллери повернулся к дочери и заорал: «Дженнифер!»
Секунду ничего не происходило. А потом оба бросились обниматься. Крепко. Очень крепко. Раскачиваясь из стороны в сторону. В качестве комментария к этой сцене мистер Кавиллери повторял (теперь едва слышно) только одно слово: «Дженнифер, Дженнифер!» И единственное, что могла ответить на это его умудренная университетским образованием дочь, было: «Фил, Фил!»
Я точно был здесь лишним.
Выручил меня в тот день один навык моего изысканного воспитания. Мне всегда внушали, что разговаривать с набитым ртом неприлично. А поскольку Фил и Дженни точно сговорились постоянно наполнять рот едой, говорить мне почти не приходилось. Я съел рекордное количество итальянских пирожных. Позже я порассуждал о том, какие из них понравились мне больше и почему (я отведал по два каждого сорта, чтобы не обидеть хозяина), чем вызвал восторг обоих Кавиллери.
— Он о’кей, — сообщил Фил своей дочери.
Что бы это могло значить?
Нет, мне уже не нужно было объяснять, что такое «о’кей». Я лишь хотел знать, которым из своих немногочисленных и весьма осторожных действий я заслужил эту благословенную оценку.
Похвалил его любимое пирожное? Достаточно крепко пожал ему руку? Еще чем-нибудь?
— Я же говорила, Фил, он о’кей, — сказала его дочь.
— Ну да, о’кей, — отвечал ее отец. — Но надо же мне было самому поглядеть: Теперь убедился. Оливер!
Это он обращался ко мне.
— Да, сэр?
— Фил.
— Да, Фил, сэр?
— Ты о’кей.
— Спасибо, сэр. Я вам очень благодарен. Правда. Вы ведь знаете, как я отношусь к вашей дочери, сэр. И к вам, сэр.
— Оливер! — перебила меня Дженни. — Перестань, черт возьми, отвечать как какой-то придурок-подготовишка.
— Дженнифер! — перебил ее мистер Кавиллери. — Прекрати ругаться. Этот сукин сын ведь наш гость.
За обедом (пирожные оказались только закуской) Фил попытался завести со мной серьезный разговор. И знаете, о чем? У него была идиотская идея, что он сможет наладить дипломатические отношения между Оливером III и Оливером IV.
— Дай-ка мне только поговорить с ним по телефону, как отцу с отцом.
— Не стоит, Фил. Чего зря время тратить?!
— Но не могу же я сидеть и смотреть, как отец от своего ребенка отказывается! Нет, я так не могу.
— Я тоже от него отказываюсь, Фил.
— Чтобы я этого больше никогда не слышал! — заявил он, не на шутку рассердившись. — Отцовскую любовь надо ценить и уважать. Это большая редкость.
— Особенно в нашей семье, — заметил я.
Дженни сновала между кухней и столовой и почти не принимала участия в разговоре.
— Давай, набирай его номер, — настаивал Фил, — и я мигом все улажу.
— Нет, Фил. Мы с ним отключили связь.
— Брось, Оливер. Увидишь, он оттает. Раз я говорю оттает, значит оттает, поверь. Когда придет время ехать в церковь…
Дженни, которая расставляла тарелки для десерта, сказала:
— Фил!
— Да, Дженни?
— Насчет церкви…
— Ну, чего?
— Ну, мы это не хотим, Фил.
— Как? — не понял мистер Кавиллери и тут же, поспешно сделав неправильный вывод, с извиняющимся видом повернулся ко мне. — Я, это, не имел в виду, что обязательно католическая церковь, Оливер. То есть Дженнифер, конечно, сказала тебе, что мы католики. Но я имел в виду вашу церковь, Оливер. Клянусь, господь благословит такой союз в любой церкви.
Я посмотрел на Дженни, которая, похоже, так и не обсудила эту важную тему в телефонном разговоре с отцом.
— Оливер, — объяснила она. — И так слишком много ему для одного раза.
— О чем это вы? — спросил любезный мистер Кавиллери. — Давайте уж все вываливайте на меня. Все, что у вас на уме.
Почему-то именно в этот момент взгляд мой упал на фарфоровую статуэтку Девы Марии, стоявшую на полочке в столовой семьи Кавиллери.
— Это насчет божьего благословения, Фил, — промямлила Дженни, отводя взгляд от отца.
— Да, Дженни. И что? — спросил он, страшась самого худшего.
— Ну, мы к этому негативно относимся, Фил, — сказала она и посмотрела на меня, ища поддержки. Я подбодрил ее взглядом.
— К Богу? К любому Богу?
Дженни кивнула.
— Можно, я объясню, Фил? — спросил я.
— Да, пожалуйста.
— Мы с Дженни не верим в бога, Фил. И лицемерить не хотим.
Думаю, он стерпел такие слова только потому, что это сказал я. Ее он мог бы и треснуть. Дженни точно могла бы оплеуху заработать. Но теперь он был третьим лишним, чужаком. Он не мог смотреть ни на нее, ни на меня.
— Ну что ж, прекрасно, — сказал он после долгого молчания. — Может, мне хоть сообщат, кто совершит обряд?
— Мы сами, — ответил я.
Он посмотрел на дочь за подтверждением. Дженни кивнула — все верно.
Он снова надолго замолк, потом еще раз повторил «прекрасно» и спросил, считаю ли я, как будущий юрист, что такой брак будет — как это называется? — действительным?
Дженни объяснила, что на нашем обряде будет университетский капеллан-унитарий («А, капеллан…» — пробормотал Фил), пока жених и невеста обмениваются обращениями.
— Невеста тоже будет говорить? — спросил он, точно именно это могло дать ему умиротворение.
— Фил! — воскликнула Дженни. — Ты можешь представить себе такую ситуацию, в которой я могла бы промолчать?
— Нет, детка, — ответил он, изобразив подобие улыбки. — Тебе всегда надо что-нибудь сказать.
На обратном пути в Кембридж я спросил Дженни, как, по ее мнению, прошла встреча.
— О’кей, — ответила она.
10
Мистер Уильям Ф. Томпсон, заместитель декана Гарвардской юридической школы, не поверил своим ушам.
— Я не ослышался, мистер Барретт?
— Нет, сэр.
Сказать это в первый раз было нелегко. Повторить — не легче.
— На следующий год мне понадобится стипендия, сэр.
— В самом деле?
— Поэтому я и пришел к вам, сэр. Вы ведь заведуете финансовой помощью, не так ли?
— Да, но это весьма странно. Ваш отец…
— Он больше в этом не участвует.
— Простите? — мистер Томпсон снял очки и стал протирать их кончиком галстука.
— Между нами возникли некоторые разногласия. Мистер Томпсон снова надел очки и посмотрел на меня тем ничего не выражающим взглядом, овладеть которым под силу лишь деканам.
— Это весьма прискорбно, мистер Барретт, — заметил он. Для кого, хотел я спросить. Этот тип начинал меня доставать.
— Да, сэр, — подтвердил я. — Весьма прискорбно. Поэтому я и обратился к вам, сэр. Через месяц я женюсь. Мы оба будем работать в летние каникулы. Потом Дженни, это моя жена, устроится учительницей в частную школу. На жизнь этого хватит, но не на оплату обучения. У вас ведь высокая плата, сэр.
— М-м, да, — проговорил он. И все. Он что, не врубился? За каким чертом, он думает, я к нему пришел?
— Мистер Томпсон, мне нужна стипендия, — заявил я ему открытым текстом уже третий раз подряд. — В банке у меня пусто, и я уже зачислен студентом.
— Да-да, понимаю. Однако срок подачи заявлений на стипендию давно истек, — нашел он наконец техническую отговорку.
Что удовлетворит подлеца? Пикантные подробности семейной распри Барреттов? Или ему нужен скандал? Чего он хочет?
— Мистер Томпсон, когда я поступал в вашу школу, я не знал, что так случится.
— Разумеется, мистер Барретт, однако должен вам сказать, что, по моему мнению, нашей администрации не следует вмешиваться в вашу семейную ссору. Весьма, повторяю, прискорбную.
— О’кей, — сказал я, вставая. — Я вижу, к чему вы клоните, на что вы намекаете. Но я не собираюсь целовать жопу своему отцу ради того, чтобы ваша школа получила собственный Барретт-холл.
Уже уходя, я услышал, как мистер Томпсон произнес:
— Это несправедливо.
Я был полностью с ним согласен.
11
Дженни получила диплом в среду. На церемонию в Кембридж приехали ее многочисленные родственники из Крэнстона и Фолл-Ривера и даже какая-то тетка из Кливленда. По предварительной договоренности я не был представлен в качестве жениха, а Дженни не надела обручального кольца, — чтобы никто раньше времени не обиделся, что не попал на свадьбу.
— Тетя Клара, это мой друг Оливер, — говорила Дженни, неизменно добавляя: — Он еще не закончил колледжа.
Родственники толкали друг друга в бок, шептались, строя разные предположения, но ничего не могли выведать ни от нас с Дженни, ни от Фила, который, думаю, был рад уклониться от обсуждения любви двух атеистов.
В четверг я приобрел равный с Дженни академический статус, получив диплом Гарвардского университета, и тоже с отличием. Мало того, будучи старостой курса, я возглавлял процессию выпускников, шествовавших к своим скамьям. А значит, шел впереди даже самых лучших супермозгов, получивших дипломы «с высшим отличием». Я чуть было не сказал этим типам, что мое лидерство явно доказывает правильность моей теории: час на стадионе стоит двух в библиотеке. Но воздержался — пусть радость будет всеобщей.
Понятия не имею, был ли там Оливер Барретт III. В выпускной день во дворе университета собирается не меньше семнадцати тысяч человек, и я, конечно, не разглядывал их в бинокль. Полагавшиеся мне два родительских билета я отдал Филу и Дженни. Разумеется, мой отец мог сесть вместе с выпускниками 1926 года. Но зачем ему это? Банки ведь в тот день были открыты.
Мы поженились на той же неделе, в воскресенье. Причиной, по которой мы не пригласили родственников Дженни, было опасение, что отсутствие Отца, Сына и Святого Духа окажется чересчур мучительным испытанием для набожных католиков.
Бракосочетание состоялось в Филлипс-Брукс-хаузе, старинном здании в северной части Гарварда. Руководил церемонией Тимоти Бловелт, унитарный капеллан колледжа. Естественно, присутствовал Рей Страттон, а также Джереми Наум, мой старинный приятель по школе в Эксетере, который предпочел Гарварду Амхерст. Дженни позвала свою университетскую подругу и — возможно, из сентиментальности — ту высокую неуклюжую девицу, с которой работала в отделе выдачи книг Рэдклиффской библиотеки. Ну и, конечно, был Фил.
Фила я поручил Рэю Страттону. В смысле, чтоб тот не волновался. Но Страттона самого надо было успокаивать! Так эта парочка и стояла, молча подкрепляя друг друга в предвзятом убеждении, что эта самодельная свадьба (как назвал ее Фил) превратится (как предсказывал Страттон) в невероятный фильм ужасов. И лишь потому, что Дженни и я должны были сказать несколько слов друг другу.
Собственно, мы уже видели, как это делается, когда одна из музыкальных подруг Дженни, Мария Рэндолл, выходила замуж за студента-архитектора по имени Эрик Левенсон. Все выглядело очень красиво, и мы прямо-таки заразились этой идеей.
— Вы готовы? — спросил капеллан.
— Да, — ответил я за нас обоих.
— Друзья! — сказал мистер Бловелт, обращаясь к гостям. — Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями соединения в супружеском союзе двух молодых людей. Послушаем же слова, которые они решили сказать друг другу в эту священную минуту.
Невеста говорила первой. Дженни повернулась ко мне и прочла выбранное ею стихотворение. Оно было очень трогательное — особенно, наверное, для меня, ибо звучал сонет Элизабет Барретт Браунинг:
- Когда, возвысясь, души наши встанут гордо
- С колен в молчании, лик к лику, чтобы быть,
- Быть ближе, ждать, пока огонь не опалит
- Растущих крыльев, все же жить не долго
- Нам суждено. Подумай. В высях горных
- Чтоб не пустить нас, станут ангелы кружить,
- Кружась взмывая ввысь, чтоб уронить,
- Нимб золотой небесной песней в горло
- Молчанью нашему.
Боковым зрением я видел Фила Кавиллери. Он был бледен, губы его дрожали, в глазах изумление и обожание. Дженни дочитала сонет, который заканчивался словами, похожими на молитву:
- Навеки б нам с тобой
- Остаться на земле, в любви, в борьбе
- Со страхом зла, с изменчивой судьбой,
- С тоской покоя, с верностью судьбе,
- Найдя любви приют, чтоб стороной
- Прошло бы время смерти, тьмы и бед!
Наступил мой черед. Мне трудно было найти стихотворение, которое я мог бы прочесть, не краснея. В смысле, не буду же я стоять и мямлить какую-нибудь сентиментальную чушь. Однако отрывок из «Песни большой дороги» Уолта Уитмена, хоть и немного короткий, позволил мне выразить все, что я чувствовал.
- …Тебе я руку отдаю свою!
- Любовь свою я отдаю, любовь дороже денег,
- Себя всего я отдаю, пред Богом и Судьей;
- Отдашь ли мне ты всю себя?
- Разделишь ли со мной дорогу?
- Чтоб были вместе мы всегда, вдвоем, пока живем?[4]
Я умолк, и в комнате наступила трепетная тишина. Рэй Страттон протянул мне кольцо, и мы с Дженни — сами, ни за кем не повторяя — произнесли обет супружеской верности, поклявшись любить и эфанить друг друга до самой смерти.
Властью, данной ему штатом Массачусетс, мистер Тимоти Бловелт объявил нас мужем и женой.
Если разобраться, то наша послеигровая вечеринка, как назвал ее Страттон, была претенциозно непретенциозная. Мы с Дженни решительно отвергли традиционное шампанское и, поскольку нас было совсем мало, отправились выпить пива к Кронину. Джим Кронин выставил нам по первой кружке сам в знак уважения к «величайшему хоккеисту Гарварда со времен братьев Клири».
— Черта с два, — Фил Кавиллери стучал кулаком по столу. — Он лучше всех Клири, вместе взятых.
Поскольку он никогда не был ни на одном хоккейном матче с участием Гарварда, я думаю, он имел в виду, что как бы здорово ни катались на коньках Бобби и Билли Клири, не им выпало жениться на его любимой дочери. Короче говоря, все мы уже порядком напились, но в этом факте видели лишь повод добавить еще.
Я позволил Филу расплатиться по счету, заслужив от Дженни один из редких комплиментов моей интуиции:
«Из тебя еще выйдет человек, подготовишка». Под конец, когда мы повезли Фила на автобусную станцию, вышло не клево. В смысле слез. Его, Дженни, да вроде и меня. Ничего не помню, сырость такую развели!..
Так или иначе, после всяких благословений Фил сел в автобус, а мы стояли и махали, пока тот не скрылся из вида. Только тогда до меня стала доходить сногсшибательная правда.
— Дженни, теперь мы законно женаты.
— Точно, теперь я могу быть сучкой и стервой.
12
Если одним словом можно описать нашу повседневную жизнь в первые три года, то слово это — экономия. Каждое мгновение мы были сосредоточены на том, как наскрести деньжат на все, что нам было нужно. Обычно нам удавалось свести концы с концами. И в этом не было ничего романтичного.
Помните известное четверостишие Омара Хайяма? Ну, о том, чтобы лежать под деревом с томиком стихов, ломтем хлеба, кувшином вина и так далее. Теперь замените томик стихов на монографию Скотта о трестах и увидите, как этот поэтический образ вписывается в мою идиллическую жизнь. Рай? Нет, говно собачье, а не рай! Меня мучили одни и те же вопросы: сколько стоят эти самые «Тресты», где их достать по дешевке у букиниста, на что купить хлеба и вина, где взять денег, чтобы расплатиться с долгами?
Жизнь меняет. Теперь самое простое решение приходилось подвергать скрупулезному рассмотрению бюджетной комиссии, заседавшей у меня в голове.
— Оливер, пойдем вечером на Беккета?
— Три доллара.
— То есть?
— То есть полтора доллара твой билет, полтора доллара мой.
— Это значит «да» или «нет»?
— Ни то ни другое. Это значит три доллара.
Медовый месяц мы провели на яхте вместе с двадцатью одним ребенком. Это значит, что с семи утра и пока не надоест юным пассажирам, я бороздил волны на тридцатишестифутовой яхте класса «Родс», а Дженни приглядывала за детьми в яхтклубе «Пекод».
Было это в Кейп-Коде, в Деннис-порте, которому еще принадлежал большой отель, пляж и несколько десятков маленьких домиков для сдачи внаем. На одном из самых крошечных бунгало я мысленно прикрепил мемориальную доску: «Здесь спали Оливер и Дженни — когда не занимались любовью».
Надо отдать должное нам обоим — даже после долгого дня обхаживания клиентов (львиную долю наших доходов составляли чаевые) мы с Дженни все еще были внимательны друг к другу. Я сказал «внимательны», потому что нет слов описать, каково это — любить Дженни Кавиллери и быть любимым ею. Извините, я хотел сказать — Дженни Барретт.
Прежде чем отправиться в Кейп-Код, мы сняли дешевую квартирку в северном Кембридже. Я называю это «северным Кембриджем», хотя формально дом находился в черте города Соммервилла. Коттедж, который, по выражению Дженни, отремонтировать уже было нельзя, проектировали на две семьи, а потом переделали в четырехквартирный. Взяли с нас явно больше, чем все это стоило, но что могут сделать бедные выпускники? Рыночная экономика!
— Послушай, Оливер, а почему пожарные не опечатали эту халупу? — спрашивала Дженни.
— Наверное, побоялись войти внутрь.
— Я тоже.
— В июне ты не боялась.
Разговор этот происходил в сентябре, когда мы возвратились в Кембридж.
— Тогда я еще не была замужем. Теперь, рассуждая как замужняя женщина, я считаю, что это жилище небезопасно со всех точек зрения.
— И что ты собираешься делать?
— Поговорить с мужем, — ответила она. — Он этим займется.
— Слушай, я твой муж, — заявил я.
— Правда? Докажи!
— Как? — спросил я, подумав про себя: нет, только не на улице.
— Перенеси меня через порог, — сказала она.
— Ты что, веришь во всю эту чепуху?
— Ты сначала перенеси, а потом я решу.
О’кей. Я подхватил ее на руки и, преодолев пять ступенек, внес на крыльцо.
— Почему остановились? — спросила она.
— Разве это не порог?
— Нет, не порог!
— Здесь около звонка наши имена.
— Официально это не порог. Давай наверх, старая развалина!
До «настоящего порога» было двадцать четыре ступеньки, и мне пришлось остановиться на полпути, чтобы перевести дух.
— Почему ты такая тяжелая?
— Тебе не приходило в голову, что я могла забеременеть?
От этого вопроса переводить дух мне стало не легче.
— Ты что, серьезно?
— Ага, испугался!
— Нет.
— Врешь, подготовишка.
— Ну, вообще-то да, но только на секунду.
Я перенес ее через наш порог.
То были оставшиеся в памяти редкие и драгоценные мгновения, к которым слово «экономия» не имело никакого отношения.
Мое громкое имя позволило нам получить кредит в продуктовом магазине, который обычно студентам не предоставлялся. Однако оно же сыграло против нас там, где я меньше всего ожидал, — в школе Шейди-Лейн, куда устроилась учительницей Дженни.
— Разумеется, в смысле жалованья нам трудно тягаться с государственными школами, — сказала моей жене директор школы Энн Миллер Уитмен, тут же добавив, что для Барреттов «этот аспект» едва ли имеет значение. Дженни попыталась рассеять ее иллюзии, однако все, чего ей удалось добиться сверх предложенных ей 3500 долларов в год, были двухминутные «ха-ха» да «хи-хи» мисс Уитмен. Ей показалось очень остроумным замечание Дженни о том, что Барреттам приходится платить за квартиру точно так же, как другим людям.
Когда Дженни пересказала мне этот разговор, я выдвинул несколько оригинальных предложений на тот счет, как мисс Уитмен следовало поступить с ее — ха-ха-ха — тремя с половиной тысячами. В ответ Дженни спросила, не хочу ли я бросить свою юридическую школу, чтобы содержать ее до тех пор, пока она не приобретет квалификацию, необходимую для преподавания в государственной школе. Потратив секунду-другую на осмысление всей этой ситуации, я пришел к четкому и лаконичному выводу:
— Какая ерунда!
— Весьма красноречиво, — прокомментировала моя жена.
— А что я, по-твоему, должен был сказать? «Ха-ха-ха»?
— Нет. Просто полюби спагетти.
Так я и сделал. Я научился любить спагетти, а Дженни овладела всевозможными рецептами, как маскировать макароны под что-нибудь другое. Мы кое-что скопили за лето, Дженни получала жалованье, я рассчитывал подзаработать на почте во время рождественской лихорадки — словом, все было о’кей. Мы, конечно, пропускали много новых фильмов (и на концерты Дженни не ходила), но, в общем, сводили концы с концами.
В социальном плане наша жизнь тоже переменилась. Мы по-прежнему жили в Кембридже, и по идее Дженни вполне могла видеться со своими товарищами по всевозможным музыкальным кружкам. Но не было на это времени. Из школы она приходила вымотанная, а ведь надо было еще приготовить обед (обед вне дома выходил за пределы максимально допустимой расточительности). Что касается моих друзей, то они сами сообразили оставить нас в покое. В смысле перестали приглашать нас к себе, чтобы нам не нужно было приглашать их, если вы понимаете, что я имею в виду.
Мы больше не ходили даже на футбол.
Как член Варсити-клуба, я имел право сидеть на гостевой трибуне — отличные места, прямо напротив центральной линии. Но это шесть долларов за билет, всего двенадцать.
— Нет, шесть, — спорила Дженни. — Ты можешь ходить без меня. Я все равно ничего не понимаю в этой игре. Знаю только, что все орут «Бей их!». Ты это обожаешь, и поэтому я хочу, чтобы ты пошел.
— Все, вопрос закрыт, — отвечал я, муж и глава семьи. — Кроме того, мне надо больше заниматься.
Тем не менее субботние вечера я проводил у транзистора, слушая рев болельщиков, которые, хоть географически и были в какой-то миле от меня, находились теперь в другом мире.
Я пользовался своими клубными привилегиями, покупая билеты на игры с участием Йеля для Робби Уолда, моего товарища по юридической школе. Когда, осыпав меня благодарностями, он уходил, Дженни просила меня еще раз объяснить ей, для кого предназначаются гостевые места. И я опять повторял — для тех, кто, независимо от возраста, размера и социального положения, благородно приумножал славу Гарварда на спортивных аренах.
— Включая и водные?
— Сухой или мокрый — спортсмен есть спортсмен, — ответил я.
— К тебе это не относится, Оливер, — заметила она.
— Ты у нас отморозок.
Я промолчал, решив, что это у нее такое остроумие. Мне не хотелось думать, какой смысл в ее вопросах о спортивных традициях Гарварда. Как, например, в ее замечании о том, что, хотя стадион Солджерс-Филд вмещал сорок пять тысяч зрителей, все бывшие спортсмены сидят вместе на той самой гостевой трибуне. Все без исключения. Старые и молодые. Сухие и мокрые и даже отмороженные. И только ли шесть долларов отделяли меня от стадиона по субботам?
Нет, если Дженни действительно имела в виду что-то еще, я не намерен это обсуждать.
13
Мистер и миссис Оливер Барретт III имеют честь просить Вас пожаловать на обед по случаю шестидесятилетия мистера Барретта, имеющий быть в субботу 6 марта в 7 часов вечера в Довер-Хаусе, Ипсвич, Массачусетс.
— RSVP[5]
— Ну, что скажешь?
— Могла бы и не спрашивать, — ответил я. Я был погружен в изучение дела «Народ США против Персиваля» — важнейшего прецедента в американском уголовном праве. Будто дразня меня, Дженни помахивала приглашением у меня перед носом.
— По-моему, пора, Оливер, — сказала она.
— Пора что?
— Ты отлично знаешь, что. Ты хочешь, чтобы он приполз к тебе на четвереньках?
Я продолжал работать, а она — меня обрабатывать.
— Оливер, он тянется к тебе.
— Ерунда, Дженни. Конверт надписан матерью.
— По-моему, ты сказал, что даже не взглянул на него! — почти крикнула она.
О’кей, ну взглянул разок. А потом, наверно, забыл. Я ведь был погружен в «дело Персиваля» и приближающиеся экзамены. Ну что она ко мне привязалась?!
— Подумай, Оливер, — говорила она теперь с просящей интонацией. — Ведь, черт возьми, ему уже шестьдесят лет! И нет гарантии, что он доживет до того дня, когда ты наконец созреешь для примирения.
Я сообщил ей самыми простыми словами, что примирения не будет никогда, и попросил ее не отвлекать меня от занятий. Она молча села, устроившись на кончике подушки, куда я положил ноги. Хотя она не проронила ни звука, я сразу почувствовал, что она пристально смотрит на меня, и поднял глаза.
— В один прекрасный день, — сказала она, — когда Оливер точно так же решит насрать на тебя…
— Его не будут звать Оливер, можешь быть уверена, — перебил я ее. Но она не повысила голоса в ответ, как делала обычно, когда я раздражался.
— Послушай, Оливер, даже если мы назовем его Бозо в честь клоуна из детской телепередачи, что так тебе нравится, он все равно возненавидит тебя за то, что ты был знаменитым гарвардским спортсменом. А к тому времени, когда он поступит в университет, ты, возможно, будешь членом Верховного суда.
Я заявил, что мой сын никогда меня не возненавидит. Она спросила, почему я так уверен. Этого я объяснить не мог, никаких доказательств у меня не было. Просто знал, и все. Тогда она сказала безо всякой логики:
— Твой отец тоже тебя любит, Оливер. Он любит тебя так же, как ты будешь любить этого своего Бозо. Но вы, Барретты, с вашей чертовой гордостью и самоуверенностью, вы можете прожить всю жизнь, думая, что ненавидите друг друга.
— Конечно, если бы у нас не было тебя, — сказал я примирительно.
— Да, это так, — серьезно ответила она.
— Вопрос закрыт, — сказал я, муж и глава семьи. Мой взгляд вернулся к «делу Персиваля», и Дженни встала. Потом вдруг вспомнила.
— Ну, а как насчет RSVP?
Я высказал предположение, что выпускница Рэдклиффа вполне может составить маленький вежливый отказ без помощи специалистов.
— Слушай, Оливер, — сказала она, — возможно, я врунья и обманщица. Но я никогда никому умышленно не делала больно. И не думаю, что смогу.
Вообще-то в этот момент она причиняла боль мне, поэтому я вежливо попросил ее написать любой ответ, который она хочет, лишь бы из него ясно следовало, что скорее ад замерзнет, чем мы приедем. И вновь вернулся к «делу Персиваля».
— Какой у вас номер? — очень тихо спросила Дженни. Она стояла у телефона.
— Ты не можешь просто послать записку?
— Еще секунда, и я взорвусь. Какой номер?
Я сказал и тут же погрузился в чтение апелляции, направленной Персивалем в Верховный суд Соединенных Штатов. Я не слушал, что говорила Дженни. То есть старался не слушать — мы все-таки были в одной комнате.
— Добрый вечер, сэр, — услышал я. Сукин Сын сам подошел к телефону? Разве по будним дням он не в Вашингтоне? Так было написано в недавнем очерке о нем, который я прочел в «Нью-Йорк таймс». Нынешним журналистам грош цена.
Сколько нужно времени, чтобы сказать «нет»?
Дженни потратила уже гораздо больше времени, чем требуется, чтобы произнести это односложное слово.
Она прикрыла трубку ладонью:
— Ты настаиваешь, чтобы я отказалась?
Кивком головы я подтвердил, что настаиваю, а нетерпеливым взмахом руки велел ей поторапливаться.
— Мне очень жаль, — сказала она в трубку. — То есть я хочу сказать, нам очень жаль, сэр…
Нам? Меня-то зачем приплетать? И почему она не может просто сказать и повесить трубку?
— Оливер!
Она снова прикрыла трубку рукой и говорила очень громко.
— У него рана в сердце, Оливер! Неужели ты можешь тут сидеть, если она кровоточит?
Не будь она так взволнованна, я мог бы объяснить ей, что у камней нет крови и что она не должна проецировать свои итальянско-средиземноморские понятия о родительской любви на Рашморские скалы. Но она была очень расстроена. И расстраивала меня.
— Оливер! — попросила она. — Ну скажи ему хоть слово!
Ему? Она что, рехнулась?
— Ну хоть «здрасьте» скажи.
Она протягивала мне трубку. Стараясь не расплакаться.
— Я никогда не стану с ним разговаривать. Никогда.
— Я был абсолютно спокоен.
Тут она и заплакала. Неслышно, только слезы катились по щекам. Потом… Потом она стала умолять меня:
— Ради меня, Оливер! Я никогда ни о чем тебя не просила. Пожалуйста!
Трое (мне показалось, что отец тоже здесь) стоят и ждут чего-то. Чего?
Я ничего не мог сделать.
Неужели Дженни не понимала, что требует невозможного? Что я сделал бы для нее все что угодно, только не это? Я уставился в пол, упрямо качая головой и чувствуя себя очень неловко. И тут Дженни произнесла яростным шепотом слова, каких я от нее никогда не слышал:
— Ты просто бессердечный подлец, — сказала она. Затем завершила разговор с отцом:
— Мистер Баррет, Оливер хочет, чтоб вы знали: по-своему он…
Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Это было нелегко, потому что она все еще плакала. Я был настолько изумлен, что молча ожидал окончания моего мнимого «послания».
— Оливер очень вас любит, — быстро проговорила она и бросила трубку.
Нет рационального объяснения тому, что я сделал в следующее мгновение. Это был приступ помешательства — больше мне нечего сказать в свое оправдание. Нет, не так: у меня вообще нет оправдания. Нельзя мне простить то, что я сделал.
Я вырвал у нее телефон — из розетки тоже — и в бешенстве швырнул его через всю комнату.
— Будь ты проклята, Дженни! Может, уберешься из моей жизни!
Я застыл на месте, тяжело дыша как зверь, в которого внезапно превратился. Господи, что на меня нашло? Я повернулся к Дженни.
Но она исчезла.
Именно исчезла — я даже не услышал шагов на лестнице. Наверное, она бросилась вон в то самое мгновение, когда я схватил телефон. Ее пальто и шарф остались на вешалке. Я не знал, что делать, но боль и отчаяние от этого были меньше, чем от того, что я уже сделал.
Я искал ее повсюду.
В библиотеке Юридической школы, пробираясь между рядами зубрящих студентов, я прошел зал из конца в конец не меньше десяти раз. Не проронил ни звука, но лицо у меня было такое, что я наверняка взбудоражил всю эту блядскую библиотеку. Наплевать.
Дженни там не было.
Затем я прочесал Харкнесс-Коммонс, холл, кафетерий. Очертя голову бросился в Агасси-холл в Рэдклиффе. Там ее тоже не было. Я кидался то туда, то сюда, и ноги мои не поспевали за бешено стучащим сердцем.
Может быть, она в Пейн-холле? Там внизу — комнаты для занятий фортепьяно. Я знаю Дженни. Когда она сердится, она садится и колотит по блядским клавишам. Допустим. А когда до смерти перепугана?
Эти фортепьянные классы — какой-то сумасшедший дом. Из-за всех дверей доносятся обрывки музыки — Моцарт, Барток, Бах, Брамс, — сливаясь в безумную какофонию.
Конечно, Дженни здесь!
Инстинкт велел мне остановиться перед дверью, за которой кто-то (сердито?) выколачивал из инструмента прелюдию Шопена. Я задержался на секунду, прислушиваясь. Играли плохо, то и дело сбиваясь и начиная заново. В одной из пауз чей-то женский голос пробормотал: «Черт!». Это, должно быть, Дженни. Я рывком распахнул дверь.
Сидевшая за пианино девушка подняла глаза от клавиатуры. Уродливая широкоплечая хиппи из Рэдклиффа, раздраженная моим вторжением.
— Что за дела, мужик? — спросила она.
— Плохие дела, плохие, — пробормотал я и захлопнул дверь. Потом я обыскал Гарвард-сквер, кафе «Памплона», аркаду «Томмиз» и даже Хейес Бик, где всегда толкутся разные типы с факультета искусств.
Куда же она делась?
Метро уже закрылось, но если она сразу пошла к Гарвард-сквер, то могла успеть на бостонский поезд. Еще была автостанция.
Было уже около часа ночи, когда я бросил четвертак и два десятицентовика в телефонный автомат. Я звонил из автомата на Гарвард-сквер.
— Алло, это Фил?
— Да-а, — сонно говорил он. — Кто это?
— Это я, Оливер.
— Оливер! — в его голосе послышался испуг. — Что-нибудь с Дженни? — быстро спросил он. Раз он меня спрашивает, значит там ее тоже нет.
— Да нет, Фил, с ней все в порядке.
— Ну, слава богу. А ты как, Оливер?
Убедившись, что с Дженни все в порядке, он сразу заговорил спокойно и приветливо. Как будто я не поднял его с постели посреди ночи.
— Отлично, Фил. Все нормально. Порядок. Послушай, Фил, Дженни с тобой общается?
— Мало, черт побери, — ответил он странно спокойным голосом.
— Что ты имеешь в виду, Фил?
— А то, что могла бы звонить и почаще. Я ведь ей не чужой, сам знаешь.
Если можно одновременно испытать облегчение и панику, то именно это я и почувствовал.
— Она сейчас с тобой? — спросил он.
— Что?
— Дай ей трубку, я ей сам скажу.
— Не могу, Фил.
— Она спит, что ли? Тогда не буди, не стоит.
— Ладно.
— Слушай, ты, засранец, — вдруг сказал он.
— Да, сэр?
— Скажи, неужели Крэнстон так чертовски далеко, что вы не можете приехать ко мне как-нибудь на воскресенье? Или, хотите, я к вам?
— Нет, Фил. Мы сами приедем.
— Когда?
— Как-нибудь в воскресенье.
— Только не надо мне мозги пудрить. Хорошие дети не говорят «как-нибудь в воскресенье», они говорят «в это воскресенье». Значит, в это воскресенье, договорились?
— Да, сэр. В это воскресенье.
— Только не гони, ладно?
— Ладно.
— И в следующий раз звони за мой счет, черт тебя подери.
Он повесил трубку.
Я остался стоять на островке света, затерянном во мраке Гарвард-сквера, не зная, куда идти и что делать. Неожиданно из темноты вынырнул какой-то чернокожий, поинтересовался, не нужна ли мне девочка или наркотик. Не очень сосредоточившись, я ему ответил: «Нет, благодарю, сэр».
Я больше не бежал. Какой смысл спешить в пустой дом? Было уже очень поздно, и я весь как-то онемел — больше от страха за Дженни, чем от холода (хотя погода была мерзкая). За несколько шагов до дверей дома мне показалось, что на ступеньках кто-то сидит. Померещилось, подумал я сначала — фигура казалась совершенно неподвижной.
Но это была Дженни.
Она сидела на верхней ступеньке.
Я слишком устал и слишком обрадовался. В душе я надеялся, что у нее есть в руках какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы треснуть меня.
— Дженни.
— Оливер.
Мы говорили так тихо, что понять интонацию было невозможно.
— Я забыла ключ, — сказала она.
Я застыл на первой ступеньке, боясь спросить, сколько времени она просидела вот так. Я знал только одно — я страшно обидел ее.
— Дженни, прости меня. Мне так жаль.
— Не надо! — прервала она, а потом тихо сказала: — Любовь — это когда ни о чем не нужно жалеть.
Я поднялся по ступенькам.
— Я сейчас лягу спать, ладно? — сказала она.
— Ладно.
Мы вошли в квартиру. Когда мы раздевались, она посмотрела на меня ободряюще.
— Я действительно так думаю, Оливер.
И это было все.
14
Письмо пришло в июле.
Его переслали из Кембриджа в Деннис-Порт, где мы, как всегда, подрабатывали летом в яхт-клубе «Пекод», так что известие дошло до меня с опозданием на день или два. Я сразу бросился туда, где Дженни присматривала за своими детишками, которые играли в мяч.
— Пойдем, — сказал я ей.
— Куда?
— Пойдем, — повторил я столь авторитетно, что она послушно встала и двинулась вслед за мной к воде.
— Что происходит, Оливер? Может, все-таки скажешь?!
Я продолжал шагать по причалу.
— На борт, Дженнифер, — скомандовал я, указывая рукой с письмом в направлении нашей яхты. Но Дженни не замечала письма.
— Оливер, мне же надо смотреть за детьми, — запротестовала она, но послушно вступила на борт.
— Черт побери, Оливер! Ты наконец объяснишь, в чем дело? Мы уже были в нескольких сотнях метров от берега.
— Мне надо тебе что-то сказать.
— А на суше ты этого не мог сделать? — крикнула она.
— Не мог, черт побери, — крикнул я в ответ. (Мы вовсе не ссорились — кричать приходилось из-за сильного ветра.) — Я хотел сказать тебе наедине. Смотри, что у меня есть.
Я помахал перед ней письмом. Она сразу же узнала фирменный бланк.
— Гарвардская юридическая школа! Тебя что, выгнали?
— Не угадала, сучка-оптимистка, — проорал я. — Попробуй еще.
— Ты стал первым на курсе! — воскликнула она. Теперь мне было почти стыдно сказать ей.
— Не совсем. Третьим.
— О, — протянула она. — Только третьим?
— Послушай, это все равно означает, что мое имя попадет в «Юридическое обозрение»! — крикнул я. Она сидела без всякого выражения на лице.
— Бог мой, Дженни, — почти проскулил я. — Ну скажи что-нибудь.
— Не раньше, чем я познакомлюсь с номерами первым и вторым.
Я смотрел на нее в надежде, что она все-таки не сдержит улыбки.
— Кончай, Дженни, — взмолился я.
— Я ухожу. Прощай, — сказала она и прыгнула в воду. Я тотчас нырнул за ней, и в следующее мгновение мы уже уцепились за борт яхты и хихикали.
— Слушай, а ведь ты из-за меня за борт бросилась, — я был редкостно остроумен.
— Не очень-то задавайся, — ответила она. — Третий — это всего лишь третий.
— Ну ладно, слушай, сучка! — начал я.
— Что слушать, засранец? — отозвалась она.
— Я тебе многим обязан, — искренне признался я.
— Врешь, засранец, врешь, — ответила она.
— Почему вру? — слегка удивился я.
— Ты мне всем обязан!
В тот вечер мы вышвырнули целых двадцать три доллара на ужин с омаром в роскошном ресторане в Ярмуте. Дженни по-прежнему воздерживалась от оценки моих успехов, пока не наведет справки о двух других джентльменах, которые, как она выразилась, победили меня.
Глупо, конечно, но я был так влюблен в нее, что, как только мы вернулись в Кембридж, я бросился выяснять, кто были эти двое парней. И с облегчением обнаружил, что первым был Эрвин Бласбенд, книжный червяк, в очках, который не занимался спортом и вообще был не во вкусе Дженни. Ну а вторым — точнее, второй — оказалась некая Белла Ландау. Это было и к лучшему — Белла Ландау была красивой, холодноватой на вид девицей (таких немало среди студенток Юридической школы), и теперь я мог поддразнивать Дженни, пересказывая ей детали того, что происходило в редакции «Юридического обозрения» после окончания рабочего дня! Довольно часто теперь я приходил домой и в два и в три часа ночи. Сами посудите — шесть лекций в день, потом редактирование «Обозрения» плюс моя собственная статья, которая потом была там опубликована (Оливер Барретт IV. Юридическая помощь малоимущим горожанам. Опыт исследования на примере района Роксбери в Бостоне. «Гарвардское юридическое обозрение», март 1966, стр. 861–908).
— Недурно написано. Очень недурно. — Так несколько раз повторил наш старший редактор Джоэл Флейшман. Честно говоря, я ожидал более членораздельного комплимента от человека, который должен был на следующий год начать работу с судьей Дугласом. Но это было все, что он сказал, вычитывая окончательный вариант рукописи. Зато Дженни сказала, что статья умная, глубокая и отлично написана. Неужели Флейшман не мог придумать что-нибудь в том же духе?
— Флейшман считает, что написано недурно, Дженни.
— Господи! Так я ждала тебя по ночам, чтобы услышать это? Он ничего не сказал о самом исследовании, о твоем стиле, вообще о чем-нибудь?
— Нет, Дженни. Он только сказал «недурно».
— Тогда почему ты так задержался?
Я чуть подмигнул ей.
— Были кое-какие дела с Беллой Ландау.
— Вот как? — сказала она.
Я не понял интонации.
— Ты ревнуешь? — спросил я напрямик.
— Ничуть. Ноги у меня гораздо красивее, — ответила она.
— А ты можешь подготовить дело к слушанию в суде?
— А она может приготовить лазанью?
— Может, — сказал я. — Как раз сегодня вечером она угощала нас в редакции. И, все сказали, что ее лазанья так же хороша, как твои ноги.
Дженни кивнула:
— Конечно.
— Ну, и что ты на это скажешь?
— А Белла Ландау платит за твою квартиру?
— Черт! — воскликнул я. — Ну почему я не могу остановиться, когда счет в мою пользу?
— Потому, подготовишка, — заявила моя любящая жена, — что такого не бывает!
15
К финишу мы пришли в том же порядке.
Иными словами, Эрвин, Белла и я стали тремя лучшими выпускниками юридической школы. Близился час триумфа. Приглашения на работу. Предложения. Мольбы. Всякая показуха. Куда ни глянь, со всех сторон мне махали флагами, на которых было написано: «Иди работать к нам, Барретт!».
Но меня притягивали лишь флаги цвета долларов. Я не был таким уж меркантильным, однако сразу отмел престижные варианты — вроде должности секретаря судьи или службы в министерстве юстиции — ради хорошего денежного места, которое позволило бы выкинуть из нашего с Дженни словаря гнусное слово «экономия».
Хоть я и был третьим, в борьбе за хорошую юридическую должность у меня имелось одно неоспоримое преимущество. В первой десятке выпускников только я один не был евреем. (А тот, кто скажет, что это неважно — сам еврей.) Существуют десятки фирм, которые готовы жопу целовать белому американцу англо-саксонского происхождения и протестантского вероисповедания, который сумел хоть как-то сдать экзамен на адвоката. А теперь посмотрите на вашего покорного слугу: тут вам и Гарвард, и «Юридическое обозрение», и спортивные регалии, и черт знает что еще. Толпы работодателей сражались за возможность нанять такого человека, да еще с таким именем. Мне все это очень нравилось.
Особенно интригующее предложение поступило от одной лос-анджелесской фирмы. Ее вербовщик, мистер Н. (имя не назову — еще засудит), все твердил:
— Барретт, мой мальчик, в наших краях мы получаем это все время. Днем и ночью. Можно даже сказать, чтобы прямо в офис прислали!
Не то чтобы нас с Дженни особенно влекла Калифорния, но хотелось узнать, что имел в виду мистер Н. Мы строили самые сумасшедшие догадки, однако для Лос-Анджелеса они, видимо, были недостаточно сумасшедшими. (В конце концов, чтобы отвязаться от мистера Н., мне пришлось сказать ему, что меня абсолютно не интересует загадочное «это». Он даже дар речи потерял.)
В общем мы решили остаться на Восточном побережье. Как выяснилось, у нас были десятки фантастических предложений из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона. Одно время Дженни ставила на первое место столицу («Ты мог бы присмотреться к Белому дому, Оливер»), но я склонялся в пользу Нью-Йорка. Наконец, с благословения жены, я сказал «да» Джонасу и Маршу, солидной фирме (Марш когда-то был генеральным прокурором штата) с сильным креном в сторону защиты гражданских свобод. («Можно делать добро и наживать его одновременно», — съязвила Дженни.) И потом, они меня так обхаживали. В смысле, старик Джонас сам приехал в Бостон, угостил нас обедом в лучшем ресторане города, а на следующий день прислал Дженни цветы.
Дженни потом целую неделю ходила и напевала песенку в три слова: «Джонас, Марш и Барретт». Я просил ее не спешить, но она сказала мне: «Не валяй дурака», ведь наверняка у меня в голове вертятся те же три слова. Надо ли говорить, что она была права.
Позвольте еще заметить, что «Джонас и Марш» положили Оливеру Барретту IV $ 11 800 в год — самое высокое начальное жалованье, предложенное кому-либо из нашего выпуска.
Как видите, третьим я был только по успеваемости.
16
Перемена адреса
С 1 июля 1967 года мистер и миссис Барретт проживают по адресу: Нью-Йорк, 63-я улица, дом 263
— Тут все какое-то нуворишевское, — жаловалась Дженни.
— Так мы и сами нувориши, — настаивал я.
Мое общее настроение эйфории подогревалось еще тем фактом, что ежемесячная выплата за мою машину почти равнялась сумме, которую мы платили за всю нашу квартиру в Кембридже. Дорога от дома до офиса занимала десять минут пешком, столько же, сколько до фешенебельных магазинов. Я настоял на том, чтобы моя сучка-жена немедленно открыла в них счета и начала тратить деньги.
— Зачем, Оливер?
— Затем, Дженни, черт меня возьми! Я хочу, чтобы мной пользовались.
Я вступил в нью-йоркский Гарвард-клуб, куда меня рекомендовал Рэй Страттон, который недавно вернулся с войны, сделав несколько выстрелов по вьетконговцам. («Может, это и не вьетконювцы были — в кустах зашебуршало что-то, ну я и открыл пальбу».) Рэй и я играли в сквош не реже трех раз в неделю, и я дал себе три года на то, чтобы стать чемпионом клуба. То ли потому, что я вновь объявился на гарвардской территории, то ли потому, что распространились слухи о моих успехах (жалованьем я ни перед кем не хвастался, честно!), но у меня вновь объявились «друзья». Мы переехали из Кембриджа в самый разгар лета (мне надо было спешно подготовиться к экзамену для поступления в нью-йоркскую адвокатуру), поэтому первые приглашения были на уикенды.
— Да ну их на хуй, Оливер. Не хочу я тратить два дня на общество этих мудаков.
— О’кей, Дженни, но что я им скажу?
— Скажи, что я забеременела.
— Это правда?
— Нет, но если мы останемся на уикенд дома, это вполне может случиться.
Мы уже выбрали имя для нашего будущего сына. В смысле выбрал я, а потом уговорил Дженни согласиться.
— Слушай, только ты не смейся, — сказал я ей, впервые затронув эту тему. Дженни в это время была на кухне (там все было в золотистых тонах, даже посудомоечная машина).
— Ну, чего? — она продолжала резать помидоры.
— Мне все больше и больше нравится имя Бозо, — сообщил я.
— Ты это серьезно?
— Ага. Точно, ужасно нравится.
— И ты собираешься назвать нашего сына Бозо? — переспросила она.
— Да. Нет, правда, Дженни, лучшего имени для суператлета и не придумаешь.
— Бозо Барретт, — произнесла она, точно примеряясь.
— Говорю тебе, он же такой здоровяк будет, — продолжал я, с каждым словом обретая уверенность. — «Бозо Барретт, команда Гарварда и сборной университетов».
— Звучит, конечно, неплохо, Оливер, но… Вдруг у ребенка окажется плохая координация движений?
— Исключено, Дженни. У парня слишком хорошие гены, точно тебе говорю.
Я и вправду был в этом уверен. Мысли о Бозо в последнее время стали посещать меня все чаще и чаще. Гордо шагая в контору, я нередко грезил о нем наяву.
Я продолжил эту тему за обедом. Кстати, мы обзавелись отличным датским фарфором.
— С координацией у Бозо все будет в ажуре, — убеждал я Дженни. — А если ему достанутся твои руки, то его можно будет смело ставить защитником.
Она насмешливо заулыбалась, наверняка собираясь съехидничать и развеять в прах мои романтические мечты. Но, не придумав по-настоящему убийственной реплики, она вместо этого разрезала торт и положила мне кусок. Продолжая выслушивать мои доводы.
— Ну подумай сама, Дженни, — продолжал я прямо с набитым ртом. — Центнер натренированной ударной мощи!
— Центнер? — удивилась она. — В наших с тобой генах ничего нет про центнер, Оливер.
— Мы его откормим, Дженни. Протеины, витамины, высокопитательные смеси — правильным питанием можно много чего добиться.
— А если он не захочет есть?
— Съест как миленький! — нахмурился я, заранее сердясь на малыша, который, сидя за одним столом со мной, не пожелает помочь осуществлению моих грандиозных планов сделать его спортивной звездой. — Как миленький съест, а то отлуплю!
Тут Дженни посмотрела мне прямо в глаза и усмехнулась:
— Вряд ли, если в нем действительно будет сто килограммов.
— Да, действительно… — на мгновение смешался я, однако быстро нашелся, — но он же не сразу станет таким здоровым!
— Так-то оно так, — ответила Дженни. — Но уж когда наберет вес, берегись, подготовишка, придется тебе от него бегать. — И она заржала как сумасшедшая.
И вот, пока она смеялась надо мной, я представил себе стокилограммового младенца в подгузнике, который гонится за мной по Центральному парку, вопя: «Не смей обижать мою маму, подготовишка!» Жуть!
Дай бог, Дженни не даст Бозо расправиться со мной.
17
Сделать ребенка не так-то легко.
Ну, в смысле, разве это не ирония судьбы, что парни, которые в первые годы занятий сексом только и думают, как бы их подружка не залетела, потом должны резко переключиться на 180° и с не меньшей одержимостью думать, как бы она поскорее забеременела.
Да, это может стать навязчивой идеей. И лишить самое прекрасное в счастливой супружеской жизни его естественности и непосредственности. Я имею в виду программирование (вообще-то, не очень удачное слово — машинное какое-то). Это я в том смысле, что если заранее программировать акт любви в соответствии со всякими правилами, календарем, действовать стратегически («Оливер, может, лучше завтра утром?»), то он может вызвать дискомфорт, отвращение и, наконец, просто ужас.
Ибо если вы видите, что ваши небогатые познания и (предположительно) нормальные здоровые попытки «плодиться и размножаться» не дают результата, то начинают одолевать самые ужасные мысли.
— Полагаю, вы понимаете, Оливер, что стерильность не имеет ничего общего с вирильностью? — так сказал доктор Мортимер Шеппард во время нашей первой беседы, когда мы наконец решили, что нам необходима консультация специалиста.
— Он понимает, доктор, — ответила за меня Дженни, зная и без моих слов, что мысль о бесплодии — о моем возможном бесплодии — была для меня невыносима. Мне даже показалось, что в голосе ее прозвучала надежда, что если и обнаружится какое-то отклонение, то только у нее.
Но доктор просто объяснил нам, что к чему, подготовив к самому худшему, прежде чем сказать, что есть вероятность, что мы в полном порядке и скоро сможем стать счастливыми родителями. Разумеется, нам предстояло сдать целую кучу анализов. Физическое состояние, техника зачатия и так далее. Все как полагается. (Не буду вдаваться в малоприятные подробности этого тщательного обследования.)
Анализы мы сдали в понедельник. Дженни днем, а я после работы (к тому времени я с головой погрузился в мир юриспруденции). В пятницу доктор Шеппард вызвал Дженни еще раз, объяснив, что сестра что-то напутала и ему надо кое-что уточнить. Когда она рассказала мне о повторном визите к доктору, я заподозрил, что это… это самое отклонение обнаружилось у нее. «Напутавшая что-то сестра» — довольно избитая отговорка.
А когда доктор Шеппард позвонил мне в контору, я уже почти не сомневался. Он попросил меня зайти к нему по пути домой. Мои подозрения превратились в уверенность, как только я узнал, что Дженни там не будет. Значит, у Дженни не может быть детей.
Однако не стоит отчаиваться раньше времени — возможно, приговор не окончательный. Ведь доктор говорил что-то насчет хирургического вмешательства и так далее. Но сосредоточиться на работе я больше не мог, поэтому глупо было дожидаться пяти часов. Я позвонил Шеппарду и спросил, не примет ли он меня сразу после обеда. Он согласился.
— Итак, вы выяснили, кто виноват? — спросил я напрямую.
— Я бы не употреблял слово «виноват», Оливер, — ответил доктор Шеппард.
— Ну, хорошо, скажем иначе — у кого из нас нарушены функции?
— У Дженни.
Я был более или менее готов к этому, но безнадежность, прозвучавшая в словах доктора, все-таки ошеломила меня. Он больше ничего не добавил, и я решил, что он ждет от меня какого-нибудь заявления.
— Ладно, значит, дети у нас будут приемные. Ведь главное, это что мы любим друг друга, так ведь?
И тогда он сказал мне:
— Оливер, проблема гораздо серьезнее. Дженни очень больна.
— Что значит «очень больна»?
— Она умирает.
— Это невозможно, — сказал я.
Я ждал, что доктор скажет, что все это черный юмор.
— Она умирает, Оливер, — повторил он. — Мне очень жаль, но я должен это вам сказать.
Я настаивал, что произошла какая-то ошибка — может быть, эта идиотка-сестра опять что-то напутала, дала ему не тот рентгеновский снимок или еще что-нибудь. Он ответил со всем сочувствием, на какое был способен, что анализ крови был повторен трижды. Диагноз не вызывает сомнений. Теперь он направит нас — Дженни — к гематологу. Собственно, он посоветовал бы…
Я прервал его взмахом руки. Мне нужна была минута тишины. Просто тишины, чтобы осознать. Потом я подумал о другом.
— Что вы сказали Дженни, доктор?
— Что у вас обоих все в порядке.
— Она поверила?
— Думаю, да.
— Когда нам придется сказать ей правду?
— Сейчас это зависит от вас.
От меня! Господи, да от меня сейчас даже дыхание не зависело.
Доктор объяснил, что у медицины есть лишь паллиативные средства для лечения той формы лейкемии, что была у Дженни. Они могут облегчить болезнь, замедлить ее — но не остановить. Поэтому сейчас решение зависело от меня. Терапию можно на время отложить.
В эту минуту я думал лишь об одном — как все это чудовищно гнусно.
— Но ей только двадцать четыре года, — крикнул я. Доктор терпеливо кивнул. Он не хуже меня знал возраст Дженни, однако понимал, каково мне сейчас. Потом до меня дошло, что я не могу просидеть в кабинете у этого человека всю жизнь. Я спросил его, что делать дальше. В смысле, как мне себя вести? Он посоветовал вести себя как обычно, словно ничего не случилось. Как можно дольше. Я поблагодарил его и вышел на улицу.
Как обычно. Словно ничего не случилось.
Как обычно?!
18
Я стал думать о Боге.
В сознание начала закрадываться мысль о некоем Высшем Существе, обитающем где-то вовне. Не потому, что мне хотелось врезать ему по морде, избить до полусмерти за то, что он собирался сделать со мной — то есть с Дженни. Мои религиозные чувства были совсем иные. В том смысле, что, просыпаясь по утрам, я видел рядом Дженни. По-прежнему рядом. И неловко, даже стыдно сказать, но я надеялся, что где-то есть Бог, которого я мог поблагодарить. Благодарю тебя, Господи, за то, что, просыпаясь, я вижу рядом Дженни.
Я изо всех сил старался вести себя как обычно, по-, этому, конечно, позволял ей готовить завтраки и так далее.
— Сегодня увидишься со Страттоном? — спросила она, когда я доедал вторую тарелку хлопьев.
— С кем? — не понял я.
— С Рэймондом Страттоном, — повторила она. — С твоим лучшим другом, бывшим соседом по комнате.
— Да, мы собирались поиграть в сквош, но я, пожалуй, не пойду.
— Глупо.
— Что, Дженни?
— Ты не должен пропускать игры. Я не хочу, чтобы у меня был дряблый муж, черт возьми.
— О’кей, — сказал я. — Но тогда давай пообедаем где-нибудь в центре.
— Зачем?
— Что значит зачем? — рявкнул я, пытаясь привести себя в притворный гнев. — Имею я право сводить свою проклятую жену в ресторан или нет?
— Кто она, Барретт? Как ее зовут?
— Кого?
— Как это кого? Если ты по будням приглашаешь жену в ресторан, значит ты с кем-то ебешься на стороне!
— Дженнифер! — взревел я, теперь рассердившись всерьез. — Я не потерплю таких разговоров у себя дома за завтраком!
— Ладно, тогда поговорим у меня дома за обедом. О’кей?
— О’кей.
И я сказал этому самому Богу, где бы и кто бы он ни был, что я с радостью соглашусь, чтобы все осталось как есть. Пусть я буду страдать, сэр, я не против. Пусть я буду знать все, лишь бы не знала Дженни. Ты слышишь меня, Господи? Назови свою цену.
— Оливер!
— Да, мистер Джонас?
Он вызвал меня к себе в кабинет.
— Ты знаком с делом Бека?
Еще бы. Роберт Л. Бек работал фотографом в «Лайфе». Его чуть не убили чикагские полицейские, когда он фотографировал там массовые волнения. Джонас считал это дело одним из важнейших для фирмы.
— Я знаю, что полицейские здорово его отделали, — небрежно ответил я. (Подумаешь!)
— Я хочу, чтобы ты занялся этим делом, Оливер, — сказал мистер Джонас.
— Я один?
— Можешь прихватить кого-нибудь из молодых ребят.
Из молодых ребят? Я ведь в фирме самый молодой.
Но я, конечно, понял подтекст: «Оливер, несмотря на твой возраст, в нашей фирме ты уже один из мэтров — один из нас, Оливер».
— Спасибо, сэр, — сказал я.
— Когда ты можешь выехать в Чикаго? — спросил он.
С самого начала я решил никому ничего не говорить, вынести весь груз на своих плечах. Поэтому пришлось наплести старику Джонасу какой-то ерунды, не помню даже, что именно — мол, никак не могу уехать сейчас из Нью-Йорка, сэр. Я надеялся, он меня поймет. Однако мистер Джонас был явно разочарован тем, как я отнесся к столь важному знаку доверия. Если бы он только знал все!
Парадокс: Оливер Барретт Четвертый уходит с работы раньше времени, а домой идет еще медленнее обычного. Как это объяснить?
У меня появилась привычка задерживаться перед витринами магазинов на Пятой авеню, разглядывая всякие дорогие и до глупости экстравагантные вещи, которые я бы накупил Дженни, если бы не надо было делать вид, что все у нас… как обычно.
Конечно, мне было страшно идти домой. Потому что теперь, спустя несколько недель после того, как я узнал правду, я заметил, что Дженни начала худеть. Нет, похудела она совсем немного — сама она, наверное, ничего не заметила. Но я, зная все, заметил.
Разглядывал я и витрины авиакомпаний: Бразилия, Карибские острова, Гавайи («Бросьте все — летите к солнцу!») и т. д. В тот день «Трансуорлд Эрлайнз» рекламировала Европу в межсезонье: «В Лондон за покупками!», «В Париж за любовью!»…
— А как же моя стипендия? — вспоминал я. — Как же Париж, которого я ни разу в жизни не видела?
— А как же наша свадьба?
— Никто никогда не говорил о свадьбе.
— Я о ней говорю. Сейчас.
— Ты хочешь жениться на мне?
— Да.
— Почему?
Банк считал меня фантастически перспективным клиентом, и у меня уже была кредитная карточка «Дайнерс Клаб». Всего одна подпись вдоль пунктирной линии, и в руках у меня два билета (первого класса, а как же еще!) на самолет, летящий в Город Влюбленных.
Дома меня встретила Дженни. Она была бледная и какая-то посеревшая, но я надеялся, что моя блестящая идея вернет ей румянец.
— Миссис Барретт, угадайте, — сказал я.
— Тебя уволили, — сразу предположила моя оптимистка-жена.
— Нет, я-то не вылетел. А вот мы улетаем. Все выше, вверх и вдаль — до самого Парижа. Завтра вечером. Вот билеты.
— Что за ерунду ты говоришь, Оливер, — сказала она. Но как-то тихо, без обычной насмешливой агрессии. Даже с какой-то нежностью.
— Слушай, а что значит эта твоя вечная «ерунда»? Определи поточнее, пожалуйста.
— Это значит, Оливер, — тихо промолвила она, — что все будет совсем иначе.
— Что будет иначе?
— Я не хочу лететь в Париж. Мне не нужен Париж. Мне нужен только ты…
— Ну, это-то тебе обеспечено, крошка, — перебил я ее с притворной веселостью.
— И еще мне нужно время, — продолжала она, — которого ты не можешь мне дать.
Я посмотрел ей в глаза. Они были невыразимо печальны. Но печаль эта была особая, понятная только мне. В ней была жалость. Дженни жалела меня.
Мы стояли молча, обнявшись. Господи, если один из нас заплачет, пусть заплачет и другой. Но лучше, чтобы никто.
Потом она рассказала, как почувствовала себя «совсем говенно» и снова пошла к доктору Шеппарду — не за советом, а за ответом: скажите мне, наконец, что со мной, черт возьми! И он сказал.
Я почему-то почувствовал себя виноватым, что не я первый открыл ей правду. Она догадалась и умышленно глупо вдруг сказала:
— Ты знаешь, Оливер, он из Йельского университета.
— Кто?
— Ну, этот, Аккерман. Гематолог. Сначала в колледже там учился, потом кончил Медицинскую школу, как ты — Юридическую.
— А-а, — протянул я, понимая, что она хочет хоть как-то облегчить то ужасное, что собиралась сказать.
— Но читать и писать он, по крайней мере, умеет? — спросил я.
— Это еще предстоит выяснить, — улыбнулась миссис Барретт. — Но я знаю, что он умеет говорить. А я и хотела с ним поговорить.
19
Во всяком случае, теперь я не боялся идти домой, где надо «вести себя как обычно». Мы снова всем делились, даже сознанием того, что наши совместные дни сочтены.
Нам надо было многое обсудить — вещи, о которых редко говорят двадцатичетырехлетние супруги.
— Я надеюсь, ты будешь сильным, как настоящий хоккеист, — говорила она.
— Буду, буду, — отвечал я, спрашивая себя, чувствует ли всегда и все понимающая Дженни, что великий хоккеист ужасно испуган.
— Из-за Фила, — продолжала она. — Ему будет тяжелее всех. Ты, в конце концов, останешься веселым вдовцом.
— Я не буду веселым, — перебил я.
— Ты будешь веселым, черт побери. Я хочу, чтобы ты был веселым, О’кей?
— О’кей.
— О’кей.
Это случилось примерно через месяц, сразу после обеда. Дженни по-прежнему готовила сама, она настояла на этом. Правда, я в конце концов убедил ее разрешить мне убирать со стола (хотя она с пеной у рта доказывала мне, что это не «мужская работа»), Я возился с посудой, а Дженни играла Шопена на рояле. Вдруг она остановилась, и я сразу же заглянул в гостиную.
— Ты в порядке, Дженни? — спросил я. Я, конечно, имел в виду — относительно в порядке. Она ответила вопросом на вопрос.
— Ты достаточно богат, чтобы заплатить за такси?
— Конечно! — воскликнул я. — Куда бы ты хотела поехать?
— Ну, скажем, в больницу.
В суматохе поспешных сборов я внезапно понял: вот оно. Сейчас Дженни покинет этот дом и больше никогда не вернется. Она сидела в кресле, а я бросал в сумку какие-то ее вещи. О чем она сейчас думала? В смысле, о нашем доме? Что хотела запомнить?
Ничего. Она сидела неподвижно, устремив взгляд в пустоту.
— Эй, — окликнул я. — Ты хочешь взять с собой что-нибудь особенное?
— А! Что? — Она покачала головой, потом, словно вспомнив, добавила: — Тебя.
Поймать такси в этот час было нелегко — все спешили в театры, куда-то еще. Швейцар изо всех сил дул в свой свисток и размахивал руками, как сумасшедший хоккейный судья. Дженни стояла, прислонившись ко мне, и я втайне надеялся, что такси не будет и она навсегда останется стоять, прислонившись ко мне. Но такси все же появилось. Водитель — нам повезло — оказался весельчаком. Услышав, что нам надо в госпиталь Маунт-Синай и что за быструю доставку я плачу двойной тариф, он начал свою программу.
— Спокойно, ребята, вы в надежных руках! Мы с аистом занимаемся этим делом уже много лет.
Дженни сидела, прижавшись ко мне. Я целовал ее волосы.
— Это у вас первый? — спросил наш веселый таксист.
Дженни почувствовала, что я вот-вот на него рявкну, и прошептала:
— Не сердись, Оливер. Он ведь хочет как лучше.
— Да, старик, — ответил я ему. — Это у нас первый, и моя жена чувствует себя не очень, так что давай разок-другой проскочим на красный, ладно?
Он домчал нас до больницы быстрее ветра. И действительно сделал все в лучшем виде: выскочил из машины и открыл дверцу Дженни — все как полагается. Уезжая, он пожелал нам счастья и удачи. Дженни поблагодарила.
Она чуть пошатывалась, и я хотел внести ее в больницу на руках, но она запротестовала: «Через этот порог не надо, подготовишка». Мы вошли в приемный покой, где Дженни пришлось выстрадать нудную процедуру регистрации.
— У вас есть медицинская страховка?
— Нет.
(Кто думал о такой ерунде? Мы были слишком заняты покупкой посуды.)
Конечно, приезд Дженни не был неожиданностью. Его предвидели, и новую пациентку сразу же взял под наблюдение доктор Бернард Аккерман, оказавшийся, как и предсказывала Дженни, славным малым — даром что из Йельского университета.
— Она будет получать лейкоциты и тромбоциты, — сказал он. — Они ей сейчас нужнее всего. В антиметаболитах пока нет необходимости.
— Что все это значит?
— Это лечение, направленное на замедление клеточного распада, — объяснил он. — Но, и Дженни это знает, при этом возможны нежелательные побочные эффекты.
— Послушайте, доктор, — стал втолковывать я, хоть он наверняка все понимал без меня. — Решать будет Дженни. Что она скажет, то и делайте. И сделайте все возможное, чтобы она не страдала.
— Не беспокойтесь, мы обо всем позаботимся.
— Меня не волнует, сколько это будет стоить. — Я, кажется, повысил голос.
— Это может продлиться недели, даже месяцы, — сказал он.
— Да хуй с ними, с деньгами! — резко бросил я. Он был очень терпелив, этот доктор. Я ведь почти кричал на него.
— Я только хотел сказать, — объяснил он, — что сейчас просто невозможно сказать, как долго — или как мало — протянет ваша жена…
— Помните, доктор, — командовал я. — Помните, я хочу, чтобы у нее было все самое лучшее. Отдельная палата. Сиделки. Все, слышите, все! Прошу вас. У меня есть деньги.
20
Расстояние между 63-й улицей в Манхэттене, город Нью-Йорк, и Бостоном, штат Массачусетс, невозможно проехать быстрее, чем за три часа двадцать минут. Можете мне поверить, я проверял сам, устраивая гонки на время по этому маршруту, и совершенно убежден, что ни одна машина, наша или заграничная, даже если за рулем будет сидеть первый ас мира, не побьет этот рекорд.
Выехав на шоссе, я разогнал свой МГ до ста пяти миль в час. У меня была электробритва на батарейках, и я, разумеется, тщательно побрился в машине и сменил рубашку, прежде чем вступить в почтенный офис на Стейт-стрит. Даже в восемь утра в приемной уже сидело несколько солидных бостонских джентльменов, ожидавших аудиенции у Оливера Баррета III.
Я и глазом не успел моргнуть, как секретарша отца, знавшая меня в лицо, доложила обо мне по селектору.
Отец не сказал: «Пусть войдет».
Вместо того он сам появился в дверях.
— Оливер! — произнес он.
Я теперь стал обращать внимание на внешность людей, и потому сразу заметил, что отец немного бледен, что волосы его поседели (и, кажется, поредели) за три года.
— Входи, сын, — сказал он. Я не разобрал интонации. Я просто вошел в его кабинет и сел в кресло для посетителей.
Мы с отцом посмотрели друг на друга, потом наши взгляды скользнули по комнате. Мой упал на его письменный стол, на ножницы в кожаном футляре, на нож для бумаг с кожаной ручкой, фотографию матери, сделанную много лет назад. На мою собственную фотографию (в день окончания колледжа).
— Как дела, сын? — спросил он.
— Хорошо, сэр.
— Как Дженнифер?
Чтобы не лгать ему, я уклонился от ответа. Хотя главное заключалось именно в нем. Не найдя, что сказать, я сразу выложил причину своего внезапного появления.
— Отец, мне нужно срочно пять тысяч долларов в долг. Причина серьезная.
Он посмотрел на меня. И как будто кивнул. Так мне показалось.
— Итак? — сказал он.
— Что?
— Могу я узнать причину?
— Я не могу сказать тебе, отец. Просто одолжи мне эти деньги. Прошу тебя.
У меня было такое чувство — если, конечно, с Оливером Барреттом III можно общаться на уровне чувств, — что он собирался дать мне денег. И еще я почувствовал, что у него нет желания читать мне нотации. Он хотел… поговорить.
— Разве Джонас и Марш тебе не платят? — спросил он.
— Платят.
Меня подмывало сказать ему, сколько мне платят, — пусть знает, что я установил рекорд среди выпускников моего года. Но потом подумал — раз он знает, где я работаю, то наверняка знает, и сколько я получаю.
— И кроме того, она преподает, не так ли?
Значит, не все он знает.
— Не называй ее «она».
— Дженни ведь тоже работает? — вежливо поправился он.
— Пожалуйста, не вмешивай в это ее, отец. Дело касается только меня. Очень важное личное дело.
— Что, проблемы с какой-нибудь девушкой? — спросил он, не меняя интонации.
— Да, — сказал я. — Да. Дай денег. Пожалуйста.
Я ни секунды не думал, что он мне поверил. По-моему, он и не хотел знать. Он и вопросы-то задавал, только чтобы… поговорить со мной.
Он выдвинул ящик стола и достал чековую книжку в обложке из кожи — такой же, как та, из которой были сделаны ручка ножа и футляр для ножниц. Он открыл книжку медленно — не для того, чтобы помучить меня, не думаю — просто он хотел потянуть время. Найти, что сказать мне. Что-нибудь необидное.
Он выписал чек, вырвал его из книжки и протянул мне. С опозданием на долю секунды я сообразил, что должен протянуть руку навстречу его руке. Он смутился (по-моему), отдернул руку и положил чек на край стола. Он взглянул на меня и кивнул. Лицо его словно говорило: «Вот, возьми, сын». Но вообще-то он только кивнул.
Не то чтобы я хотел уйти, нет. Но я тоже не мог придумать нейтральной темы для продолжения разговора. Однако не могли же мы сидеть вот так и дальше — желая поговорить, но боясь даже посмотреть в глаза друг другу.
Я подался вперед и взял чек. Да, ровно пять тысяч долларов. Подписано: «Оливер Барретт III». Чернила уже высохли. Я аккуратно сложил чек и положил в карман рубашки, потом встал и поплелся к двери. Мне следовало сказать хоть что-то. Дескать, я понимаю, что ради меня нескольких очень важных бостонских персон (а может, даже вашингтонских) заставили протирать штаны в приемной. И добавить, что если нам все-таки есть о чем поговорить, то я пока мог бы поторчать в этой самой приемной, а он бы отказался от приглашения на ланч, и тогда…
Приоткрыв дверь и остановившись на пороге, я собрал все свое мужество, поднял на него глаза и сказал:
— Спасибо, отец.
21
Рассказать обо всем Филу выпало мне. Кому же еще? Он не рухнул на месте, как я боялся, а спокойно запер свой дом в Крэнстоне и переехал жить в нашу квартиру в Нью-Йорке. У каждого есть свои особые способы бороться с горем. Фил спасался тем, что постоянно наводил чистоту. Мел, скреб, чистил. Я не очень понимал ход его мыслей, но, ради бога, пусть работает, если ему так легче.
Может быть, он втайне надеялся, что Дженни еще возвратится домой?
Наверняка надеялся. Бедняга. Вот почему он каждый день убирал квартиру. Он просто не хотел принимать вещи, как они есть. Конечно, мне он в этом не признавался, но я догадывался, о чем он думает.
Потому что думал о том же.
Когда Дженни положили в больницу, я позвонил старику Джонасу и объяснил, почему не могу больше ходить на работу. Я сделал вид, что мне некогда говорить долго, ибо почувствовал, как он огорчен и как пытается сказать что-то, чего он просто не в силах выразить. С этого момента дни мои поделились на время, разрешенное для посещений Дженни, и на все остальное. Разумеется, все остальное не имело никакого значения. Я ел, не чувствуя голода, смотрел, как Фил снова и снова делает уборку, и не спал ночами, несмотря на таблетки, которые прописал мне доктор Аккерман.
Однажды я услышал, как Фил разговаривает сам с собой. «Долго я так не выдержу», — пробормотал он. (Мы только что пообедали, и он мыл посуду на кухне вручную.) Я ничего не сказал, но про себя подумал: «А я вот выдержу. Кто бы ты ни был там, наверху, ты, заправляющий всем и вся, мистер Всевышний, прошу тебя: пусть все остается как есть, я выдержу, я готов терпеть до бесконечности. Ведь Дженни это Дженни».
В тот вечер она выгнала меня из палаты. Она хотела поговорить с отцом «как мужчина с мужчиной».
— На эту встречу допускаются только американцы итальянского происхождения, — заявила она. Лицо ее было белее подушки. — Так что проваливай, Барретт.
— О’кей, — сказал я.
— Только не слишком далеко, — добавила она, когда я уже был в дверях.
Я сел в вестибюле на ее этаже. Вскоре появился Фил.
— Она зовет тебя, — хрипло выдавил он, точно внутри у него была пустота. — Я схожу за сигаретами.
— Закрой эту чертову дверь, — скомандовала она, когда я вошел в палату. Я тихо прикрыл дверь. Присев рядом с ее постелью, я разглядел Дженни лучше. В смысле, всю ее — вместе с этими трубками, подведенными к правой руке, которую она обычно прятала под простынями. Я любил сидеть как можно ближе к ней — просто сидеть и смотреть на ее лицо. Оно было страшно бледным, но на нем по-прежнему сияли глаза.
Так что я побыстрее сел как можно ближе.
— Мне совсем не больно, Оливер, правда, — сказала она. — Знаешь, это как снятое на замедленной скорости падение со скалы.
Глубоко внутри у меня что-то мучительно шевельнулось. Что-то бесформенное поднималось к горлу, чтобы вылиться слезами. Но я не заплачу. Я никогда не плакал. Ведь я сильный парень. Я не заплачу, нет.
Но чтобы не заплакать, мне нельзя открывать рот. Значит, можно только кивнуть. И я кивнул.
— Ерунда, — сказала она.
— Что? — это был скорее хрип, чем слово.
— Ты не знаешь, каково это, падать со скалы, подготовишка. Ты в жизни своей с нее не падал.
— Знаю, — сказал я, вновь обретая дар речи. — Так было, когда я встретил тебя.
— Да, — промолвила она, и на лице ее промелькнула улыбка. — «О, что за паденье то было!» Кто это сказал?
— Не знаю, — сказал я. — Шекспир, наверное.
— Да, но кто именно? — спросила она с какой-то грустью. — Не могу даже вспомнить, из какой пьесы. Я же кончила Рэдклифф, должна помнить. Когда-то я знала наизусть весь Кехелевский указатель сочинений Моцарта.
— Подумаешь, — сказал я.
— Вот и подумай, — возразила она и, наморщив лоб, спросила: — Какой номер у до-минорного концерта?
— Я посмотрю, — пообещал я.
Я даже знал, где. У нас дома. Ноты лежали на полке рядом с фортепиано. Посмотрю и завтра же ей скажу.
— А ведь я знала, — проговорила Дженни. — Правда, знала… Раньше.
— Слушай, ты что, хочешь поговорить о музыке? — перебил я.
— А ты о чем, о похоронах?
— Нет, — выдавил я, пожалев, что перебил ее.
— Я уже обсудила это с Филом, — сказала она. — Ты меня слушаешь, Оливер?
Я отвернулся.
— Да, я слушаю, Дженни.
— Я сказала, что он может пригласить католического священника. Что ты согласишься. О’кей?
— О’кей.
— О’кей, — сказала она.
Я даже почувствовал некоторое облегчение. О чем бы ни зашла речь дальше, все будет легче.
Но я ошибся.
— Послушай, Оливер, — сказала Дженни очень тихо, но голосом, какой бывал у нее, когда она сердилась. — Оливер, ты перестань себя мучить.
— Я?
— У тебя виноватое выражение лица, Оливер. Это что-то болезненное.
Я попытался изменить выражение, но лицевые мускулы словно онемели.
— Здесь нет ничьей вины, ты, подготовишка мудацкий, — говорила она. — Прекрати себя упрекать.
Я хотел смотреть на нее, хотел глаз с нее не сводить, но все-таки опустил глаза. Мне было стыдно, что даже сейчас Дженни так легко читает мои мысли.
— Послушай, это единственное, черт побери, о чем я прошу, Оливер. А так все у тебя будет о’кей.
У меня опять подкатил к горлу комок, и я побоялся сказать даже «о’кей». Я безмолвно смотрел на Дженни.
— Да черт с ним, с Парижем! — сказала она вдруг.
— Что?
— Черт с ним, с Парижем, с музыкой, вообще со всем. Мне плевать на все это, понимаешь, сукин ты сын? Можешь ты в это поверить?
— Нет, — честно признался я.
— Тогда пошел отсюда вон! Я не хочу, чтобы ты сидел у моего чертова смертного одра.
Она не шутила. Я всегда мог сказать, когда она говорила всерьез. И я купил ложью позволение остаться.
— Я верю тебе.
— То-то, — сказала она. — А теперь, можно я тебя о чем-то попрошу? — Внутри у меня снова все содрогнулось от мучительного желания заплакать. Но я переборол себя. Я не заплачу. А просто дам понять Дженни — одним только кивком головы, — что буду счастлив сделать все, что она попросит. Все.
— Пожалуйста, обними меня крепко-крепко, — сказала она.
Я положил ей руку на плечо — господи, такое худенькое! — и слегка сжал его.
— Нет, Оливер, — прошептала она. — По-настоящему. Ляг рядом со мной.
Я был очень, очень осторожен — из-за этих трубок и прочего. Я лег рядом с Дженни и обнял ее.
— Спасибо, Оливер.
Это были ее последние слова.
22
Фил Кавиллери курил в вестибюле уже энную по счету сигарету.
— Фил! — тихо сказал я.
— Да? — Он поднял глаза, и я подумал, что он уже знает.
Ему нужно было сейчас какое-то физическое утешение. Я подошел и положил руку ему на плечо, боясь, что он сейчас разрыдается. Я был уверен, что сам я не заплачу. Я просто не мог. В смысле, я был уже по ту сторону всего этого.
Фил положил свою руку на мою.
— Жаль, — пробормотал он. — Жаль, что я… — Он запнулся. Я ждал. Куда теперь было спешить?
— Жаль, что я пообещал Дженни быть сильным… ради тебя.
И, как бы выполняя данное обязательство, он тихонько потрепал меня по плечу.
Однако сейчас мне надо было остаться одному. Глотнуть свежего воздуха. Может быть, пройтись.
Приемный покой внизу был погружен в тишину. Слышался лишь стук моих каблуков по линолеуму.
— Оливер!
Я остановился.
Это был отец. Мы были одни, если не считать дежурной в регистратуре.
Но я не мог сейчас говорить с ним. Глядя перед собой, я направился к вращающимся дверям. Через мгновение он тоже вышел на улицу и остановился рядом со мной.
— Оливер, — произнес он. — Ты должен был сказать мне.
Было очень холодно. Это было даже хорошо, потому что меня охватило какое-то оцепенение, и я хотел почувствовать хоть что-нибудь. Отец продолжал говорить, а я молча стоял, подставив лицо порывам холодного ветра.
— Я сразу помчался сюда, как только узнал.
Я забыл взять пальто. От стужи у меня заломило все тело. Хорошо. Очень хорошо.
— Оливер, — настойчиво повторил отец. — Я хочу помочь.
— Дженни умерла, — сказал я.
— Мне очень жаль… — ошеломленно прошептал он.
Не знаю почему, но я все повторял слова, которые когда-то давным-давно узнал от чудесной девушки, которая теперь умерла.
«Любовь — это когда ни о чем не нужно жалеть».
А потом я сделал то, чего никогда не делал в присутствии отца, тем более — у него на груди. Я заплакал.











