Читать онлайн Мужчины учат меня жить
- Автор: Ребекка Солнит
- Жанр: Зарубежная публицистика
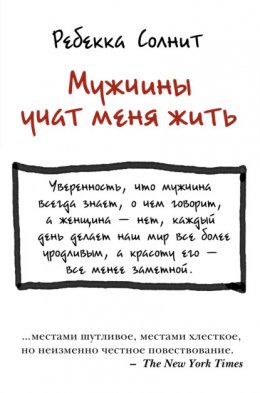
Посвящаю эту книгу:
нашим бабушкам;
мечтательницам, которые борются за справедливость;
мужчинам, которые понимают;
молодым женщинам, которые не сдаются;
пожилым женщинам, которые проложили дорогу молодым;
бесконечным спорам;
и, наконец, миру, где Элла Нахимовиц (родилась в январе 2014-го)
сможет полностью реализовать себя.
Rebecca Solnit
Men Explain Things to Me
© Е. Луцкая, перевод, 2021
© Rebecca Solnit, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Глава 1
Мужчины учат меня жить
До сих пор не пойму, зачем мы с Салли вообще пошли тогда на вечеринку на горном склоне под Аспеном. Все до единого гости были старше нас и невозможно скучны. Мы, тетки за сорок, считались здесь за девчонок. Дом был шикарный – если вы, конечно, любите шале в стиле Ральфа Лорана: внушительное, роскошное здание, выстроенное на высоте девяти тысяч футов, на стенах лосиные рога, повсюду ковры «килим», дровяная печь. Мы уже собирались уходить, когда хозяин обратился к нам: «Побудьте еще. Хочу с вами пообщаться». Представительный и ужасно богатый мужчина.
Пришлось нам дождаться, пока другие гости не отчалят в летнюю ночь: тогда он усадил нас за дорогой деревянный стол и обратился ко мне:
– Ну что? Я слышал, вы написали пару книг?
Я ответила:
– Если точнее – несколько.
– И о чем же они? – продолжал он таким тоном, словно разговаривал с семилетним ребенком, который стесняется рассказать, как хорошо он играет на флейте.
Вообще говоря, мои шесть или семь вышедших на тот момент книг были о разных вещах. Я заговорила о той, которая на тот летний вечер 2003 года была самой свежей. Это была «Река теней: Эдвард Мейбридж и технологичный Дикий Запад», где шла речь о покорении времени и пространства, об индустриализации повседневной жизни.
Вскоре после того, как я упомянула Мейбриджа, собеседник перебил меня:
– В этом году вышла одна очень интересная книга о Мейбридже: слышали о ней?
Он наделил меня ролью инженю столь внезапно и столь решительно, что я практически готова была поверить, будто одновременно с моей книгой вышла еще одна на ту же тему, а я умудрилась ничего о ней не узнать. И вот он уже рассказывает мне об этой интересной книге – вот с этим знакомым надменным выражением лица «Мужчина Вещает», устремив взор в загадочную даль своего авторитета.
Оговорюсь: в моей жизни есть множество замечательных мужчин, в том числе редакторов, которые еще с юных моих лет слушали меня, поддерживали и публиковали мои работы. У меня есть бесконечно щедрый младший брат и множество чудесных друзей, о которых я могу сказать словами Чосера о Студенте из «Кентерберийских рассказов»: «Хотел учиться и других учить». Что-то я еще помню с уроков литературы! Но бывают и другие мужчины.
Тем временем наш мистер Умник продолжал, надувая щеки, вещать об этой книге, которую мне обязательно стоило бы прочесть… пока Салли не перебила его:
– Это ее книга.
По крайней мере, Салли попыталась его перебить – а он продолжал как ни в чем не бывало. Ей пришлось трижды или четырежды повторить «Это ее книга и есть», – прежде чем до него дошло. И тогда – точь-в-точь как пишут в романах девятнадцатого века – наш мистер Умник побледнел как полотно. Тот факт, что именно я и написала эту важнейшую книгу, которую он, как выяснилось, даже не читал – просто наткнулся на рецензию в New York Times несколько месяцев назад, – настолько перевернул весь привычный ему мир с ног на голову, что он потрясенно умолк. На секунду. А потом продолжил вещать. Как приличные женщины, мы удалились от него на почтительное расстояние, прежде чем расхохотаться. И, в общем, хохочем до сих пор.
Люблю такие моменты, когда вдруг всплывает на поверхность неприглядная истина, которую обычно сложно разглядеть и привлечь к ней внимание. Трудно, например, не заметить анаконду, которая сожрала корову или слона – а потом взяла и насрала на ковер.
Скользкая дорожка: как нас заставляют молчать
Конечно, подобного субъекта можно встретить на любой вечеринке. Толкать речи о теориях заговора и иной чепухе могут и мужчины, и женщины. Но, по моему опыту, настолько уверенно нести отъявленную чушь – привилегия лишь одного пола. Мужчины учат меня жить. Меня и других женщин. Неважно, разбираются они сами в проблеме или нет. Так поступают очень многие мужчины.
Любая женщина поймет, о чем я. Из-за этого женщинам порой бывает тяжело в любом деле; из-за этого они не решаются говорить громко и не добиваются, чтобы их услышали; из-за этого молодые женщины предпочитают молчать, когда им указывают – в том числе и языком уличного насилия, – что этот мир не для них. Эта позиция – причина наших самоограничений и сомнений в себе. Она же и подпитывает ничем не оправданное, излишнее самомнение мужчин.
Я не удивилась бы, узнав, что вся американская политика начиная с 2001 года была отчасти обусловлена тем, что никто так и не услышал Колин Роули, сотрудницу ФБР, которая давным-давно высказывала свои соображения насчет Аль-Каиды. Более того, за развитие событий ответственно правительство Буша с его неспособностью услышать хоть что-нибудь: в том числе что Ирак никак не связан с Аль-Каидой и не имеет оружия массового поражения. А также что война – это совсем не плевое дело. (Стену самоуверенности Буша не удалось пробить даже мужчинам-экспертам.)
Может быть, надменность американского правительства и развязала войну в Ираке. Однако та же самая надменность регулярно устраивает войну вокруг нас и даже у нас внутри: войну, которая знакома каждой женщине. Нас вынуждают уверовать в собственную несерьезность. Нас заставляют молчать. Я всё ищу способы избавиться от этого внутреннего императива – и даже неплохая писательская карьера (а я всегда тщательно проверяю и излагаю факты) пока не помогает. Даже в той ситуации, о которой я рассказала выше, были моменты, когда я готова была уступить мистеру Умнику – и позволить его невероятной самоуверенности взять верх над моей не столь твердой решимостью.
Не стоит забывать, что уже тогда у меня было больше аргументов в пользу права мыслить и высказывать своё мнение, чем чувствуют за собой большинство женщин. Я уже знала, что немного сомневаться в себе – это хорошее подспорье для того, чтобы исправлять собственные ошибки и расти над собой. Конечно, если сомнений слишком много, они парализуют – а стопроцентная уверенность в себе порождает лишь надменных идиотов. Между этими крайностями есть золотая середина, к которой стремятся представители того или иного гендера: теплый и комфортный «экватор», где нам и стоит встретиться.
Мы ещё не в самом плохом положении: взять хотя бы ближневосточные страны, где свидетельство женщины не имеет юридического веса, так что даже об изнасиловании она сама заявить не может – нужно, чтобы против мужчины-насильника выступил мужчина-свидетель. А такие находятся редко.
Между тем право на доверие – это один из базовых факторов выживания. Когда я была совсем молода и только начинала понимать, что такое феминизм и почему он так необходим, был у меня молодой человек, чей дядя работал физиком-ядерщиком. Однажды на Рождество он в виде милой и забавной истории рассказал, как жена его соседа по пригороду, где жили научные сотрудники, выбежала ночью из дома голышом, крича, что муж пытается ее убить. Я спросила: «А почему вы решили, что он и правда не пытался?» Он терпеливо объяснил, что это были приличные, респектабельные люди. Ему и в голову не могло прийти, что муж действительно на нее напал. Действительно: зачем ещё ей было выбегать из дома с криками, что на неё напали! Конечно, это неправда. У бедняжки что-то не в порядке с головой…
Даже чтобы получить охранный ордер – в Америке это недавняя практика, – женщине нужно разбиться в лепёшку, чтобы доказать суду и полиции справедливость своих заявлений. Только тогда они поверят, что тот или иной мужчина действительно угрожает ей, и всерьёз возьмутся за это дело. И нужно ещё учесть, что зачастую охранные ордера не работают вовсе. Насилие – распространенный способ заставить людей замолчать, отобрать у них голос и доверие общества, утвердить свою власть над их правом на существование. В Америке каждый день примерно три женщины оказываются убиты нынешними или бывшими супругами. Это одна из главных причин смерти беременных в США. Борьба феминисток за то, чтобы изнасилования, в том числе на свиданиях и в браке, а также домашнее насилие и сексуальные домогательства на работе были признаны преступлениями, – это на самом деле борьба за то, чтобы женщин слышали и им верили.
Я склонна считать, что женщин начали считать за людей лишь тогда, когда такие вещи стали принимать всерьез, когда за тяжкие преступления, цель которых – уничтожить нас, стали официально преследовать. Положительные изменения начались в середине 70-х – а я в то время была уже подростком. Желающим возразить, что сексуальная агрессия на работе – это не вопрос жизни и смерти, напомню о случае, когда младший капрал морской пехоты 20-летняя Мария Лотербах была, по-видимому, убита своим старшим по званию коллегой зимним вечером, пока ждала своей очереди в полиции, чтобы заявить на него об изнасиловании. Обожженные останки ее тела нашли в кострище у него на заднем дворе. Мария была беременна.
Уверенность, что мужчина всегда знает, о чем говорит, а женщина – нет, каждый день делает наш мир всё более уродливым, а красоту его – всё менее заметной. В ход идёт всё, любая мелочь. Когда в 2000 году вышла моя книга «Не сидится на месте», я ощутила прилив сил: теперь я могла достойно сопротивляться тем, кто пытался лишить меня права на мысли, мнения и голос. С тех пор дважды я сумела бросить вызов поведению мужчин – только, увы, в обоих случаях мне заявили, что все было совершенно не так, как утверждала я, что я веду себя необъективно, нечестно, заблуждаюсь, слишком нервничаю, – в общем, веду себя чисто по-женски.
Раньше я бы почти наверняка усомнилась в себе и отступила. Теперь, когда публикуют мою историческую прозу и люди знают меня, у меня есть больше оснований для уверенности в себе: но так везёт далеко не всем женщинам. Из семи миллиардов людей, живущих на планете, львиной доле постоянно твердят, что их собственный жизненный опыт ничего не стоит. Что правда не на их стороне – и никогда не будет. То, как «мужчины учат нас жить», – лишь верхушка могучего, уродливого айсберга.
А мужчины по-прежнему учат меня жить. Ни один мужчина ни разу не извинился за то, что необоснованно поучал меня вещам, в которых я разбираюсь, а он – нет. Впрочем, если верить актуарным таблицам, еще буквально лет сорок с небольшим – и это может стать реальностью. Но я не особенно в это верю.
Женщины: борьба на два фронта
Через несколько лет после того эпизода с аспенским придурком я читала лекцию в Берлине, и меня пригласил поужинать писатель марксистского толка по имени Тарик Али. К нам присоединились ещё четверо: другой мужчина – писатель и переводчик – и три женщины чуть моложе меня. Последние себя крайне почтительно и почти все время молчали. Тарик был великолепен. Переводчику, кажется, не нравилось, что я держусь в разговоре скромно. Но стоило мне упомянуть о том, как удивительная, мало кому известная группа антивоенных и антиядерных активисток «Женщины выступают за мир» (Women Strike for Peace), созданная в 1961 году, способствовала падению антикоммунистической Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (HUAC), мистер Умник-2 попытался меня осмеять. До начала 60-х, утверждал он, этой Комиссии не существовало, и уж в любом случае никакая женская группа на ее крах подобным образом не влияла. Он говорил с таким убийственным презрением и с такой злобной уверенностью, что казалось, будто спорить с ним – лишь упражняться в бессилии и навлекать на себя еще больший негатив.
Я к тому времени написала, кажется, уже девять книг, в том числе одну – на основе документальных материалов и интервью с одной из ключевых участниц той самой антивоенной группы. И все равно менсплейнеры[1] продолжают твердить мне, что я (такая вот гадкая метафора оплодотворения) представляю собой пустой сосуд, который они должны наполнить мудростью и знанием. Фрейдисты утверждают, что у них есть то, чего нет у меня, но ум сосредоточен уж точно не в паху – даже если мужчина способен написать мочой на снегу сладкозвучную, музыкальную фразу Вирджинии Вульф о незаметном порабощении женщин. Вернувшись к себе в отель, я порылась в интернете и нашла, что Эрик Бентли в своей подробнейшей истории HUAC решительно утверждает, что именно группа «Женщины выступают за мир» «нанесли решающий удар, предопределивший окончательное падение цитадели HUAC». И было это в начале 60-х.
Именно эту сцену я описала в начале эссе для журнала Nation, посвященного Джейн Джейкобс, Бетти Фридан и Рейчел Карсон. Отчасти для того, чтобы еще раз обратиться к одному из мерзких менсплейнеров: «Парень, если ты это читаешь, знай: ты – прыщ на лице человечества, ты препятствие на пути к цивилизации. Пусть тебе будет стыдно».
Борьба с мужчинами, учащими жить, продолжает отнимать силы у множества женщин – из числа моих ровесниц и из тех, кто составит новое, столь нужное нам поколение; в нашей стране и в Пакистане, Боливии, Индонезии, не говоря уже о бесчисленных женщинах, живших до меня, которых не допускали в лабораторию, в библиотеку, к участию в разговорах и в революциях, да и вообще – в ряды человечества.
В конце концов, ту же самую группу «Женщины выступают за мир» основали всё те же женщины, которым надоело варить кофе и набирать на машинке тексты, не имея возможности высказываться и участвовать в антиядерном движении 1950-х. Чаще всего женщина сражается на два фронта – одновременно дискутируя по существу вопроса и отстаивая свое право говорить, иметь мнение, владеть фактами и истинами, иметь ценность, быть человеком. В наши дни ситуация улучшилась, но на моем веку эта война себя не исчерпает. Я и сама – солдат на этой войне. Я сражаюсь и за себя, и за всех тех молодых женщин, которым есть что сказать: я надеюсь, что их услышат.
Заключение
Как-то вечером в марте 2008 года за ужином я пошутила (как уже не раз делала до того), что напишу эссе под названием «Мужчины учат меня жить». У каждого писателя есть коллекция идей, которым не суждено стать книгами, и я время от времени «выгуливала» мысль о таком эссе. Моя гостья – активистка и блестящая философиня Марина Ситрин – уверяла, что я обязательно должна его написать, ведь оно очень пригодилось бы таким людям, как ее младшая сестра Сэм. Молодым женщинам, говорила она, нужно знать, что когда их достижения преуменьшают – это не значит, что с ними что-то не так. Это все те же чертовы гендерные войны. Ни одну из нас та чаша не минует.
Следующим утром я села за эссе и вмиг написала его, не поднимая головы. Если произведение родилось на свет так легко, это значит, что оно уже давно вынашивалось где-то на задворках сознания. Оно просилось на бумагу, рвалось наружу. И стоило мне сесть за компьютер – оно родилось. В те дни Марина вставала позже меня, так что я подала ей готовое эссе на завтрак, а пару часов спустя отправила его Тому Энгельгардту, который еще чуть позже опубликовал мой материал на сайте TomDispatch.com. Разошлось оно быстро – как бывает со всеми эссе на сайте Тома – и до сих пор его не перестают пересылать, репостить, публиковать и комментировать. Ничего подобного с моими произведениями раньше не бывало.
«Мужчины…» зацепили аудиторию. Попали в точку.
Некоторые мужчины пытались объяснить, что когда они объясняют что-то женщинам – это не гендерное явление. Обычно женщины в ответ указывали на то, как мужчины, пытаясь отказать им в их собственном опыте, давали свои объяснения именно так, как я это и описывала. (Для протокола: да, я считаю, что и женщинам случается пускаться в снисходительные объяснения, в том числе и в адрес мужчин. Но это ничуть не отменяет колоссальной разницы в позициях, приобретающей порой еще более мрачные формы, и распространенного гендерного перекоса в обществе).
Некоторые же мужчины уловили мою мысль и повели себя достойно. В конце концов, дело происходило в те времена, когда мужчин-профеминистов становилось больше, чем раньше, и феминизм был как никогда на слуху. Не каждый, впрочем, понимал нашу риторику. Через сайт TomDispatch я получила в 2008 году сообщение от пожилого мужчины из Индианаполиса, который, по его словам, «никогда не принижал женщин ни в личном, ни в профессиональном плане», и упрекал меня, говоря, что я «могла бы общаться с парнями поприличнее и вообще сначала проверять факты». Вдогонку он дал мне совет о том, как мне наладить жизнь, и высказался насчет моего «чувства неполноценности». По его мнению, снисходительное отношение к себе женщина выбирает или не выбирает сама – так что во всем виновата была только я.
Появился сайт Academic Men Explain Things to Me («Ученые-мужчины учат меня жить»), где сотни женщин из университетских кругов рассказывали, как к ним относятся снисходительно, преуменьшают их заслуги, перебивают и так далее. Термин «менсплейнинг» окончательно сформировался вскоре после публикации моего эссе. Иногда его приписывают лично мне. На самом деле я не имею отношения к его появлению, хотя очевидно, что оно навеяно моей работой (и, конечно, всеми мужчинами, воплотившими в себе эту идею). (Я отношусь к этому слову без фанатизма и сама пользуюсь им нечасто. На мой взгляд, оно слишком подчеркивает идею, что этот изъян присущ всем мужчинам, а не дает понять, что некоторые мужчины объясняют то, чего не следовало бы, и не умеют слышать, то что следовало бы. Если это недостаточно явно следует из моего эссе – на самом деле я очень люблю, когда люди объясняют мне то, в чем они действительно разбираются, а я еще нет, но хочу разобраться. Проблема – это когда собеседник втолковывает мне то, что я знаю, а он сам – нет). К 2012 году слово «менсплейнить» – ставшее одним из слов 2010 года по версии New York Times – уже использовали в массовой политической журналистике.
Увы, этот термин прекрасно вписался в контекст времени. Сайт TomDispatch вновь опубликовал «Мужчин…» в августе 2012 года, и, по счастливой случайности, примерно в то же время член Палаты представителей от штата Миссури, республиканец Тодд Эйкин сделал свое скандально известное утверждение о том, что изнасилованным женщинам не нужны аборты, поскольку «если произошло настоящее насилие, женский организм найдет способ предотвратить последствия». Именно в том предвыборном сезоне звучали безумные фразы со стороны мужчин-консерваторов в поддержку насильников и в противовес фактам. Одновременно слышались и голоса феминисток, объяснявших, почему феминизм так необходим и почему такие мужчины – это страшно. Я ценила возможность участвовать в этом разговоре. О моём эссе снова вспомнили.
Сейчас, когда я пишу эти строки, «Мужчин…» продолжают обсуждать и репостить. Я ни в коем случае не хотела сказать, что считаю себя чудовищно угнетенной. Мне лишь хотелось показать, как подобная риторика открывает перспективы для мужчин и блокирует их для женщин, лишая их возможности говорить, быть услышанными, иметь права, работать наравне с мужчинами, быть уважаемыми, в общем – быть полноценными, свободными людьми. Именно так в культурном дискурсе обозначается власть – как раз та власть, которая в дискурсе антикультурном, в физических актах запугивания и насилия и зачастую в фактическом мироустройстве замалчивает, вымарывает, уничтожает женщин как равных, как людей, наделенных правами, и слишком часто – как живых существ вообще.
Борьба за то, чтобы к женщинам относились как к людям, имеющим права на жизнь, свободу и голос на культурной и политической сцене, продолжается. И порой она приобретает поистине зверские формы. Я и сама удивилась тому, что мое эссе началось с забавной сцены, а закончилось упоминанием об изнасилованиях и убийствах. И тогда я поняла, что все это – мелкие социальные нестыковки и грубое замалчивание и насилие – явления одного порядка. Мне кажется, что мы намного яснее увидим мизогинию и преступления против женщин, если взглянем на злоупотребления властью в целом. Не стоит рассматривать домашнее насилие отдельно от таких проблем, как на изнасилования, убийства, харассмент и угрозы онлайн и офлайн, на работе и на улицах. Именно в совокупности все это дает единую картину.
Право говорить и быть услышанной – основополагающее для выживания, достоинства и свободы. Я счастлива, что даже спустя много лет молчания (иногда вызванного большим страхом) я выросла и обрела голос. Теперь я всегда буду говорить от имени тех, кто голоса не имеет.
2008
Глава 2
Самая долгая война
У нас в США, где, согласно официальной статистике, изнасилование происходит каждые 6,2 минуты, а на протяжении жизни будет изнасилована каждая пятая женщина, известие об изнасиловании и зверском убийстве молодой женщины в Нью-Дели в автобусе 16 декабря 2012 года было тем не менее воспринято как что-то из ряда вон выходящее. Все ещё помнили случай в Стьюбенвилльской школе в штате Огайо, где девочку-подростка домогались несколько членов футбольной команды: время от времени эта история обрастала новыми подробностями. Групповыми изнасилованиями нас было уже не удивить. Выбирайте на ваш вкус: незадолго до этого получили тюремные сроки тринадцать из двадцати мужчин, коллективно изнасиловавших одиннадцатилетнюю девочку в Кливленде; инициатор группового насилия над шестнадцатилетней девушкой в Ричмонде был признан виновным осенью того же 2012 года; четверо мужчин, надругавшихся над пятнадцатилетней девушкой вблизи Нового Орлеана, получили приговор в апреле того же года; зато шестеро насильников четырнадцатилетней девушки в Чикаго все еще не были пойманы. Я совершенно не склонна специально выискивать подобные факты. Ими переполнены новости, но никто не пытается сделать на их основании выводы о том, что, возможно, существует некая тенденция.
Но она есть – это тенденция к насилию в отношении женщин, обширная, глубокая, ужасная и постоянно игнорируемая тенденция. Порой, если жертвой становится знаменитость или всплывают особенно мерзкие подробности, ситуация получает внимание прессы, но такие случаи считают из ряда вон выходящими, тогда как бесчисленные известия об «обычном» насилии против женщин в США, в других странах, на всех континентах, включая Антарктиду, звучат как фоновый шум.
Если вам кажутся более значимыми изнасилования в автобусах, чем групповые, – вспомним о насилии в отношении женщины с особенностями развития в лос-анджелесском автобусе в ноябре все того же 2012 года. Или о похищении шестнадцатилетней аутистки из пригородного поезда в Окленде этой зимой (похититель насиловал ее в течение двух дней). А также не забудем о групповом изнасиловании нескольких женщин в автобусе в Мехико, тоже сравнительно недавнем. Пока я составляла эту подборку, я узнала еще об одном случае: пассажирку индийского автобуса похитили и насиловали всю ночь водитель и пятеро его приятелей. Они, должно быть, сочли, что произошедшее в Нью-Дели настолько круто, что это стоит повторить.
И в Америке, и по всей планете сексуального и прочего насилия в адрес женщин предостаточно, и при этом его почти никогда не считают вопросом нарушения гражданских или человеческих прав, признаком кризиса или следствием какой-либо тенденции. У насилия нет расы, класса, религии, национальности – а гендер у него есть.
Сразу оговорюсь: хотя практически всегда такие преступления совершают мужчины, это не значит, что все мужчины склонны к насилию. В большинстве они не таковы. Кроме того, нет сомнений, что мужчины тоже терпят насилие, в основном от других мужчин; верно и то, что любая насильственная смерть, любое нападение – это ужасно. Порой насилие в отношении партнеров творят и женщины; впрочем, по результатам исследований, это редко приводит к тяжелым травмам и тем более к смерти. Если же мужчины погибают от рук женщин, то как правило речь идет о самозащите последних. Именно женщины в результате партнерского насилия регулярно попадают в больницу – или в могилу. В этой книге речь идет об эпидемии мужского насилия в отношении женщин – будь то насилие партнерское или со стороны незнакомцев.
О чем мы умалчиваем, когда не говорим о гендере
Да много о чем. Можно было бы вспомнить нападение с изнасилованием на 73-летнюю женщину в Сентрал-Парк на Манхэттене в сентябре 2012 года, недавнее изнасилование четырехлетней девочки и 83-летней старушки в Луизиане, могли бы упомянуть полицейского из Нью-Йорка, арестованного в октябре 2012 года по подозрению в весьма серьезных планах похитить, изнасиловать, сварить и съесть женщину – любую женщину, потому что ненависть его не была личной. В отличие, должно быть, от жителя Сан-Диего, который в самом деле убил и сварил свою жену в ноябре 2012-го, а также мужчины из Нового Орлеана, который убил, расчленил и сварил свою подружку в 2005 году.
Все это – случаи из ряда вон выходящие, но ведь нам ничто не мешает поговорить и о повседневных нападениях. Ведь хотя каждые 6,2 минуты в Америке заявляют об изнасиловании, реальная цифра раз в пять выше. Что означает, что в нашей стране кого-то насилуют примерно раз в минуту. И вот они – новые и новые жертвы. Значительная часть ваших знакомых знает о насилии не понаслышке.
Можем поговорить об изнасилованиях в старшей школе, в спортивных кружках, в студенческих общежитиях (причем руководство университетов к таким случаям возмутительно равнодушно, как было, например, в той самой школе в Стьюбенвилле, в Университете Нотр-Дам, колледже Амхерст и много где еще). Можем вспомнить о неудержимой эпидемии изнасилований, сексуальных посягательств и харассмента в рядах вооруженных сил США: по оценкам министра обороны США Леона Панетты, лишь за 2010 год таких случаев произошло 19 тысяч, причем абсолютное большинство агрессоров ушло от ответственности, хотя в сентябре 2010 генерал Джеффри Синклер и был предан суду за «серию сексуальных преступлений против женщин».
Оставим насилие на рабочих местах. Вернемся домой. Партнерш, в том числе бывших, убивает столько мужчин, что на каждый год приходится свыше тысячи таких убийств – то есть каждые три года число погибших сравнивается с потерями в результате теракта 11 сентября. А ведь подобному террору никто войны не объявляет. (Сформулируем иначе: за период с 11 сентября 2001 по 2012 год в результате домашнего насилия погибло 11766 человек, и это больше, чем убито в результате вышеупомянутого теракта, плюс все американские солдаты, отдавшие жизнь в «войне с терроризмом»). Заговори мы о подобных преступлениях и о том, почему же они так часты, нам пришлось бы задуматься о том, какие глобальные изменения нужны нашему обществу, нашей стране – и почти любой другой тоже. Задумайся мы об этом, речь непременно зашла бы о маскулинности, стереотипных мужских ролях, возможно – о патриархате. Но мы об этом почти не говорим.
Зато мы нередко слышим о том, как американские мужчины совершают так называемые убийства-самоубийства: их случается порядка дюжины в неделю. Связывают это с тяжелыми экономическими условиями, но то же самое происходит и когда экономически все хорошо. Те мужчины в Индии убили пассажирку автобуса якобы из-за того, что бедные презирают богатых, а другие индийские изнасилования объясняют эксплуатацией богатыми бедных. Ну и прочие, всегда актуальные объяснения: проблемы с головой, воздействие веществ – и, для полного счастья, последствия черепно-мозговых травм. Объяснение из свежих: многие случаи насилия в США вызваны отравлением свинцом. А между тем травятся-то представители обоих полов, а насилие, как правило, творит только один. Пандемию насилия всегда объясняют чем угодно, только не гендером. Любыми причинами, которые можно трактовать максимально широко.
Кто-то написал материал о том, что именно белые мужчины склонны совершать массовые убийства в США. Комментаторы (по большей части возмущенные) заметили в этой формулировке только часть про «белых». Лишь изредка кто-то упоминает, каковы результаты этого медицинского исследования, и то лишь максимально безэмоциональным языком: «В ходе нескольких исследований было выявлено, что принадлежность к мужскому полу является фактором риска преступного насильственного поведения, наряду с воздействием табачного дыма в пренатальный период, антисоциальным образом жизни родителей и низкими доходами семьи».
И я вовсе не хочу «придираться» к мужчинам. Просто мне кажется, что если бы мы заметили, что женщины в целом гораздо меньше склонны к насилию, это дало бы возможность предположить, откуда оно берется и что можно сделать, чтобы ему противостоять. Безусловно, огромную проблему для США представляет собой доступность оружия; однако хоть оно и доступно всем, в 90 % случаев убийства совершают мужчины.
Тенденция ясна как день. И эта проблема достигла глобальных масштабов. Вспомним эпидемию агрессии, харассмента и изнасилований женщин в результате исламской революции в Египте, отменившей свободы, завоеванные «арабской весной» (и некоторые мужчины даже создали группы сопротивления последствиям этих событий). Вспомним преследования женщин, открытые и тайные, в Индии – от уличных приставаний до сожжения невест. Вспомним «убийства чести» в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Вспомним, что ЮАР считается мировой столицей изнасилований – по разным оценкам, за прошлый год здесь произошло 600 тысяч инцидентов. Вспомним также, что в Мали, Судане и Конго насилие над женщинами – одно из средств ведения войны, как было и в бывшей Югославии. Не забудем о повсеместном распространении насилия и преследования в Мексике, в том числе о фемициде в Хуаресе. Вспомним, как отказывают в базовых человеческих правах женщинам в Саудовской Аравии, и о бесчисленном множестве сексуальных нападений на домработниц-иммигранток. Упомянем о том, что американская история с Домиником Стросс-Каном обнаружила абсолютную безнаказанность для него и подобных ему во Франции. Если я начну перечислять случаи из Британии, Канады, Италии (бывший премьер-министр которой прославился своими оргиями с несовершеннолетними), Аргентины, Австралии и многих других стран – мне просто места не хватит.
Кто имеет право вас убить?
Вы, наверно, устали от статистики. Давайте рассмотрим один-единственный инцидент, произошедший в моем городе в январе 2013 года, когда я собирала материал для этой книги. Просто один из многих инцидентов местного значения, которые фигурировали в тот месяц в местных газетах и связаны были с агрессией мужчин в адрес женщин.
«Сообщает полиция Сан-Франциско: Женщина получила удар ножом после того, как отвергла сексуальные притязания мужчины. Инцидент произошел на территории района Тендерлойн в Сан-Франциско, ночью с понедельника на вторник. 33-летняя пострадавшая шла по улице, когда к ней приблизился незнакомец с предложением непристойного характера, – говорит спикер полиции офицер Алби Эспарса. Получив отказ, мужчина разозлился, ударил женщину по лицу и пырнул ножом в руку, передает Эспарса».
Иначе говоря, с точки зрения мужчины выбранная им жертва не имела никаких прав и свобод, тогда как у него право ее контролировать и наказывать – было. Этот случай напоминает нам: в основе насилия прежде всего лежит вопрос власти. Вот основной посыл агрессивного поведения: «Я вправе тебя контролировать».
Убийство – крайнее выражение такого подхода: убийца воображает, что имеет право решать, жить вам или умереть. Это предельная степень контроля над другим человеком. И они так видят ситуацию, даже если вы им повинуетесь: ведь желание контролировать обусловлено тем безумием, которое не обуздать одной лишь покорностью. Оно может быть замешано на всевозможных страхах, чувстве уязвимости – но в основе его остается чувство дозволенности, права причинять другому человеку страдания и даже смерть. И это чувство вредит как агрессору, так и жертвам.
Что касается вышеописанного случая в моем городе – подобное случается постоянно. Схожие вещи происходили в молодости и со мной. Иногда мне угрожали убийством, часто – поливали руганью: мужчина приближается к женщине, обуреваемый как желанием, так и злобным ожиданием отвержения. Злоба и желание неотделимы друг от друга, именно здесь эрос может превратиться в танатос, любовь – в смерть.
Существует целая система контроля. Она – причина того, что женщин часто убивают тогда, когда они осмеливаются разорвать отношения. Немало женщин при этом попадают в тюрьму.
Хорошо, скажете вы, все эти мужчины – тот, кто напал в Тендерлойне 7 января; жестокий потенциальный насильник в моем районе 5 января или еще один агрессор 12 января; житель Сан-Франциско, который 6 января поджег свою подружку за то, что та отказалась стирать ему одежду; парень, приговоренный к 370 годам тюрьмы за особо жестокие изнасилования в Сан-Франциско в конце 2011 года, – все они маргиналы. Но богатые, знаменитые, привилегированные мужчины от них не отстают.
Японского вице-консула в Сан-Франциско обвинили в двенадцати эпизодах тяжкого насилия в отношении супруги и угрозах смертельно опасным оружием в сентябре 2012 года. В том же месяце и в том же городе бывшая девушка Мэйсона Майера (брата директрисы Yahoo Мариссы Майер) рассказывала в суде: «Он вырвал у меня из ушей серьги, оторвал ресницы, при этом плевал мне в лицо и говорил, как я отвратительна… Я лежала на полу, сжавшись в комок, а когда я попыталась пошевелиться, он еще сильнее сжал меня с боков коленями и начал бить». По словам журналистки San Franсisco Chronicle Вивиан Хо, дальше она рассказывала, что «Майер несколько раз ударил ее об пол головой, клочьями выдирал волосы и твердил, что живой она выберется из квартиры только если он повезет ее к мосту Голден-Гейт, „а там прыгай с моста или я сам тебя столкну“». Мэйсон Майер получил условный срок.
Летом предыдущего года мужчина нарушил условия охранного ордера, запрещавшего ему приближаться к жене, и застрелил ее, а заодно убил ещё трёх женщин (и покалечил ещё трёх) у нее на работе в пригороде Милуоки. Но поскольку трупов было всего четыре, то пресса уделила этому случаю совсем мало внимания. Ведь в том же году произошла куча гораздо более впечатляющих массовых убийств. И это мы еще не говорили о том, что из 62 случаев групповых расстрелов в США за последние тридцать лет лишь один раз стрелком была женщина. Говоря «стрелок-одиночка», или lone gunman, всегда сосредоточивают внимание на том, что это одиночка (lone), или на проблеме оружия (guns), а вот часть man (мужчина) обычно упускают. А ведь почти две трети всех застреленных женщин погибают от руки текущего или бывшего партнера.
Как пела Тина Тернер, «При чем же здесь любовь?» – «What’s love got to do with it». Кстати, именно ее бывший муж Айк сказал как-то: «Ну да, я ее ударил, но не сильнее, чем обычные мужики бьют жен». Каждые девять секунд в Америке бьют женщину. Не девять минут. Девять секунд. Это самая распространенная причина травм для американок. Из двух миллионов женщин, ежегодно получающих ранения, почти полумиллиону требуется медицинская помощь, а где-то 145 тысяч должны остаться в больнице на ночь. Таковы данные Центра по контролю заболеваемости. Сколько требуется стоматологического лечения – страшно даже представить. Агрессия партнеров – также одна из главных причин смерти беременных в США.
Обозреватель Николас Кристоф, один из немногих влиятельных людей, регулярно занимающихся этой проблемой, пишет: «По всему миру женщины в возрасте от 15 до 44 лет скорее погибнут или будут изувечены в результате мужского насилия, чем пострадают от рака, малярии, войн и автокатастроф, вместе взятых».
Трещина между мирами
Изнасилования и прочие акты агрессии, в том числе и убийства, а также угрозы насилием – вот каким образом некоторые мужчины пытаются контролировать некоторых женщин. Страх такого насилия ограничивает свободу большинства женщин; и это стало так привычно, что это мало кто замечает и мало кто борется с этим. Есть, конечно, и исключения. Однажды я услышала историю: студентов в колледже попросили изложить, что они делают, чтобы уберечься от изнасилования. Девушки начали описывать, как они делают все возможное, чтобы не утрачивать бдительности, ограничивают себя в посещении разных мест, принимают меры предосторожности и по сути думают об изнасилованиях постоянно. А парни лишь потрясенно слушали. На мгновение стала ясно видна разница между их мирами.
Впрочем, чаще всего мы об этом не говорим. По интернету некогда ходила картинка под названием «Десять советов, как избежать изнасилования». Молодые женщины видят такое тоннами, но в том списке был внезапный поворот. Советы были такие: «Носите с собой свисток. Если вы беспокоитесь, что можете „случайно“ напасть на кого-нибудь, отдайте этот свисток своему спутнику, чтобы тот мог позвать на помощь». Звучит смешно, но выявляет неприглядную истину: обычные, не сатирические рекомендации подразумевают, что вся ответственность за предотвращение насилия лежит на потенциальной жертве, тогда как само насилие рассматривается как нечто само собой разумеющееся. Совершенно напрасно колледжи тратят столько времени, объясняя женщинам, как избежать агрессоров. Нужно объяснять мужчинам, как не стать агрессорами.
Сегодня угрозы изнасилования регулярно звучат и онлайн. В конце 2011 года британская журналистка Лори Пенни писала так:
«Собственное мнение в интернете – словно короткая юбка. Если оно у тебя есть и ты его не скрываешь – ты якобы напрашиваешься на то, чтобы невнятная масса воинствующих диванных критиков, в основном мужчин, рассказала тебе, каким образом они хотят тебя отыметь, убить и помочиться на твой труп». На этой неделе, получив особенно мерзкий набор угроз, я решила опубликовать парочку в твиттере. Реакция ошеломила меня. Многие просто не могли поверить, что на меня вылилась такая волна ненависти, а еще больше пользовательниц начали делиться собственными историями агрессии, запугиваний и жестокого обращения.
Немало страдают от агрессии, угроз и притеснений женщины в игровой индустрии. Медиакритикесса и феминистка Анита Саркисян стала документировать подобные эпизоды и получила много поддержки, но кроме того, по словам журналистов, «вновь столкнулась с очень агрессивными личными нападками и попытками взломать ее аккаунты. Один мужчина из Онтарио даже сделал онлайн-видеоигру, где можно бить лицо Аниты на экране. Если бить долго, на изображении появлялись синяки и царапины». Разница между этими злобными геймерами и талибами, которые в октябре 2012 года попытались убить 14-летню Малалу Юсуфзай, выступавшую за право пакистанских женщин на образование, не так велика, как кажется. В обоих случаях речь идет о попытках наказать и заткнуть рот женщинам, заявившим о своем праве говорить, решать и участвовать. Добро пожаловать в Мужчинистан!
Партия защиты прав насильников
Система агрессии работает не только в плоскости общества, частной жизни или онлайн-общения. Она стала частью нашей политической и юридической системы. До тех пор, пока феминистки не начали бороться за наши права, эти институции не признавали большинства случаев домашнего насилия, сексуальных домогательств и преследований, изнасилования на свиданиях, изнасилования в браке. Да и теперь в подобных случаях внимание чаще бывает обращено к жертве, нежели к насильнику, словно только идеальных и безупречных женщин могут реально домогаться – и словно лишь они достойны доверия.
Как показала избирательная кампания 2012 года, этими же принципами руководствуются и наши политики. Помните, сколько гадостей, поддерживающих насилие, наговорили за те лето и осень мужчины-республиканцы? Взять хотя бы знаменитое высказывание Тодда Эйкина насчет того, что женщина может предотвратить наступление беременности в случае изнасилования. Этими словами он рассчитывал отказать женщинам в контроле над их же телами, запретив делать аборт после насилия. За ним последовал кандидат в сенат Ричард Мурдок, заявивший, что беременность после изнасилования – это «дар Божий», и еще какой-то политик-республиканец, высказавшийся в поддержку слов Эйкина.
По счастью, все республиканцы с подобными взглядами, баллотировавшиеся в 2012 году, в сенат не прошли. (А ведь комик Стивен Кольбер предупреждал, что женщины получили право голосовать еще в 1920 году.) Но дело не только в том, какую ерунду они говорят (и как теперь платят за это). Республиканская фракция в Конгрессе отказалась повторно ратифицировать закон о профилактике насилия против женщин, поскольку не согласилась, что этот акт подразумевает защиту для иммигрантов, трансгендерных женщин и коренных американок. (Кстати об эпидемиях. Каждая третья коренная американка подвергается насилию, при этом 88 % таких изнасилований в резервациях совершают мужчины другой расы, прекрасно знающие, что старейшины племени ничего им не сделают. Вот вам и «преступления на почве страсти». Никакой страсти – только расчет и оппортунизм.)
А теперь республиканцы хотят лишить женщин репродуктивных прав – запретив пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты. Собственно, в последние несколько десятилетий это уже успешно реализовано во многих штатах. Что такое репродуктивные права? Это, по сути, право женщин распоряжаться собственными телами. Я ведь уже говорила, что насилие против женщин – вопрос власти?
И хотя часто случаи насилия расследуют спустя рукава – нерасследованных дел об изнасилованиях в нашей стране около четырехсот тысяч, – если жертва забеременела, то ее насильник в тридцати одном штате получает родительские права. Ах да. Бывший кандидат в вице-президенты, а ныне конгрессмен Пол Райан собирается повторно подать на рассмотрение законопроект, дающий властям штатов право на запрет абортов, а возможно, даже позволяющий насильнику подать в суд на свою жертву, прервавшую беременность[2].
Будем объективны
Конечно, и женщины способны на всевозможные мерзкие поступки и порой совершают тяжкие преступления. Но если говорить о реальном насилии, в так называемой войне полов налицо явный перевес. В отличие от бывшего главы Международного валютного фонда (мужчины), нынешняя (женщина) не станет приставать к подчиненной в роскошном отеле; высокопоставленных женщин-офицеров в армии США, в отличие от их сослуживцев-мужчин, не обвиняли в сексуальных преступлениях; и молодые спортсменки вряд ли станут мочиться на юношей без сознания, а уж тем более насиловать их и хвалиться этим на Ютубе и в Твиттере – как сделали футболисты из Стьюбенвилля.
Индийские водительницы автобусов не собирались в банду, чтобы изнасиловать мужчину настолько жестоко, чтобы он скончался от полученных травм. Банды женщин-мародерок не терроризируют мужчин на площади Тахрир в Каире, и нет никакого «материнского» аналога 11 процентам изнасилований, которые совершают отцы или отчимы. Из числа узников американских тюрем 93,5 не являются женщинами. Возможно, многие сидят зазря, но некоторые – нет, ведь они совершили насилие, и пока не придумано лучшего способа бороться с ним. И с подобными людьми тоже.
Ни одна поп-звезда женского пола не убивала молодого мужчину выстрелом в рот у себя в гостях – как сделал Фил Спектор. (Теперь он находится среди тех самых 93,5 процентов – сидит за убийство Ланы Кларксон, возможно, отказавшей ему в близости). Ни одной женщине – звезде блокбастеров не было предъявлено обвинение в домашнем насилии, ведь Анджелина Джоли не делает того, чем занимались Мел Гибсон и Стив Маккуин; и ни одна знаменитая режиссёрка не догадалась накачать тринадцатилетку наркотиками, а потом склонять к сексу невзирая на сопротивление, как поступил Роман Полански.
Памяти Джиоти Сингх
Что не так с мужской частью человечества? Есть что-то неправильное в том, как люди воспринимают мужественность, что в ней хвалят и поощряют, и в том, как мальчики перенимают культуру насилия. В мире есть прекрасные во всех отношениях мужчины, и на нынешнем этапе драматического противостояния меня поддерживает в том числе мысль о том, что я встречала немало мужчин, понимающих, что это и их проблема тоже, поддерживающих нас и остающихся на нашей стороне в повседневной жизни, в интернете и в рядах демонстрантов от Нью-Дели до Сан-Франциско.
Все чаще мужчины становятся нашими добрыми союзниками – и они были всегда. Доброта, тепло, эмпатия не имеют пола. Хотя статистика домашнего насилия все еще пугающе высока, за последнюю сотню лет его стало гораздо меньше, и множество мужчин трудятся над тем, чтобы донести до общества новое представление о маскулинности и о силе.
Мужчины-геи переосмыслили традиционную маскулинность и в каком-то смысле пошатнули ее устои, делают это публично уже много лет и зачастую являются ценными соратниками женщин. Освобождение женщин нередко представляют как движение, стремящееся отобрать у мужчин все права и все привилегии, будто в какой-то унылой игре «кто кого», будто свободным и сильным может быть лишь какой-то один пол. Но мы или свободны вместе – или вместе рабы. Считать, что обязательно нужно победить, доминировать, наказать, захватить власть, – это ужасно и не имеет ничего общего со свободой. Отказаться от подобных неадекватных целей – вот акт освобождения.
Мне предстоит написать еще о многих вещах, но именно этот момент влияет на все остальное. Вездесущее насилие по-прежнему преследует, душит и иногда в прямом смысле обрывает жизни половины человечества. Только представьте себе, сколько времени и сил мы смогли бы посвятить другим, по-настоящему значимым делам, если бы не должны были бороться за выживание. Вот пример: одна из лучших знакомых мне журналисток боится добираться ночью до дома по своему району. Должна ли она перестать работать допоздна? Скольким женщинам уже пришлось отказаться от своей работы по схожим причинам, добровольно или принудительно? Сегодня становится ясно, что колоссальное количество агрессии в интернете отпугивает многих женщин и мешает им подавать голос.
Одно из самых удивительных новых политических движений в мире – это движение за права коренных канадцев, действующее в духе феминизма и экологической осознанности. Называется оно Idle No More – «Нет бездействию». 27 декабря, вскоре после того как движение обрело жизнь, одна женщина, коренная канадка, была похищена, изнасилована, избита и брошена умирать в городе Тандер-Бей в канадской провинции Онтарио. Сделали это мужчины, которые, по их собственным словам, действовали в отместку движению «Нет бездействию». Но жертва выжила – четыре часа она брела по морозу, чтобы рассказать о случившемся. Те, кто сделал это с ней и угрожал сделать снова, все еще на свободе.
По-видимому, изнасилование и убийство Джиоти Сингх, двадцатитрехлетней жительницы Дели, изучавшей физиотерапию, чтобы стать лучше и помочь другим, и нападение на ее спутника (он выжил) запустили ту самую реакцию, которая так была нужна нам уже сто лет, а может – тысячу, а может – и пять тысяч. Пусть этот случай послужит для женщин (и мужчин) по всему миру тем же, чем стало для афроамериканцев и зарождающегося движения за их права убийство расистами Эмметта Тилла в 1955 году.
Каждый год в Америке происходит больше 87 тысяч изнасилований – но каждое из них неизменно рассматривают как одиночный эпизод. Этих «точек на карте» так много, что они сливаются в кляксы, а затем и в целое пятно. Но никто не хочет окончательно соединить их – и сказать, что это за пятно. А в Индии смогли. В Индии заявили вслух, что речь идет о проблеме прав человека, что она касается всех, не является изолированной, и такого более нельзя допускать. Ситуация должна измениться. Вашими силами. Моими. Нашими.
2013
Глава 3
Столкновение миров в номере люкс
Кое-что об МВФ, мировом неравенстве и незнакомцах в транспорте
Как рассказать историю, которая давно уже не нова?
Ее звали Африка. Его – Франция. Он захватил ее, эксплуатировал, затыкал ей рот, и даже спустя десятилетия после того как это якобы закончилось – все еще пытался решать за нее, взять хоть название «Кот-д'Ивуар», или «Берег Слоновой Кости», ничего не говорящее о ней – лишь о том, что можно с нее получить.
Ее звали Азия. Его – Европа. Ее звали Молчание. Его – Власть. Ее звали Нищета. Его – Богатство. У неё не было ничего, у него – было всё. Даже она сама принадлежала ему: и он мог пользоваться ею без спроса и без каких-либо последствий. Этой истории много веков, и лишь в последние десятилетия что-то стало меняться. Последствия этих токсичных отношений сотрясают немало устоев – из тех, которые давно пора сотрясти.
Кому бы пришло в голову придумывать что-то столь очевидное, столь прямолинейное, как написано выше? Человек, облеченный колоссальной властью, глава Международного валютного фонда (МВФ) – всемирной организации, виновной в массовой нищете и экономическом неравенстве, – предположительно изнасиловал в номере люкс нью-йоркского отеля горничную, иммигрантку из Африки.
Вот вам и столкновение миров. Раньше ее свидетельство не значило бы ничего против его слова, и либо ей не удалось бы подать обвинения, либо полиция проигнорировала бы этот случай и в последний момент отправила бы Доминика Стросс-Кана самолетом в Париж. Однако она заявила об изнасиловании, и полиция выполнила свою работу. Сейчас Стросс-Кан находится под стражей, европейской экономике был нанесен сильный удар, французская политика претерпела коренные изменения, а французы переосмысливают своё прошлое.
О чем они думали, эти мужчины, решившие наделить его столь авторитетной должностью, несмотря на все истории о нем и свидетельства его порочности? О чем думал он сам, рассчитывая выйти сухим из воды? Казалось ли ему, что он во Франции, где, очевидно, ему это всегда удавалось? Только вот другая молодая женщина, которой он, по ее словам, домогался еще в 2002 году, тоже решилась подать обвинение. Ее родная мать, политик, в свое время отговорила ее от этого, а сама она беспокоилась о том, как это скажется на ее карьере журналистки (тогда как мать, похоже, больше волновала карьера насильника).
Как пишет Guardian, эти истории «придали больше веса жалобам Пирошки Надь – экономистки венгерского происхождения, во времена работы в МВФ постоянно подвергавшейся абьюзу со стороны его руководителя. По её собственным словам, её казалось, что нет другого выхода, кроме как переспать с ним во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2008 года. Стросс-Кан, по ее словам, постоянно названивал и писал ей под предлогом вопросов об экономике Ганы (сфера ее специализации), а потом переходил на флирт и предлагал ей встретиться».
Некоторые утверждают, что жертва Стросс-Кана из нью-йоркского отеля родом из Ганы, некоторые – что она мусульманка из недалекой Гвинеи. «Гана – пленница МВФ»: под таким заголовком в 2001 году вышел материал ВВС, обычно придерживающейся нейтральных формулировок. В отчете говорилось о том, каким образом политика МВФ лишила эту страну, основа экономики которой – выращивание риса, продовольственной безопасности: фонд открыл поставки дешевого риса из США. Это бросило большинство населения страны в глухую нищету. Теперь все подряд стало товаром, требующим оплаты, – от пользования туалетом до ведра воды. И многие не имели возможности платить. Если бы девушка бежала в Америку из-за последствий действий МВФ в Гане – это, пожалуй, было бы слишком символично. Что касается Гвинеи, этой стране удалось освободиться от диктата МВФ благодаря открытию крупных месторождений нефти, но экономическое неравенство и сильнейшая коррупция никуда не делись.
Кое-что о глобальном Севере
У биологов-дарвинистов когда-то была в ходу такая формулировка: «онтогенез повторяет филогенез». Это значит – развитие каждого эмбриона в отдельности воспроизводит ход эволюции всего соответствующего вида. Повторяет ли онтогенез этого эпизода насилия филогенез всего Международного валютного фонда? Вспомним, что эта организация была создана в конце Второй мировой войны в рамках печально известной Бреттон-Вудской конференции, навязавшей всему миру американские экономические концепции.
МВФ задумывался как кредитная организация, содействующая развитию разных стран, но к 1980-м годам у него появилась своя идеология – свободная торговля и свободное рыночное ценообразование. За счет своих ссуд фонд получил колоссальное влияние на экономику и политику почти всех стран Глобального Юга[3].
Но если в течение 90-х годов МВФ становился все более могущественным, в двадцать первом веке всесилие его начало сходить на нет благодаря успешному сопротивлению его экономической политике, а также из-за того, какому сокрушительному экономическому краху она способствовала.
Рассчитывали, что Стросс-Кан спасет от гибели организацию, которой в 2008 году пришлось распродать свой золотой фонд и переформулировать миссию.
Ее звали Африка. Его – МВФ. Он рассчитывал ограбить ее, оставить без здравоохранения, измучить голодом. Он тянул из нее ресурсы, чтобы обогащать своих друзей. Ее звали Глобальный Юг. Его – Вашингтонский консенсус. Но его звезда уже закатывалась, а ее время только наступало.
Именно из-за экономических условий, созданных МВФ, к 2001 году оказалась разрушенной экономика Аргентины, и именно протест против фонда (и другие неолиберальные инициативы) ознаменовали собой возрождение Латинской Америки в последнее десятилетие. Как бы мы ни относились к Уго Чавесу, субсидии из богатой нефтью Венесуэлы позволили Аргентине досрочно рассчитаться с МВФ и перейти к более разумной экономической политике.
МВФ вел себя как хищник. Он делал развивающиеся страны уязвимыми пере экономической агрессией богатого Севера и мощных международных корпораций. Это было подло. Да и сейчас не лучше. Но антикорпоративные выступления 1999 года в Сиэтле положили начало движению мирового масштаба, направленному против этой подлости. Протестные силы победили в Латинской Америке, изменив дискурс грядущих экономических дебатов и продемонстрировав новые перспективы для экономики.
На сегодня МВФ полностью деструктурирован, Всемирная торговая организация почти отошла от дел, соглашение НАФТА практически везде подвергли критике, зону свободной торговли стран Америки отменили (хотя двусторонние соглашения о свободной торговле остаются в силе), и этот ускоренный курс экономической политики многому научил почти весь мир.
Незнакомцы в транспорте
Вот как об этом писала New York Times: «Когда слухи о неприятностях господина Стросс-Кана достигли его родной Франции, раздались и другие голоса, в том числе и в прессе, рассказывающие анонимно или после долгого молчания о прежних эпизодах насилия над женщинами (от студенток до журналисток и подчиненных) и агрессивных сексуальных преследований с его стороны».
Иначе говоря, он погружал женщин в атмосферу дискомфорта или опасности, но этим бы дело и ограничилось, работай он, скажем, в небольшой конторе. Но человек, отчасти контролирующий судьбы мира, очевидно, намеренно тратил силы на то, чтобы плодить страх, нищету и несправедливость. И это говорит о том, как устроен наш мир, каковы реальные ценности стран и учреждений, мирившихся с таким поведением его и ему подобных.
В США в последнее время тоже не было недостатка в сексуальных скандалах, и они попахивают все тем же высокомерием: но там (насколько нам известно) речь по крайней мере идет о сексе по согласию. Главу же МВФ обвиняют в сексуальном посягательстве. Если такой термин вас смущает, выбросим слово «сексуальное» и сосредоточимся на «посягательстве», на насилии, на отказе в человеческом отношении и в главнейшем праве человека – на телесную неприкосновенность и самоопределение. Один из величайших лозунгов Французской революции – «права человека» (droits de l'homme), однако подразумеваются ли здесь и права женщины (droits de la femme) – вопрос.
США зачастую небезупречны, но я горжусь тем, что полиция поверила этой женщине и однажды она выступит в суде. Я рада, что моя страна не сочла, будто карьера могущественного мужчины или судьба международного учреждения важнее, чем эта женщина, ее права и ее благополучие. Именно это и есть демократия: голос есть у каждого, и никому не избежать наказания лишь благодаря богатству, власти, определенной расе или полу.
За два дня до того, как Стросс-Кан предположительно вышел из ванной отеля голым, в Нью-Йорке прошла масштабная демонстрация. «Пусть Уолл-Стрит заплатит» – таков был ее главный лозунг. Собралось двадцать тысяч человек – профсоюзные рабочие, радикалы, безработные и многие другие – чтобы заявить протест против экономического насилия, заставляющего многих терпеть нужду и лишения, и против неприличного богатства единиц. (Это была последняя крупная акция протеста в Нью-Йорке перед знаменитой «Захвати Уолл-Стрит», начавшейся 17 сентября 2011 года и оказавшейся, скажем прямо, куда более внушительной.)
Я там тоже была. На обратном пути в Бруклин какой-то мужчина возраста Стросс-Кана в толчее вагона метро облапал самую младшую из трех моих спутниц. Сначала она решила, что он просто случайно врезался в нее. Но тут она почувствовала, что ее трогают за ягодицы, и что-то сказала мне – как обычно говорят молодые женщины, осторожно, тихонько, как будто не уверены в реальности происходящего и не знают, так уж ли это важно. Наконец, уставившись на него, она велела перестать. Тут мне вспомнился момент, когда мне самой было семнадцать, я была на мели и жила в Париже. И вот какой-то старый хрыч схватил меня за задницу. Пожалуй, это был самый «американский» эпизод моей жизни во Франции, где мерзких лапальщиков тогда было предостаточно. Американский – потому, что в руках я несла три грейпфрута, драгоценный груз для тогдашней нищей меня. Эти самые грейпфруты я один за другим, словно бейсбольные мячи, запустила в этого мужика и с удовольствием любовалась тем, как он удирает в ночь.
Подобно множеству прочих эпизодов насилия против женщин, его действия должны были напомнить мне, что мир мне не принадлежит и что мои права – свобода, равенство и сестринство, если позволите, – не имеют никакого значения. Да только я обратила его в бегство фруктовым огнем. Доминика Стросс-Кана сняли с рейса, чтобы он ответил перед законом. И все же мою подругу лапали по дороге с демонстрации за справедливость. Увы, сделать еще предстоит очень много.
Бедняки голодают, богачи оправдываются
Почему сексуальный скандал в Манхэттене оказался столь громким? Думаю, потому, что предполагаемый агрессор и его жертва олицетворяют собой стороны конфликта мирового масштаба. Взять хотя бы отношение МВФ к бедным. Это отношение – часть серьезной классовой войны наших дней, в которой богатые и их представители в правительствах пытаются обогатиться дополнительно за счет всего остального человечества. Первыми заплатили за это бедные страны «третьего мира», а теперь платим и все мы, ведь политика богачей и страдания, к которой она приводит, вредит национальным профсоюзам, системе образования, экологии, программе социальной поддержки малоимущих, инвалидов и пожилых. Всё это делается за счет экономической политики правого толка и под знаменами приватизации, свободных рынков и снижения налогов.
Билл Клинтон (герой еще одного сексуального скандала) в рамках Всемирного дня продовольствия в октябре 2008 года – время кризиса мировой экономики – выступил в ООН со следующими словами:
«Нам нужно, чтобы Всемирный банк, МВФ, все крупные финансовые фонды и правительства всех стран признали, что за 30 лет мы облажались по полной программе, в том числе и я на посту президента. Мы ошибочно полагали, что продовольствие подобно любому другому товару в международной торговле, и теперь должны вернуться к более экологичному и ответственному ведению сельского хозяйства».
В прошлом году он высказался в том же духе еще более резко:
«С 1981 года США следовали определенной политике, и лишь в прошлом году мы начали ее переосмысливать. Суть ее в том, что мы, богатые страны, производящие много продовольствия, должны продавать ее странам бедным, освобождая их от нужды производить еду самостоятельно; таким образом они, хвала небесам, смогли бы двинуться вперед к промышленному прогрессу. Но из этого ничего не вышло. Может, некоторые фермеры в моем родном Арканзасе смогли бы извлечь из этого пользу, но ничего не вышло. Это была ошибка. И к этой ошибке был причастен я сам. Я не буду назначать виноватых. Это моих рук дело. Каждый день мне приходится иметь дело с последствиями того, что Гаити не может больше выращивать рис и кормить голодных, – и это моих рук дело».
Словам Клинтона вторил в 2008 году и бывший глава Федерального резерва Алан Гринспан, признавший, что условия его экономической политики были нерациональны. Эти условия, а также действия МВФ, Всемирного банка и приверженцев свободной торговли привели к бедности, страданиям, голоду и смертям.
Мы – большинство из нас – извлекли из этого урок, и мир значительно изменился с тех пор, когда противников свободной торговли клеймили «мракобесами, протекционистами, застрявшими в 60-х яппи» – недоброй памяти цитата из Томаса Фридмана.
После разрушительного землетрясения на Гаити в прошлом году случилось кое-что важное. МВФ под руководством Стросс-Кана планировал воспользоваться уязвимым положением страны, чтобы навязать ей новые ссуды на обычных условиях. Активисты немедленно среагировали на план, который гарантированно увеличил бы долг страны, и без того истерзанной якобы неолиберальной политикой, за которую запоздало извинялся Клинтон. МВФ смутился, отступил и согласился аннулировать существующий долг Гаити. Важная победа для просвещенного активизма.
Сила бесправных
Похоже, что гостиничная горничная способна положить конец карьере одного из самых могущественных мужчин мира, – или, если точнее, он сам губит себя, пренебрегая правами и личностью этой работницы. Примерно то же случилось и с Мег Уитмен, миллиардершей и бывшей владелицей еВау, которая в 2010 баллотировалась в губернаторы Калифорнии. Она решила разыгрывать консервативную карту, ополчившись на нелегальных иммигрантов, – пока не выяснилось, что у нее самой долго служила домработницей такая иммигрантка по имени Никки Диас.
Когда через девять лет держать на работе Диас стало невыгодно для имиджа, Уитмен грубо уволила ее, заявив, что понятия не имела, что та – нелегалка, и отказалась выплатить выходное пособие. Иначе говоря, Уитмен готова была потратить 178 миллионов долларов на свою избирательную кампанию, а подвели ее (в том числе) 6210 долларов невыплаченной зарплаты.
«Я чувствовала, что меня выкидывают, как мусор», – говорила Диас. И вот «мусор» заговорил, уволенную женщину поддержал Союз медицинских сестер Калифорнии, и в итоге штат не попал под власть миллиардерши, готовой и дальше терроризировать бедных и разорять средний класс.
Борьба нелегальной мигрантки-домработницы и приезжей-горничной за справедливость – часть великой, всемирной войны нашего времени. Если случай Никки Диас и споры вокруг ссуд МВФ в пользу Гаити что-то доказывают – это то, что результат неясен. Иногда мы можем выиграть одну битву, но глобальная война продолжается. Еще много чего предстоит узнать о том, что произошло в дорогом номере манхэттенского отеля, но наверняка мы уже знаем одно: идет самая настоящая открытая классовая война, а так называемый социалист принял неверную сторону.
Его имя было – Привилегии, а ее – Возможности. Его история стара как мир, ей же принадлежит новая идея, как изменить еще не дописанную историю обо всех нас, невероятно важную. Мы следим за ней – но мы же и будем творить ее в грядущие недели, месяцы, годы и десятилетия.
Заключение
Это эссе было написано как реакция на первые сообщения о произошедшем в номере Доминика Стросс-Кана в манхэттенском отеле. В итоге он хорошенько заплатил множеству сильных адвокатов и добился того, чтобы нью-йоркские прокуроры отказались от уголовного иска, а заодно использовал добытую адвокатами информацию для того, чтобы очернить жертву. Подобно многим очень бедным людям и выходцам из стран с нестабильной ситуацией, Нафиссату Диалло находилась в той позиции, из которой говорить правду власть имущим не всегда разумно и не всегда безопасно. Поэтому ее изображали лгуньей. В интервью Newsweek она рассказала, что сомневается, выдвигать ли обвинения в изнасиловании, так как опасалась последствий. Ведь ей пришлось бы выйти из тени и заговорить во весь голос.
Так происходит со многими женщинами и девушками, подвергшимися насилию, особенно если их истории угрожают сложившемуся порядку вещей. Таблоид New York Post, принадлежащий Руперту Мердоку, утверждал на первых полосах, что Диалло проститутка, хотя, казалось бы, зачем проститутке работать полный день горничной в отеле за 25 долларов в час? (Когда Диалло подала иск о клевете, изданию пришлось принести извинения.)
Некоторые журналисты сочиняли целые истории, чтобы выгородить насильника: в том числе Эдвард Джей Эпстейн в журнале New York Review of Books. А неясностей было предостаточно. Почему, вопрошали журналисты, женщина, которая, по словам свидетелей, была сильно подавлена, все же рассказала об изнасиловании? Почему предполагаемый нападавший в явной панике попытался покинуть страну? Почему его сперму обнаружили на ее одежде и в других местах, что подтверждало состоявшийся сексуальный контакт? При этом половой акт мог состояться по согласию или без него.
Самое простое и логичное объяснение дала сама Диалло. Стросс-Кан же, как пишет Кристофер Дикки в Daily Beast, «утверждал, что сексуальный контакт с этой совершенно не знакомой ему женщиной длился меньше семи минут и произошел по взаимному согласию. Будь это правдой, пришлось бы поверить, будто стоило Диалло кинуть один взгляд на голого пузатого мужчину за 60, только что из душа – и она тут же воспылала к нему страстью».
Позже о посягательствах со стороны Стросс-Кана начали рассказывать и другие женщины, в том числе молодая французская журналистка, которую, по ее словам, он попытался изнасиловать. Он был замешан в организации секс-вечеринок с участием проституток, что нарушало французские законы: в числе прочего ему предъявлено обвинение в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, хотя обвинения в изнасиловании со стороны секс-работницы были сняты.
В конечном итоге важно то, что нищая иммигрантка разрушила карьеру одного из самых могущественных мужчин мира. Вернее, заявила о его поведении, которое могло бы давным-давно привести к тому же самому. Итог – у французских женщин открылись глаза на мизогинность их общества. А Нафиссату Диалло выиграла суд против бывшего главы МВФ, хотя промолчи она – могла бы получить хорошие деньги. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.
2011
Глава 4
Похвала угрозе
Что это на самом деле такое – равные браки?
Долгое время поборники однополых браков говорили, что такие союзы ничем не опасны для общества, тогда как консерваторы возражали и видели в них угрозу традиционному браку. Быть может, консерваторы были правы – и нам следует не отрицать такую угрозу, а гордиться ею. Напрямую союз двух мужчин или двух женщин на чей-либо традиционный брак не влияет. Но метафизически – возможно, и да.
Чтобы понять, как именно он это делает, вспомним, что представляет собой традиционный брак. И обратим внимание на то, что в этом споре обе стороны несколько лукавят. Сторонники однополых браков отрицают любую угрозу или, скорее, не замечают ее, а консерваторы – недоговаривают насчет того, чему именно угрожают их противники.
В последнее время многие американцы отказались от неуклюжей формулировки «однополый брак» («same-sex marriage») в пользу термина «равные браки» («marriage equality»). Обычно термин означает, что однополые пары будут иметь те же права, что и «обычные». Но есть и другой оттенок смысла: что это брак между равными людьми. И в этом его отличие от традиционного брака. На протяжении многих лет в западной традиции считалось, что муж – хозяин, а жена – собственность. Или, скажем, муж – господин, а жена – служанка или рабыня.
В 1765 году британский судья Уильям Блэкстон писал в своем известном комментарии к англосаксонскому, а позднее и к американскому праву: «В браке муж и жена для закона становятся одним лицом, то есть само существование или юридический статус женщины на время брака аннулируются или во всяком случае объединяются со статусом мужа». По таким правилам жизнь женщины оказывалась зависимой от воли супруга, и пусть мужья бывали добрыми (а бывали и нет), права – это как-то надежнее, чем доброе расположение человека, имеющего над тобой абсолютную власть. Но до обретения прав было еще очень далеко.
Пока в Британии не приняли законы об имуществе замужних женщин – в 1870 и 1882 годах, – все считалось принадлежащим мужу. Жена сама по себе оставалась неимущей, независимо от ее наследства или заработков. Примерно в то же время и в Англии, и в США были приняты законы, запрещающие бить жен, однако вплоть до 70-х годов ХХ века их редко применяли. И тот факт, что сегодня домашнее насилие – иногда! – преследуется по закону, совершенно не отменяет того, что в любой стране оно носит характер эпидемии.
Романистка Эдна О'Брайен недавно выпустила мемуары, где описывает собственный опыт, казалось бы, предельно традиционного брака. Читаешь – и кровь леденеет в жилах. Ее первый муж завидовал ее литературному успеху и заставлял переоформлять все гонорары на его имя. Когда она отказалась поступить так с чеком на крупную сумму – за права на фильм, – он начал ее душить, однако полиция этим делом особо не заинтересовалась. Насилие приводит меня в ужас, но не менее ужасна убежденность в том, что абьюзер имеет право контролировать и наказывать свою жертву, применяя при этом силу.
В 2013 году в Кливленде вынесли обвинительный приговор Ариэлю Кастро, который похитил и целых десять лет пытал и насиловал трёх молодых женщин. Это крайний случай, но не настолько нереальный, каким его изображают. Отметим, что Кастро, как утверждают, открыто применял жестокое насилие и к своей ныне покойной гражданской жене. Вероятно, причиной его действий было стремление к абсолютной власти и абсолютному безвластию женщин. Порочная версия традиционного расклада.
Именно против подобных традиций протестовал и протестует феминизм – имея в виду не только из ряда вон выходящие случаи, но и повседневные ситуации. Феминистки XIX века подавали голос лишь время от времени; за 70-е и 80-е годы выступлений стало гораздо больше, и они пошли на пользу абсолютно каждой американке и англичанке. Именно феминизм сделал возможными однополые браки, ведь благодаря ему иерархические отношения смогли превратиться в отношения равных. Ведь брак между двумя людьми одного пола очевидно будет равным – возможно, кто-то из партнеров будет обладать большей властью в силу разных причин, но по сути это все равно взаимоотношения людей с одинаковым статусом, имеющих право самостоятельно определять свои роли.
Геи и лесбиянки уже подняли вопрос того, какие качества и какие роли характеризуются как мужские и женские: и гетеросексуальным людям стоит к этому прислушаться. Когда люди заключает «нетрадиционный» брак, суть его аналогичным образом переосмысливается. Их союз не основан на иерархии. И многие этому радуются. Один пресвитерианский пастор, который проводит немало таких брачных церемоний, сказал мне: «Я помню, как общался с однополыми парами накануне свадьбы (пока они были законны в Калифорнии [4]). И меня тогда осенило: отжившие патриархальные взгляды не имеют власти над этими людьми. Смотришь на них – и сердце радуется».
Американских консерваторов подобное равенство пугает, если не сказать – приводит в ужас. Оно не традиционно. Вот только консерваторы не желают обсуждать, откуда взялись традиции и почему они им привержены. Конечно, если понаблюдать, как решительно эти люди борются против репродуктивных прав, прав женщин, а также против обновления закона о насилии против женщин, их позиции становятся ясны. Вот их реальные интересы, которые они пытаются реализовать, воюя с однополыми браками.
Те из нас, кто следит за различными судебными процессами, в том числе и прениями в Калифорнии о равных браках, немало слышали о том, как важен брак для рождения и воспитания детей, и уж, разумеется, что для зачатия требуется слияние сперматозоида и яйцеклетки. Но эти двое в наши дни научились воссоединяться всевозможными способами, в том числе в пробирках и в телах суррогатных матерей. И ни для кого не секрет, что детей сегодня зачастую растят бабушки и дедушки, мачехи и отчимы, приемные родители и другие люди, которые не рожали их, но всей душой любят.
Многие гетеросексуальные пары бездетны; многие рожают детей и расстаются. Нет никаких гарантий того, что ребенок вырастет в семье с двумя разнополыми родителями. В судах аргументы против равенства в браке, связанные с рождением и воспитанием детей, нередко вызывают лишь смех. Но консерваторы никак не озвучат своего, по-видимому, главного аргумента: что они хотят сохранить традиционный брак, а главное – традиционные гендерные роли.
Я знакома с милейшими, чудесными гетеросексуальными парами, поженившимися еще в 40-е или 50-е, а может, позже. Их отношения проникнуты духом равенства, взаимности и щедрости. Но даже если в прошлом люди вели себя достаточно порядочно друг с другом, они были глубоко неравны в статусе. Я знаю вполне уважаемого человека, который недавно скончался в возрасте девяноста девяти лет. В юности он согласился на работу в другом конце страны, ничего не сказав жене о предстоящем переезде и вообще не поинтересовавшись ее мнением. Ее жизнь ей не принадлежала. Она принадлежала ему.
Пора захлопнуть дверь в ту эпоху. И открыть новую – дверь во времена равенства между гендерами, между партнерами в браке, между всеми и всегда. Да, равенство в браке угрожает. Угрожает неравенству. Это величайшее благо для всех, кто ценит равноправие и справедливость. То есть для всех нас.
2013
Глава 5
Бабушка Паучиха
I
Женщина развешивает белье. Происходит все сразу – и ничего. Она вся скрыта белой простынёй: видны лишь пальцы, крепкие смуглые икры и ступни. Ветер прибивает простыню к телу женщины, мы видим очертания её фигуры.
Самая обычная, повседневная сцена: женщина вешает одежду сушиться. При этом на ней черные туфли на высоких каблуках, как будто она одевалась совсем не для домашнего труда – или как будто домашний труд для нее своего рода танец. Она так расставила ноги, словно делает танцевальное па. На земле видна тень женщины и ещё одна тень – потемнее – от белой простыни. Похоже на длинноногую темную птицу – словно из ног женщины произрастает какое-то другое существо. Простыня развевается по ветру, полощется и ее тень, а окружающий пейзаж прост, гол и лишен масштабов; кажется, что горизонт искривлён не по-земному… Самая обычная – и при этом необычная сцена. Она развешивает белье – и рисует. Рисование доступно безъязыким, оно взывает ко всему, но не говорит ни слова, оно рождает множество смыслов, не выбирая ни одного конкретного, и ставит открытые вопросы вместо того, чтобы давать ответы. Женщина на этой картине Аны Тересы Фернандес одновременно существует и стирается из реальности.
II
Я много думаю об этом изгнании из действительности. Вернее, о том, что оно повторяется вновь и вновь. Семейное древо одной моей подруги охватывает добрую тысячу лет, но женщин на нем нет. Недавно она обнаружила, что на нем нет даже ее самой, хотя есть ее братья. Не было ее матери, не было матери ее отца. И отца ее матери. На семейном древе нет бабушек. У отцов есть сыновья, внуки – и так продолжается род, передается фамилия. В роду три ветви, и чем дальше мы углубляемся в историю, тем больше людей недостает: нет сестер, теток, матерей, бабушек, прабабушек. Стольких людей просто стерли – с бумаги и из истории.
Семья этой женщины родом из Индии, но подобная схема хорошо знакома и западным людям: библейские родословные точно так же тянутся от отцов к сыновьям, не более. В новозаветном Евангелии от Матфея огромная, о четырнадцати поколениях генеалогическая схема тянется от Авраама до Иосифа (упуская из виду, что предполагаемый отец Иисуса – не Иосиф, а сам Господь). Древо Иессеево – своего рода тотемный столб генеалогии Иисуса по мужской линии, согласно Матфею, – в средние века изображали, в числе прочего, в виде витражей. Именно это древо считают предтечей семейных родословных. Таким образом, связность и последовательность – патриархата, наследия, повествования – обеспечивают тем, что вымарывают оттуда живых людей.
III
Вычеркните свою мать, двух своих бабушек, четырех прабабушек. Еще несколько поколений – и вычеркнутыми окажутся сотни, а там и тысячи женщин. Исчезнут матери, а за ними отцы и матери этих матерей. Люди продолжат исчезать и исчезать, словно и не жили никогда, пока лес не превратится в одно-единственное дерево, сеть – в одну-единственную нить. Именно так создается линейная история крови, влияние, смысл. Я постоянно наблюдала подобное в истории искусства – когда нам говорили, что Пикассо «породил» Поллока, а Поллок – Уорхола, и так далее, как будто на художников влияют только другие художники. Несколько десятилетий назад произошел знаменитый случай: лос-анджелесский художник Роберт Ирвин высадил из машины на обочину шоссе одного искусствоведа после того, как тот отказался признать художника в молодом парне, который обновлял старые автомобили. Когда-то Ирвин занимался подобным сам, и эта культура во многом на него повлияла. Одна современная художница была более учтива, но не менее, чем Ирвин, расстроена, когда прочла заметку о себе в каталоге, где в снисходительном тоне рассказывалось, что она – прямая последовательница Курта Швиттерса и Джона Хартфилда. Она-то знала, что вдохновлялась физическим трудом, ткачеством и другими ремеслами, скупыми жестами, которыми обменивались каменщики, работавшие у нее в доме, когда она была маленькой. У каждого есть подобные источники вдохновения, появляющиеся еще до школ и училищ, возникающие будто из ниоткуда, просто из повседневной жизни.
Такие якобы вычеркнутые источники я называю «прабабками».
IV
Вычеркивали женщин из реальности и другими способами.
Возьмем сохранение и перемену имен. В некоторых культурах женщины оставляют свои фамилии, но чаще всего детям достается фамилия отца, а в англоязычных странах до совсем недавнего времени к замужним женщинам также обращались «миссис» плюс имя мужа. Вместо Шарлотты Бронте, например, получалась миссис Артур Николс. Такая система вычеркивала всю родословную женщины и даже сам факт ее существования. Все в соответствии с англосаксонским правом, описанным Блэкстоном в 1765 году:
«В браке муж и жена для закона становятся одним лицом, то есть само существование или юридический статус женщины на время брака аннулируются или во всяком случае объединяются со статусом мужа; под его защитой, покровительством и опекой она и живет дальше, именуясь юридическим языком femme-covert… либо под защитой и влиянием своего мужа, барона или лорда; статус ее в браке именуется coverture. По этой причине мужчина не может ничего подарить своей жене или заключить с нею сделку, ведь дар означает, что она существует сама по себе».
Он заслонял ее – словно простыня, плащ, решетка. Сама по себе она не существовала.
V
Сколько же их – видов небытия женщин! В начале войны в Афганистане в журнале New York Times Sunday появилась статья на эту тему с иллюстрацией на обложке. Предполагалось, что на иллюстрации будет семья – но я увидела только мужчину и детей. Только потом с изумлением я осознала, что приняла за занавеску или мебель полностью скрытую чадрой женщину. Она совершенно исчезла из виду. Что бы ни говорили о чадре и парандже, суть их одна: они делают людей буквально невидимыми.
История женских покрывал насчитывает много столетий. Подобные существовали в Ассирии более трех тысяч лет назад, когда женщины делились на две категории – респектабельные жены и вдовы, которым предписывалось носить чадру, и проститутки и рабыни, которым она запрещалась. Покрывало было своего рода инструментом защиты «частного» пространства, признак того, что женщина принадлежит лишь одному мужчине. Это было ходячее воплощение угнетённости. Менее «портативные» его варианты привязывали женщин к дому, домашнему хозяйству и воспитанию детей, исключая при этом из общественной жизни и лишая возможности свободно перемещаться. Очень часто мужчины привязывали женщин к дому, чтобы контролировать их эротические порывы. Таковые были абсолютно немыслимы в условиях патрилинейности (признания наследования только по мужской линии): отцы должны точно знать своих сыновей, чтобы строить исключительно мужскую родословную. В матрилинейных обществах необходимость подобного контроля гораздо меньше.
VI
В годы аргентинской хунты – с 1976 по 1983 год – «исчезновение» людей было обычным делом. Исчезали диссиденты, активисты, левые, евреи – как мужчины, так и женщины.
По возможности тех, кто подлежал «исчезновению», забирали тайно, чтобы даже близкие не знали, что с ними сталось. Так были уничтожены от пятнадцати до тридцати тысяч аргентинцев. Боясь, что кто-то или что-то выдаст их, люди переставали общаться с соседями, с друзьями. Пытаясь защититься от небытия, они сами делали свое бытие еще более призрачным. От глагола «исчезнуть» (по-испански desaparecer) образовалось существительное: теперь многие тысячи людей назывались los desaparecidos, «исчезнувшие»: только любящие их люди продолжали верить, что они живы. Первыми преодолели свой страх, стали высказываться против исчезновений, первыми вышли на свет – матери. Их назвали Las Madres de la Plaza de Mayo – «матери с площади Пласа-де-Майо». Матери исчезнувших людей стали собираться на площади Пласа-де-Майо в самом сердце страны, напротив президентского дворца в Буэнос-Айресе. Они пришли туда – и отказывались уходить. Им запретили сидеть – они стали ходить. Их хватали, арестовывали, допрашивали, выгоняли из этого самого общественного из всех общественных мест, – но они возвращались снова и снова, чтобы говорить о своем горе, своей ярости, чтобы вновь и вновь требовать возвращения своих детей и внуков. Они повязывали белые платки, на которых были вышиты имена пропавших и даты их исчезновения. Именно материнство стало той эмоциональной и биологической связующей силой, которую правившие страной военные так и не смогли объявить ни левацким, ни преступным замыслом. Так зарождалась политика нового вида, которой способствовала и американская группа «Женщины выступают за мир», созданная в разгар холодной войны в 1961 году, когда любое инакомыслие немедленно объявляли вредоносным, коммунистическим. Материнство и его респектабельность стали броней, костюмом, пользуясь которым эти женщины могли атаковать генералов, ядерную программу и даже саму войну. Роль, которую они играли, давала им ограниченную свободу в условиях системы, когда настоящей свободы не было ни у кого.
VII
Во времена моей молодости в кампусе одного крупного университета насиловали женщин, а руководство в ответ рекомендовало всем студенткам не выходить из дома после наступления темноты – или вовсе не выходить. Иди в дом! (Ограничения для женщин всегда подразумевают изоляцию.) Появился шуточный плакат, предлагающий другое решение – с наступлением темноты выгонять из кампуса всех мужчин. Этот вариант был по сути не менее логичным, но мужчины были возмущены – как это так, им предложили исчезнуть, лишиться свободы перемещения и действий, и все потому, что один мужчина оказался насильником. Несложно назвать преступлениями пропажу людей во времена диктатуры, но как мы назовем тысячи лет исчезновений женщин – из общественной жизни, из генеалогии, из юридического статуса, из числа имеющих право голоса, из жизни? По данным проекта Ferite a Morte («Смертельно раненные»), созданного итальянской актрисой Сереной Дандино и ее коллегами, каждый год во всем мире от рук мужчин погибают около 66 тысяч женщин. Обстоятельства их смерти они стали называть «фемицидом». Чаще всего их убивают любовники, мужья, бывшие партнеры, стремящиеся к крайней степени власти, к запредельной форме «стирания» из жизни. Порой таким смертям предшествуют годы и десятилетия замалчивания и стирания из жизни дома, в повседневной жизни: этих женщин женщин запугивают и насилуют. Некоторых стирают долго и понемногу, некоторых – сразу целиком. И некоторые возвращаются. Каждая женщина, сумевшая выбраться на свет, борется с силами, желающими ее исчезновения. С теми, кто хочет говорить вместо нее, вычеркнуть ее из истории, генеалогии, прав человека, законов. Способность рассказать свою собственную историю, словами или изображениями, – это уже победа. Уже революция.
VIII
Как много можно рассказать о женщине, вешающей белье. Развешивать одежду на веревку может быть удивительно приятно – эдакое прикосновение к свету. Немало историй можно придумать и о загадочном силуэте, угадывающемся под белой простыней на картине Аны Тересы Фернандес. Пожалуй, вешать белье на просушку – самое романтичное из домашних дел: оно пронизано воздухом и солнцем, ощущением воды, испаряющейся с чистой ткани. Привилегированный класс нечасто этим занимается, хотя невозможно понять, кто она такая, эта женщина на высоких каблуках: домохозяйка, домработница, а может, богиня на другом краю света. Не менее загадочен и вопрос о том, почему же она вешает эту простыню. Мне она навеяла ассоциации, связанные с вычеркиванием, вытиранием – как происходит при стирке. Именно так сушили вещи до изобретения сушильной машины. Лично я делаю так до сих пор. Так же поступают иммигрантки из Латинской Америки и Азии в Сан-Франциско. Сушащееся белье под окнами Чайнатауна и Мишн-Дистрикта напоминает полощущиеся по ветру молитвенные флажки. Какие истории рассказывают эти потрепанные джинсы, детские вещички, нижнее белье именно такого размера, полосатые наволочки?..
IX
Святой Франциск на картине картине Франсиско де Сурбарана одет в белые одежды, закрывающие его почти целиком. Мы видим лишь крепкие руки и одну ступню, и еще лицо в густой тени от капюшона. Свет падает слева, тяжелые складки одежды – должно быть, шерстяной – отбрасывают глубокие тени, руки, в которых он держит череп, образуют кольцо, складки ткани свисают вперед. Его тезка Франсиско де Сурбаран, испанский художник XVII века, всегда изображал святых в белых одеждах: свободно спадающее одеяние святого Иеронима, играющие светом и тенью одежды святого Серапиона, воздевшего руки словно бы в жесте измученной капитуляции, и лишь цепи на запястьях удерживают его от падения. Ткань жестикулирует, впитывает, демонстрирует чувства. Она говорит так же, как и закутанные в нее фигуры. Чувственность плоти она заменяет чем-то более невинным, но ничуть не менее выразительным. Подобно простыне на картине Фернандес, она одновременно скрывает тело и определяет его границы в пространстве. Это чистое удовольствие рисования, игры света и теней, это источник сияния на темном фоне картины. Сурбаран – мастер из прошлого. В его времена женщины все так же пряли и ткали – но не рисовали. Выставку работ Сурбарана я увидела в старинном итальянском городке, где был также дивный театр – его расписные стены и потолки напомнили мне о художнице-муралистке Моне Карон из Сан-Франциско. Хотя гирлянды и ленты напомнили мне ее работы, в те времена возможность рисовать имели совсем немногие женщины, в том числе делать это публично, определять, как мы смотрим на мир, зарабатывать этим на жизнь, создавать нечто, на что будут смотреть пятьсот лет спустя. На картине Фернандес белая ткань с выразительными складками и тенями – это простыня. Она напоминает о доме, о кровати, о том, что происходит в постели и затем отстирывается, об уборке, о женском труде. В этом ее смысл – но не сама она. Женщина на картине скрыта – но не скрыта та, что написала картину.
X
Краску нескольких цветов выдавили из тюбиков, перемешали и нанесли на ткань, растянутую в деревянной раме, – и сделали это столь искусно, что мы видим не холст и масло, а женщину, вешающую простыню. Картина Аны Тересы Фернандес на этом холсте высотой в метр восемьдесят сантиметров, шириной в полтора метра – фигура почти в натуральную величину. Сама картина не имеет названия, но серия, в которую она входит, называется Telaraña – паутина. Паутина гендера и истории, в которую попала изображенная женщина; паутина ее собственной силы, которую она ткет на этом полотне, побеждена тканой же простыней. Сегодня ткацкую работу выполняют машины, но до промышленной революции пряли и ткали женщины, становясь похожими на паучих; так же и в старых сказках обычно фигурируют не пауки, а паучихи. Там, где я живу, в историях о мироздании индейцев хопи, пуэбло, навахо, чокто, чероки – мир сотворен Бабушкой Паучихой. В греческих мифах есть история о злосчастной пряхе, превращенной в паука, а есть о богинях судьбы, которые прядут, ткут и разрезают ткань жизни каждого человека. Именно благодаря им жизнь – это нить, которая однажды будет перерезана. Паутина – это воплощение нелинейности, разнонаправленности возможных путей, многочисленности источников, а еще – наших бабушек и наших родословных нитей. На одной немецкой картине XIX века женщины обрабатывают лен, из которого сделают ткань. На них деревянные башмаки, темные платья, скромные белые чепцы; они стоят на том или ином расстоянии от стены, где в линию расставлены мотки сырья. От каждой из женщин через комнату тянется нить, словно они тоже паучихи, словно они сами создают эти нити. Или словно они привязаны к стене этими тонкими нитями, невидимыми в другом свете. Они сучат нитки. Они пойманы в паутину.
Прясть свою нить и не попасться в ее сети; создавать мир, создавать собственную жизнь, управлять своей судьбой, называть имена не только отцов, но и бабушек, плести сети и двигаться не только по прямой, не только прибирать, но и создавать, иметь возможность петь без помех, сбросить покрывало и предстать такой, какая есть: вот что начертано на белье, которое я вывешиваю на просушку.
2014
Глава 6
Тьма Вирджинии Вулф
Объять необъяснимое
«Будущее лежит во мраке – и это, думаю, лучшее, что может быть с будущим», – так 18 января писала в дневнике почти 33-летняя Вирджиния Вулф. Это были дни, когда Первая мировая война только начинала превращаться в катастрофическую, беспрецедентную бойню длиной в несколько лет. Бельгию оккупировали, весь континент был охвачен войной, многие европейские страны вели захватническую политику в далеких уголках мира, только что открылся Панамский канал, американская экономика была в чудовищном состоянии, итальянское землетрясение только что убило 29 человек, немецкие цеппелины готовились сбросить бомбы на Грейт-Ярмут, впервые в истории атакуя мирное население с воздуха, и всего через несколько недель немцы впервые применили ядовитые газы на Западном фронте. Но Вулф, должно быть, писала не о будущем мира, а о своем собственном.
Менее полугода назад она пережила эпизод безумия и депрессии, увенчавшегося попыткой самоубийства, и за ней все еще приглядывала медсестра. До тех пор ее безумие развивалось практически параллельно войне, но Вулф смогла излечиться, а война только начинала свою кровавую историю длиной почти в четыре года. Будущее лежит во мраке – и это, думаю, лучшее, что может быть с будущим. Невероятное заявление, подразумевающее, что неизвестную потребность не обязательно превращать в известную путем слепого тыканья или проекций мрачных политических или идеологических дискурсов. Это триумф тьмы самой по себе, которая стремится – так я толкую ее «думаю» – не быть уверенной даже в своем собственном утверждении. Большинство людей боится темноты. Многие дети – в буквальном смысле, а взрослые чаще всего страшатся тьмы неизвестного, невидимого, неощутимого. И все же та ночь, в которой невозможно точно определить и различить вещи, – это та же самая тьма, где предаются любви, где сливаются, меняются, зачаровываются, возбуждаются, засеваются, обладаются, высвобождаются и обновляются сущности.
Начиная писать эту статью, я отрыла книгу Лоренса Гонсалеса о выживании в дикой природе и обнаружила там вот какую фразу: «План – воспоминание о будущем – примеряет на себя реальность, проверяя, сойдется ли». Иначе говоря, когда что-то кажется нам несовместимым, мы часто продолжаем держаться за план, игнорируя предупреждения реальности, и нередко попадаем в беду. Боясь темноты неизведанного, боясь возможности видеть лишь смутные очертания, мы часто предпочитаем темноту закрытых глаз, темноту забвения. «Ученые обнаружили, – продолжает Гонсалес, – что любую информацию человек воспринимает как доказательство своих убеждений. По природе своей мы оптимисты, если понимать оптимизм как убежденность в том, что каким мы видим мир – такой он и есть. А если у нас есть план, то проще простого видеть только то, что мы хотим видеть». Видеть больше – работа писателей и исследователей. Их дело – путешествовать налегке, без груза предрассудков, входить во тьму с широко раскрытыми глазами.
Далеко не все они готовы так поступать, и далеко не всем это удается. Научная литература наших дней все больше напоминает художественную – и это не льстит художественной, в том числе потому, что слишком много авторов не могут примириться с тем фактом, что прошлое, как и будущее, объято тьмой.
Мы не знаем очень многого, а чтобы правдоподобно писать о любой жизни – своей, жизни своей матери или какой-то знаменитости, – о событии, о кризисе, о другой культуре, нужно раз за разом сталкиваться со сгустками тьмы, плутать в ночи истории, там, где никто ничего не знает. Нам говорят, что познанию есть предел, что существуют изначальные тайны – взять хотя бы тот факт, что наши знания – это лишь мнение или ощущения других людей, не располагавших точной информацией.
Весьма часто мы не знаем чего-то даже о самих себе, не говоря уже о людях, умерших в такие времена, которые и близко не похожи на наши. Заполнение пустот заменяет не до конца открытую истину ложным ощущением, что мы знакомы с ней. Мы знаем меньше, когда ошибочно думаем, что знаем, чем когда признаем, что это не так. Порой мне кажется, что причина таких претензий на авторитетное знание коренится в несовершенстве языка: язык смелых предположений проще и менее обременителен, нежели язык нюансов, двусмысленностей. В этом втором языке Вирджинии Вулф не было равных.
Чем ценна тьма, путешествие незнающих в непознанное? Вирджиния Вулф упоминается в пяти моих книгах, написанных в новом столетии: «Не сидится на месте» (Wanderlust) – историях о моих пеших прогулках; «Как сбиться с пути: практическое руководство» (A Field Guide to Getting Lost) – о блужданиях и неизведанном; «Наружу» (Inside Out) – о доме и мечтах о нем; «Далёкое близкое» (The Faraway Nearby) – о сторителлинге, эмпатии, болезни и неожиданных взаимосвязях вещей; и, наконец, в маленькой книжке «Луч надежды во тьме» (Hope in the Dark), посвященной власти народа и тому, как происходят изменения.
Вулф для меня была краеугольным камнем, одной из богинь моего пантеона – вместе с Хорхе Луисом Борхесом, Исак Динесен, Джорджем Оруэллом, Генри Дэвидом Торо и кое-кем еще. Даже в ее имени есть что-то дикое. Французы называют час перед рассветом «entre le chien et le loup» – «меж собакой и волком». Нельзя не согласиться, что, вступая в брак с евреем в Англии того времени, Вирджиния Стивен выбирала не самую проторенную дорогу: в стороне от привычных маршрутов своего класса и времени. Волков – wolves или woolfs – много; моя же стала своего рода Вергилием, сопровождающим меня на пути блужданий и заблуждений, безликости, погружения, неуверенности и неизвестности. Ее фразу о темноте я поставила эпиграфом к книге 2004 года Hope in the Dark, где речь идет о политике и о возможностях. Она была написана, чтобы что-то противопоставить отчаянию: Буш только что санкционировал введение войск в Ирак.
Посмотри – отвернись – посмотри вновь
Я начала свою книгу с той самой фразы о тьме. Критикесса и эссеистка Сьюзан Зонтаг, чья Вулф несколько отличается от моей, начала свою книгу 2003 года об эмпатии и фотографии – «О боли других» (Regarding the Pain of Others) – цитатой из более поздней Вулф. Вот так: «В июне 1938 года Вирджиния Вулф опубликовала работу под названием „Три гинеи“ – смелые, „неудобные“ размышления об истоках войны». Дальше Зонтаг рассказывает, что Вулф в вопросе, с которого начинается книга, отказывается от слова «мы»: «Как, по-вашему, мы должны предотвратить войну?» – на который она отвечает фразой: «Как женщина, я не имею страны».
Зонтаг полемизирует с Вулф об этом «мы», о фотографии, о возможности предотвратить войну. Делает она это с уважением, с пониманием того, что исторические обстоятельства с тех по радикально изменились (в том числе женщины перестали быть аутсайдерами в жизни), с осознанием утопичности идей времен Вулф о том, что с войнами якобы можно покончить раз и навсегда. Она спорит не только с Вулф. Спорит она и с самой собой, опровергая свои прежние аргументы из знаменитой книги «О фотографии» – о том, что изображения жестокости отупляют нас: теперь Зонтаг пишет, что нам нужно смотреть и смотреть. Ведь жестокостям нет конца, и как-то нужно иметь с ними дело.
В завершение своей книги Зонтаг делится мыслями о людях, воюющих на войне, подобной иракской и афганской. Вот как она пишет о людях на войне: «„Мы“ – под „нами“ я понимаю всех, кто никогда не переживал того, что пережили они, – этого не понимаем. Нам этого не дано. Нам ни за что не представить, каково это было. Мы не можем уразуметь, насколько чудовищна и ужасна война и какой привычной она может стать. Не можем понять. Не можем представить». Зонтаг тоже призывает нас осмыслить тьму, неизведанное, невозможность познания, чтобы поток материала, обрушивающийся на нас, не смог убедить нас, будто мы что-то понимаем, и лишить чувствительности к страданию. Знание, утверждает она, может как ослабить, так и пробудить чувства. Но она не считает, что противоречия можно изгладить; она разрешает нам продолжать смотреть на фотографии; она дает изображенным на них людям право на признание непознаваемости их опыта. И еще она признает, что даже если мы не в состоянии доподлинно познать – мы всё равно можем быть неравнодушны.
Зонтаг не касается нашей неспособности реагировать на совершенно неразличимое страдание, ведь даже в наши времена, когда каждый день мы читаем о потерях и страданиях, как любительские, так и профессиональные материалы о войнах и кризисах, – все равно многое остается «за кадром». Правящие режимы готовы пойти на многое, чтобы скрыть от нас убитых и живых, преступления и коррупцию. И все-таки даже в этих условиях кто-то остаётся неравнодушным.
Та Зонтаг, которая начала свою карьеру общественной деятельницы с эссе под названием «Против интерпретации», сама являла собой образец неопределенности. В начале этой своей работы она пишет: «Начальный опыт искусства был, вероятно, колдовским, магическим…». Далее по тексту добавляет: «Ныне как раз такое время, когда интерпретация – занятие по большей части реакционное и удушающее. Это месть интеллекта миру. Истолковывать – значит обеднять». И, разумеется, вся ее дальнейшая жизнь – акт интерпретации, который в самые выдающиеся моменты вместе с Вулф сопротивляется наклеиванию ярлыков, чрезмерному упрощению и слишком легким выводам.
Я возражала Зонтаг, как она сама возражает Вулф. Вообще при нашей первой встрече я спорила с ней о тьме – и, к моему изумлению, не проиграла. Если открыть последний, посмертный сборник ее эссе – «А в это время: эссе и выступления», – в нем можно найти небольшой абзац с моими идеями и примерами в контексте ее эссе, словно камешек в ботинке. Зонтаг писала свою программную речь для получения премии Оскара Ромеро весной 2003 года, как раз в начале войны в Ираке. (Премия досталась Ишаю Менухину, председателю израильской комиссии по делам выборочного отказа от военной службы.)
Когда не стало Вулф, Зонтаг было лет девять. На момент нашей встречи ей было семьдесят. Я посетила Зонтаг в ее квартире на верхнем этаже дома в нью-йоркском районе Челси, с видом на спину горгульи за окном и с кипой распечаток речи на столе. Я ознакомилась с ними, прихлебывая странного вкуса чай из корней одуванчика – подозреваю, она хранила его в буфете несколько десятилетий, и это была единственная альтернатива эспрессо у нее на кухне. Мы должны протестовать из принципа, настаивала она, даже если это не принесет плодов. Я пыталась сказать, что писательство хранит в себе надежду, и возражала – ведь мы не знаем, принесет ли плоды то, что мы делаем, и мы не обладаем памятью о будущем, а будущее лежит-таки во мраке, и это лучшее, что может быть с будущим; и еще – что в конце концов мы всегда орудуем в темноте.
Последствия наших действий могут оказаться таковы, что это невозможно предвидеть и даже представить себе. Они могут отзываться эхом долгое время после смерти. Именно после смерти слова многих писателей находят реальный отклик.
Взять хоть нас – мы перечитываем слова женщины, умершей три четверти века назад, и слова эти в определенном смысле продолжают жить в умах многих, становятся частью беседы, влияют на реальные действующие силы. В протестной речи Зонтаг, опубликованной на TomDispatch той же весной 2003 года, и в эссе «А в это время…», вышедшем несколькими годами позже, есть абзац, где она ссылается на посмертное влияние Торо и говорит о Невадском испытательном полигоне (где было взорвано более тысячи ядерных бомб; несколько лет, начиная с 1988 года, я участвовала в масштабных акциях гражданского неповиновения, направленных против ядерной гонки вооружений). Тот же пример попал и в книгу («Луч надежды в темноте»): я упоминаю там, что не мы, антиядерные активисты, добились закрытия Невадского полигона (что было нашей самой очевидной целью), но мы вдохновили жителей Казахстана требовать закрытия Семипалатинского полигона в 1990 году. Непредвиденно, непредсказуемо.
Меня многому научила история с полигоном и другими местами, о которых я пишу в книге «Дикие мечты. Борьба за пейзаж на Американском Западе» (Savage Dreams: The Landscape Wars of the American West) – о длиннейшей исторической цепи, о непредвиденных последствиях, об отложенном воздействии. Полигон как арена для столкновений и взаимодействий – а также пример таких писательниц, как Зонтаг и Вулф, – научил меня писать. А потом, многие годы спустя, Зонтаг подкрепила свой аргумент о необходимости протестовать из принципа моими примерами из того самого разговора на кухне и кое-какими записанными мной наблюдениями. Совсем небольшое влияние получилось: и я не могла предугадать его заранее. И это случилось как раз в тот год, когда обе мы вспоминали Вирджинию Вулф. Принципы, которые мы обе отразили в книгах, ссылающихся на нее, можно назвать «вулфианскими».
Две зимние прогулки
На мой взгляд, надеяться можно уже потому, что мы не знаем, что случится дальше, а между тем невероятное и невообразимое происходит вполне регулярно. И еще потому, что, как показывает «неофициальная» история мира, увлеченные личности и народные движения могут строить историю – и строили ее прежде. Хотя когда и как именно мы победим, сколько это займет времени – предсказать невозможно. Отчаяние – одна из форм уверенности. Уверенности в том, что будущее в целом будет таким же, как и настоящее, или отклонится от него. Отчаяние – это уверенная память о будущем, по меткому выражению Гонсалеса. Оптимизм примерно так же уверен в том, что произойдет. И то и другое – по сути поводы ничего не делать. Надежда может означать знание о том, что у нас нет этой памяти, а реальность не обязательно соответствует нашим планам. Надежда, как и творческие способности, могут корениться в том, что поэт-романтик Джон Китс назвал «отрицательной способностью».
Зимним вечером 1817 года (Вирджиния Вулф сделает запись о тьме в своем дневнике через век с небольшим) поэт Джон Китс возвращался домой, беседуя с друзьями. Как он впоследствии писал об этой прогулке в своем знаменитом письме, «кое-что у меня в голове прояснилось – и вдруг меня осенило, какая черта прежде всего отличает подлинного мастера, особенно в области литературы… Я имею в виду Негативную Способность – а именно то состояние, когда человек предается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гоняясь нудно за фактами и не придерживаясь трезвой рассудительности».
Этот случай, когда у Китса что-то прояснилось в уме, пока он гулял и беседовал, указывает на то, как пешие прогулки освежают воображение и понимание самой природы творчества, деятельности, сообщающей рефлексии направленность вовне. В своих воспоминаниях «Зарисовка прошлого» Вулф пишет: «Однажды, когда я гуляла по Тависток-сквер, мне пришла в голову идея написать „На маяк“. Это произошло так же, как и с другими книгами: в огромной, по-видимому неосознанной, спешке. Одно событие перешло в другое. Подобно мыльным пузырям, вылетающим из трубочки, сонм идей и сцен выпорхнул из моего сознания, и губы словно шептали сами по себе, пока я шла по улице. Откуда возникали эти пузыри? Почему? Не имею понятия.»
По-моему, отчасти гений Вулф в том и состоит, чтобы не иметь понятия. Та самая отрицательная способность. Как-то я услышала об одном ботанике с Гавайев, который, чтобы найти новые виды растений, уходил в джунгли, выходя за пределы всего, что и как он знал ранее, полагаясь не на знания, но на новый опыт, отвергая планы и позволяя реальности вести себя. Вулф не только использовала этот метод непредсказуемости, но и воспевала его – на словах и на деле. Ее прекрасное эссе 1930 года «Долгая прогулка: лондонское приключение» пронизано легким ветерком многих ее ранних работ – и при этом направлено глубоко во тьму.
Приукрашенная или вымышленная прогулка за карандашом в зимние лондонские сумерки стала поводом заглянуть во тьму, бродить, выдумывать, стереть свою личность – огромное приключение, зреющее в душе, пока тело следует привычным бытовым маршрутом. «Вечерний час оделяет нас той же безответственностью, что тьма и свет фонарей, – пишет она. – Мы словно немного перестаем быть собой. Выходя из дома чудесным вечером, между четырьмя и шестью часами, мы сбрасываем ту самость, которая знакома нашим друзьям, и вливаемся в ряды огромной республиканской армии безымянных бродяг, общество которых так приятно после одиночества в комнате».
Здесь она описывает общество, которое не возводит идентичность в ранг закона, а напротив, высвобождает ее. Общество незнакомцев, республику улиц, опыт анонимности и свободы, подаренный нам большими городами.
Интроспекцию часто изображают как нечто происходящее за закрытыми дверями, требующее одиночества: монах в келье, писатель за столом. Вулф возражает этому, говоря о доме так: «Там нас окружают предметы, навевающие воспоминания о нашем собственном опыте». Описав эти предметы, она добавляет: «Но стоит за нами закрыться двери, как все это исчезает. Разбивается скорлупа, которую создали наши души: для защиты и чтобы отличаться от других. Прочь морщины и потертости – остается лишь жемчужина восприятия, словно гигантский глаз. Как прекрасна зимняя улица!» Это эссе попало и в мою антологию историй о пеших прогулках – «Не сидится на месте», она же и история размышлений, разума в движении. Раковина дома – в своем роде тюрьма, но одновременно и защита, оболочка, состоящая из знакомого и постоянного, того, что при выходе наружу может исчезнуть. Прогулки по улицам могут быть формой социального взаимодействия, даже политической акцией – если мы идем вместе, как делаем во время демонстраций, выступлений и революций. Также они могут будить фантазии, субъектность, воображение – своего рода дуэт между вторжениями извне и потоком изображений, желаний – и страхов – внутри. Иногда думать лучше на воздухе, как и заниматься спортом.
В этих обстоятельствах воображение зачастую подгоняют случайные и мимолётные вещи: оно работает ненарочно. Мысли прогуливаются окольными путями и достигают тех мест, которые недоступны непосредственному пониманию. У Вулф в «Долгой прогулке» воображение путешествует исключительно для удовольствия: но именно такое бродяжничество подарило ей задумку романа «На маяк» и вообще поддержало ее в творческом труде так, как не смогло бы сидение за столом. Как именно мы будем справляться с творческим трудом – это всегда непредсказуемо, требует пространства, не укладывается в графики и системы. Эти пути невозможно уложить в воспроизводимые схемы. Общественные, городские пространства, которые в иных случаях служат для того, чтобы член общества устанавливал контакты с другими себе подобными, становятся местом, где можно удалиться от связей и привязанностей, характерных для индивидуальности. Вулф рассказывает о том, как хорошо порой потеряться – не в буквальном смысле, когда не знаешь, как вернуться домой, – нет, метафорически затеряться и открыться непознанному. Она напоминает, что физическое пространство дает свободу пространству души. Она пишет о фантазиях или, пожалуй, даже мечтах – когда человек воображает себя в другом месте или другим человеком.
В «Долгой прогулке» она задается вопросом идентичности самой по себе: «Или, быть может, подлинная самость не в этом и не в том, не здесь и не там? Может быть, это что-то столь разнообразное и непостоянное, что стать самими собой мы можем лишь тогда, когда дадим свободу желаниям и позволим самости беспрепятственно воплощаться? Обстоятельства призывают нас к единству. Удобства ради человек должен быть целым. Добропорядочный гражданин, выходящий из дома вечером, – это должен быть банкир, игрок в гольф, муж и отец, но не бродяга, пересекающий пустыню, не мистик, глядящий в небеса, не гуляка в сан-францисских трущобах, не солдат, возглавляющий революцию, не отщепенец, исторгающий вопль безверия и одиночества». Но, продолжает она, он становится ими всеми, а присущие ему ограничения не имеют отношения к ней самой.
Принципы неопределенности
Вулф призывает к более интроспективной версии стихотворения Уолта Уитмена «Я вмещаю множества», более прозрачному варианту «Я – это другой» Артюра Рембо. Она воспевает обстоятельства, не требующие насильственного, репрессивного объединения идентичностей. Часто подмечают, что так же Вулф поступает применительно к персонажам своих романов. Реже – что в своих эссе она говорит о подобном подходе тоном исследователя, критика, настаивающего на разнообразии, предельности, а быть может – и на тайне, если тайной можно считать способность чего-либо вечно стремиться к беспредельности, вмещать в себя больше и больше.
Эссе Вулф – это зачастую манифесты и одновременно примеры и исследования такого ничем не ограниченного сознания, этого принципа неопределенности. Кроме того, это образцы противодействия критике. Ведь мы часто думаем, будто цель критики – обеспечить единственно правильный ответ. Будучи критиком, я часто шутила о том, что в музеях любят художников, как таксидермисты любят оленей. Что-то из этого желания обеспечить надежность, стабильность, придать крепкую основу и определенность работе художников, суть которой – открытость, затуманенность, смелость, – часто встречается у людей из пределов, иногда именуемых миром искусства.
Похожая агрессия против неустойчивости своей работы и неоднозначности намерений и смыслов художника часто встречается у литературных критиков и в академической среде. Неопределенное они стремятся сделать определенным, непознанное – познать, полет по небу превратить в стейк на тарелке, классифицировать и ограничить. Что не удается категоризировать – то, вероятно, не удастся и вообще заметить.
Существует некоторого рода контркритика, стремящаяся дополнительно расширить мир искусства, раскрыть его смыслы, привнести новые возможности. Качественная критика способна даровать произведению свободу, показать его со всех сторон, сохранить живым, принять участие в беседе, которая никогда не закончится, а будет лишь снова и снова подпитывать наше воображение.
Это не против интерпретаций – лишь против рамок, против убийства духа. Такая критика – сама по себе настоящее искусство. Она не выставляет критика противником создателя текста, не добивается фальшивого авторитета. Вместо этого она стремится проникнуться духом и идеями произведения, расцветить их новыми красками, вовлечь читателей в разговор, который до того мог казаться недоступным, выявить ранее невидимые взаимоотношения, открыть запертые двери. Такая критика уважает изначальную тайну произведения искусства, в которой отчасти и состоят его красота и радость – понятия предельные и субъективные. Дурная критика словно пытается оставить за собой последнее слово и заставить всех других замолчать. Лучшая же критика открывает новые взаимодействия, которым не будет конца.
Освобождение
Вулф приносит освобождение тексту, воображению, вымышленным персонажам, а затем требует той же свободы и для нас, в особенности для женщин. В этом ключевая особенность той Вулф, с которой я прежде всего стремлюсь брать пример: она всегда воспевает освобождение не официальное, не казенное, не рациональное, но освобождение как отказ от привычного, безопасного и известного и выход в широкий мир. Ее призывы к освобождению женщин направлены не только на то, чтобы мы имели возможность заниматься формальными вещами, которые раньше были доступны лишь мужчинам (а теперь и женщинам), но и на то, чтобы у женщин была свобода бродить – физически и в своем воображении.
Она признает, что для этого свобода и сила требуются в разных практических формах. Говорится об этом в «Своей комнате», на которую часто ссылаются, когда речь идет о комнатах и доходах, хотя там говорится и об университетах, и о всем мире в целом – через великолепную и горестную историю Джудит Шекспир, злосчастной сестры великого драматурга. «Она не смогла обучаться ремеслу. Удалось бы ей заказать обед в таверне или бродить по ночным улицам?» Обед в таверне, ночные улицы, широкий и открытый город – все это важнейшие элементы свободы, не определяющие идентичность, но позволяющие отринуть ее. Возможно, главная героиня романа «Орландо», живущая века напролет, меняющая гендер, воплощает ее идеал абсолютной свободы перемещения – в сознании, идентичности, любви, месте. Вопрос освобождения несколько иным образом оказывается поднят в беседе Вулф «Профессии для женщин», с потрясающей яростью описывающей убийство «ангела дома» – идеальной женщины, удовлетворяющей лишь чужие потребности и ожидания, но не свои собственные.
«Я очень старалась ее убить. Если бы меня за это судили, я бы клялась, что это была самозащита… Уничтожение „ангела дома“ – это часть обязанностей женщины-писательницы. Ангела нет – что же остается? Вы можете сказать – остаётся нечто простое и обыденное: молодая женщина в спальне с чернильницей. Иначе говоря, избавившись от фальши, молодая женщина остается просто самой собой. Но что это такое – „самой собой“? То есть – что такое „женщина“? Я, уверяю вас, не знаю. Скорее всего, вы тоже».
Думаю, вы заметили, что Вулф довольно часто говорит «я не знаю». «С убийством „ангела дома“, – говорит она дальше, – я, полагаю, справилась. Она мертва. Но со второй задачей – рассказать правду о моем человеческом опыте, – похоже, еще нет. И сомневаюсь, чтобы это до сих пор удалось кому-то из женщин. Препятствия, стоящие перед нами на этом пути, все еще огромны и непреодолимы, и к тому же их очень сложно определить». Вот он, этот великолепный стиль изящного несогласия, присущий Вулф. При этом мысль о том, что ее правда должна воплощаться в реальности, сама по себе радикальна настолько, что до Вулф никому такое и в голову не могло прийти. Телесное воплощение в ее книгах проявляется гораздо благочиннее, чем, скажем, у Джойса, но все же телесность есть. И хотя цель ее – найти и обрести силу, в эссе «О болезни» Вулф отмечает, что даже беспомощность больного может быть освобождающей, поскольку он замечает то, что недоступно здоровым, читает всё свежим взглядом и в чем-то преображается. Это так по-вулфовски. Все труды Вулф, какими я знаю их, – своего рода воплощение овидиевых метаморфоз, где желанная свобода – это свобода продолжать меняться, исследовать, бродить, выходить за рамки.
Она воспевает побег.
Призывая к определенным социальным переменам, сама Вулф становится революционеркой. (Разумеется, ей не чужды изъяны и «слепые пятна» эпохи и страны, которые она иногда преодолевала, а иногда нет. Такие слепые пятна есть и у нас, и будущие поколения, возможно, упрекнут нас в них. Или нет.) Ее идеал – освобождение, в том числе и внутреннее, эмоциональное, интеллектуальное.
В течение тех двадцати лет, что я занимаюсь писательством, моя задача всегда состояла в том, чтобы попытаться найти или составить язык, позволяющий описать тонкости, неуловимые нюансы, радости и смыслы – не поддающиеся классификации – в самом сердце вещей. Мой друг Чип Уорд говорит о «тирании конкретики» – о том, что поддающееся измерению почти всегда преобладает над неисчислимым: частная прибыль – над общественным благом; скорость и эффективность – над удовольствием и качеством; утилитарность – над тайнами и смыслами. А ведь последние гораздо важнее и для нашего выживания, и даже большего – для жизней, наделенных смыслом и целью за пределами нашего бытия, жизней, наделяющих смыслом саму цивилизацию.
Тирания конкретики – отчасти следствие неспособности языка и речи описать сложные, тонкие, текучие явления, а также неспособности людей, наделенных влиянием, понять и ощутить важность этих эфемерных материй. Это трудно, порой даже невозможно – ценить то, что нельзя назвать или описать. Поэтому задача назвать и описать их – важнейшая часть моего бунта против существующего положения дел, капитализма и консьюмеризма. В конце концов, даже разрушение планеты Земля отчасти – а может, и в значительной мере – происходит из-за отказа или упадка воображения под действием систем учета, неспособных охватить действительно важное. Бунт против такого упадка – это бунт воображения, в пользу тонкостей, радостей, которых не купить за деньги и не подчинить корпорациям, это желание не потреблять, а создавать смыслы, это стремление к медленному, к блужданию, к отходу в сторону, к исследованию, к мистике, к неопределенности.
В заключение позволю себе привести еще один отрывок из Вулф, который мне прислала моя подруга художница Мэй Стивенс, начертавшая те же слова на одной из своих картин. Я же включила их в свою книгу «Как сбиться с пути». На картинах Мэй длинные предложения Вулф текут подобно воде – природной силе, которая сметает нас на своем пути и одновременно поддерживает нас на плаву. В книге «На маяк» Вулф пишет:
«Ни о ком можно не думать. Быть с собой; быть собой. Теперь у нее часто эта потребность – думать; нет, даже не то, что думать. Молчать; быть одной. Всегдашнее – хлопотливое, широкое, звонкое – улетучивается; и с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя – клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо – так она себя ощущала; и это „я“, отряхнувши все связи, освобождалось для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей… А под этим – тьма; расползающаяся; бездонная: лишь время от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят. Собственный кругозор казался ей сейчас безграничным».
Вулф даровала нам неохватную беспредельность, неодолимо манящую к себе, текучую словно вода, бесконечную словно желание, – компас, помогающий нам затеряться.
2009
Глава 7
Синдром Кассандры
История Кассандры – девушки, которая говорила правду, но ей не верили, – в нашей культуре известна далеко не так хорошо, как история о мальчике, кричавшем «волки!». То есть о мальчике, которому поверили первые несколько раз, когда он говорил одну и ту же неправду. А зря. Проклятие Кассандры, прекрасной сестры Елены Троянской, состояло в том, что никто не прислушивался к ее точнейшим пророчествам. Семья считала ее безумицей и лгуньей, а по некоторым версиям – запирала в доме, пока та не стала наложницей Агамемнона и не была случайно убита вместе с ним.
Бороздя просторы гендерных войн, я то и дело думаю о Кассандре. Ведь доверие – важнейший аргумент в этих войнах, а женщинам чаще всего категорически отказывают в том, что они его заслуживают. Совсем не редка ситуация, когда женщина говорит нечто против позиции мужчины, особенно облеченного властью или популярностью (но не черного – разве что президент-республиканец только что выдвинул его кандидатом в члены Верховного суда), или учреждения, особенно если речь идет о сексе. Реакция на ее слова, скорее всего, поставит под вопрос не только саму суть утверждения, но и просто ее способность говорить и право на это. Многим поколениям женщин твердили, что они склонны к иллюзиям и заблуждениям, манипулятивны, злонамеренны, лелеют тайные умыслы, бесчестны по природе своей… В общем, это «синдром Кассандры» в чистом виде.
Любопытно, как страстно отвергают доводы женщин и как часто их оппоненты скатываются в ту самую нелогичность и истеричность, в которых женщин вечно обвиняют. Было бы совсем недурно, если бы кто-то обозвал истериком, скажем, Раша Лимбо, который обзывал шлюхой и проституткой Сандру Флюк, заявлявшую о необходимости государственного финансирования контроля рождаемости (при этом он явно не понимал, как вообще устроен контроль рождаемости); Лимбо, короля бессвязных выкриков, незнакомого с матчастью, вечно чем-то недовольного. Но увы: истеричность почти всегда ассоциируют с одним-единственным гендером.
Рэйчел Карсон получила этот ярлык за свой фундаментальный труд – книгу «Безмолвная весна» (Silent Spring) об опасности пестицидов. Ее труд основан на обширнейших, подробнейших исследованиях, и сейчас он пользуется неоспоримым авторитетом, а аргументы авторки называют пророческими. Но производители химикатов были против, а, так сказать, ахиллесовой пятой авторки стал ее женский пол. Можно сказать, это была Кассандра от экологии. 14 октября 1962 года в газете Tucson Arizona Star вышла рецензия с заголовком: «„Безмолвная весна“ делает протест слишком истеричным». В том же месяце в журнале Time была опубликована статья, уверявшая, что пестициды совершенно безвредны для людей, а книга Карсон якобы «несправедлива, однобока, истерична и чрезмерно эмпатична». «Многие ученые сочувствуют тому, как трепетно мисс Карсон относится к балансу в природе, – говорилось в статье. – Но они опасаются, что ее эмоциональные и фактологически неточные излияния могут в конечном итоге навредить». Карсон, вообще-то, сама была ученой.
Сломанные чайники, сломанная речь
Слово «истерика» происходит от греческого слова, обозначающего матку, и когда-то считали, что это явление возникает из-за «блуждания» или «бешенства» матки. Мужчины, разумеется, при этом в принципе исключались из поля зрения. Сегодня под истеричностью понимают просто нелогичность, взвинченность и, вероятно, путаность. В конце XIX века диагноз «истерия» женщинам ставили направо и налево. На самом деле такие пациентки, мучения которых описал учитель Зигмунда Фрейда Жан-Мартен Шарко, порой, видимо, страдали от жестокого отношения и вызванных им травм, а зачастую попросту не могли поведать об истинных причинах происходящего.
Сам Фрейд в начале карьеры столкнулся с чередой пациенток, проблемы которых, как казалось, проистекали из опыта сексуальных злоупотреблений в детстве. То, что они пытались сказать, было в буквальном смысле не выразить словами: даже сегодня самые тяжкие травмы как на войне, так и в повседневной жизни связаны с нарушением социальных норм. Жертвам мучительно тяжело о них рассказывать или даже просто нащупывать их в темных уголках памяти, где такие вещи зачастую хранятся. Сексуальное насилие, как и пытки, – это по сути покушение на право жертвы на телесную неприкосновенность, самоопределение и самовыражение. Это уничтожающая, лишающая голоса практика. Но в какой-то момент жертве приходится заговорить – по требованию закона или в рамках разговорной психотерапии.
Возможность рассказать свою историю и право на признание и уважение – и сегодня один из самых действенных способов справиться с травмой, которыми мы располагаем. Поразительным образом пациенткам Фрейда удавалось рассказывать о пережитом, и сначала он слышал их. В 1896 году он писал: «Итак, я позволю себе заявить, что любой случай истерии является последствием одного или нескольких случаев сексуального насилия в детстве…» В другом месте Фрейд пишет коллеге, что, поверь он своим пациенткам, «во всех этих случаях пришлось бы обвинить в извращенности отца, в том числе и моего собственного». И тогда он отказался от своих слов. Как пишет в своей книге «Травма и исцеление» (Trauma and Recovery) психиатресса-феминистка Джудит Херман, «из его переписки явственно следует, что все больше и больше его тревожили радикальные социальные отзвуки его гипотезы. Перед лицом этой дилеммы Фрейд перестал прислушиваться к своим пациенткам». Если они говорили правду, ему пришлось бы пойти против всей патриархальной системы, чтобы их поддержать. Затем, продолжает она, «с упорством, которое еще сильнее запутало его теорию, он настаивал, что женщины все выдумывают и сами стремятся к насильственным сексуальным отношениям, на которые жалуются». Словно бы для всей преступной власти, для всех мужчин-агрессоров появилось удобное оправдание. Она сама хотела. Она все выдумала. Она не понимает, что говорит. Все эти шаблоны никуда не делись и сегодня. «Да она не в себе,» – вот что говорят мужчины про женщину, которая хочет сказать: «Мне плохо».
Молчание, подобно Дантову аду, состоит из нескольких кругов. Сначала – внутренние запреты, сомнения, подавление чувств, смущение, стыд: из-за них женщине сложно или даже невозможно заговорить вслух. Сюда же и страх наказания или изгнания за то, что заговорила. Сюзан Брайсон, сегодня главу философского отделения в Дартмутском колледже, в 1990 году изнасиловал незнакомец. Он обзывал ее шлюхой, требовал заткнуться, несколько раз душил, ударил по голове камнем и бросил умирать. Она выжила, но рассказывать об этом случае ей оказалось трудно. «Решиться писать и говорить об этом насилии – это было еще полдела. Сложнее оказалось подобрать голос. Даже после того как зажила сломанная трахея, мне часто было тяжело говорить. Полностью дар речи я не утрачивала, но часто переживала приступы того, что моя подруга называла „сломанная речь“: я заикалась, запиналась, не могла выстроить простое предложение, не рассыпав все слова, словно бусины из порвавшихся бус».
Следующий круг – это силы, стремящиеся заставить замолчать говорящую, унижая ее, травя или устраивая реальное насилие вплоть до убийства. И наконец самый большой круг – когда история уже рассказана: пусть женщину не заставили замолчать напрямую, правдивость ее слов подвергают сомнению. Те недолгие времена, когда Фрейд был готов непредвзято выслушивать своих пациенток, можно назвать периодом ложной надежды. Ведь именно когда женщины говорят о сексуальной агрессии, их право говорить и дееспособность подвергают сомнению. Такая реакция кажется почти рефлекторной и реализуется по одной и той же отчетливой и совсем не новой схеме.
Впервые попытки сопротивляться ей комплексным образом были предприняты в 1980-х. О 60-х годах мы сейчас знаем, пожалуй, даже слишком много, тогда как революционные перемены 80-х – будь то свержение мировых диктатур, перемены в сексуальной жизни, в аудиториях, на работе, на улицах и даже в политической организации (благодаря тому, что феминистки стали продвигать в массы культуру согласия и другие антииерархические и антиавторитарные идеи), – все это по большей части забыто. Это были времена-бомба. Феминизм тех времен часто отвергают, считая сурово антисексуальным, поскольку именно тогда заявили о том, что сфера секса тоже регулируется вопросами власти – а властью злоупотребляют, – и описали характер некоторых таких злоупотреблений.
Феминистки не только боролись за внедрение законодательства в этой сфере, но и, начиная с середины 70-х, определили и вслух назвали целые категории насилия, которые раньше оставались без внимания. Тем самым они дали понять, насколько серьезна проблема злоупотребления властью, а также что власть мужчин, боссов, мужей, отцов (и вообще взрослых) будет поставлена под вопрос. Эти женщины создали контекст, в котором могли зазвучать истории об инцесте и насилии над детьми, об изнасилованиях и домашнем насилии. Они окружили поддержкой тех, кто решится рассказать об этом. Рассказы этих женщин стали частью нарратива наших времен – когда столь многие раньше молчавшие начинают говорить о своем опыте.
В чем-то эти времена были беспорядочны – в том числе потому, что никто особо не понимал, как нужно слушать детей, как задавать им вопросы, как при необходимости помогать им разобраться в собственных воспоминаниях; то же самое относилось и ко взрослым пациентам психотерапевтов. Печально известное дело о насилии над воспитанниками детского сада Мак-Мартинов, одно из самых долгих и дорогостоящих за всю историю страны, началось в 1983 году, когда одна женщина из Лос-Анджелеса заявила, что в отношении ее ребенка совершается нечто неправомерное. Власти не только активно включились в эту ситуацию, но и призвали родителей задавать своим детям наводящие вопросы, а также поручили психотерапевту побеседовать с сотнями детей. Специалист должен был подробнее расспросить их, поощрять, использовать ролевые диалоги с помощью игрушек и прочими способами помочь им рассказать об ужасных вещах, которые с ними творили.
Результаты беспорядочных опросов по делу Мак-Мартинов порой упоминают как пример того, что детям нельзя доверять, что они врут и фантазируют; однако в любом случае важно помнить, что корень проблемы был во взрослых. Профессор права Даг Линдер пишет, что прокурор в своем интервью «признает, что дети начали „приукрашивать“ истории о совершенном над ними сексуальном насилии, так что нам, как прокурорам, нечего было делать в суде», и что потенциально оправдывающие доказательства были скрыты от правосудия. Несмотря на это, обвиняемые по этому долгому процессу и еще по одному следом за ним были в итоге сочтены невиновными, хотя об этом редко вспоминают.
11 октября 1991 года одного профессора права пригласили дать показания в Юридическом комитете Сената по случаю конфирмационных слушаний Кларенса Томаса, кандидата в члены Верховного суда, выдвинутого Бушем-старшим. Выступала Анита Хилл. В частном интервью, а впоследствии, когда это интервью просочилось в прессу, и в ходе слушаний в Сенате, она перечислила несколько случаев, когда Томас (тогдашний ее босс) заставлял ее слушать его рассказы о просмотренном порно и делился с ней сексуальными фантазиями. Кроме того, он принуждал ее встречаться с ним. По ее словам, она отказалась, а он «не принимал моих объяснений», как будто бы простого «нет» было недостаточно. Хотя ее и критиковали за то, что она ничего не сделала сразу после этих эпизодов, не помешает вспомнить, что совсем незадолго до этого феминистки впервые ввели понятие сексуальных домогательств и окончательно сформулировали этот термин, а также что лишь в 1986 году, уже после описываемых Анитой Хилл событий, Верховный суд признал подобное поведение на работе реальным актом дискриминации. Рассказав обо всем этом в 1991 году, Хилл подверглась нападкам – нелепым и злобным. Нападали на нее исключительно мужчины; особенно изощрялись в шуточках, недоверии и ерничании мужчины-республиканцы.
Одного из свидетелей, который на основании кратких встреч с Хилл сделал вывод, будто она предавалась сексуальным фантазиям о нем, сенатор Арлен Спектер спросил: «Допускаете ли вы возможность того, что профессор Хилл выдумала, нафантазировала себе, как судья Томас говорит все эти слова, в которых она его обвиняет?» Как видим, налицо все тот же фрейдовский контекст. Говоря об отвратительном происшествии, женщина на самом деле выдавала желаемое за действительное и не смогла отличить одно от другого. Этот случай вызвал оживленнейшие споры и даже что-то вроде гражданской войны: многие женщины прекрасно знали, что такое повседневные домогательства и сколь многочисленными неприятными последствиями грозит их огласка, тогда как мужчины не понимали, о чем речь. Хилл вскоре подвергли унизительному допросу, ну а Томас в конечном итоге получил место в Верховном суде. Самые громкие обвинительные речи раздавались из уст журналиста-консерватора Дэвида Брока, который поносил Хилл сначала в статье, а потом и в целой книге. Спустя десять лет он отказался от всех своих нападок на нее, а заодно и от симпатий к правым, написав: «Я поступил опрометчиво, намеренно подрывая авторитет Хилл. Я готов был использовать практически все негативные – и часто противоречивые – предположения, которые собрал о Хилл в связи с делом Томаса… Как я тогда говорил, она была слабовата умом и на передок».
В итоге фраза «Я верю тебе, Анита» стала феминистским слоганом, а о Хилл часто говорят, что именно с нее началась революция повышения кредита доверия к женщинам, страдающим от домогательств на рабочем месте. Через месяц после тех самых слушаний был принят общенациональный закон о сексуальных домогательствах, и жалобы на подобные случаи стали появляться как грибы после дождя: людям дали возможность о них рассказывать. Парламентские выборы 1992 года прозвали «Годом женщин»: именно в этот раз места в Сенате и Конгрессе получили Кэрол Мосли-Брон, до сих пор единственная избранная в Сенат афроамериканка, и многие другие женщины.
Но даже и сегодня, стоит женщине сказать что-то малоприятное о поведении мужчины, как ее тут же выставляют неадекватной, безумной, злонамеренной, патологической лгуньей, не понимающей шуток занудой – или всем перечисленным сразу. Чрезмерность таких реакций напоминает рассказанную Фрейдом историю о сломанном чайнике. Один человек обвиняет соседа в том, что тот одолжил у него чайник и вернул его сломанным, а сосед отвечает, что вовсе он его не ломал, чайник уже был сломан, когда он взял его, и вообще никакой чайник он не брал.
Когда женщина в чем-то обвиняет мужчину, он сам или его защитники реагируют так остро, будто сама женщина становится «сломанным чайником», а мужчина – тем, кто брал его у соседа. По словам философа Славоя Жижека, «у Фрейда перечисление стольких несостоятельных аргументов в точности доказывает то, что говорящий пытается опровергнуть, – что он вернул-таки чайник сломанным».
Сколько же их, этих «сломанных чайников»! Через двадцать лет после случая с Анитой Хилл, когда гостиничная горничная Нафиссату Диалло обвинила в сексуальных домогательствах главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, в газете New York Post ее обозвали проституткой, New York Review of Books опубликовала материал, намекающий на существование международного сговора, а команда высокооплачиваемых адвокатов Стросс-Кана заострила внимание популярных СМИ на том, что Диалло якобы искажала факты, получая статус беженки из Гвинеи (по ее собственным словам, она запросила этот статус, чтобы избавить свою дочь от процедуры женского обрезания, которой когда-то подверглась сама). Кроме того, репортеры начали выискивать несовпадения и нестыковки и в ее рассказе об инциденте со Стросс-Каном, хотя их наличие совершенно нормально для тех, кто пережил травму: им сложно восстановить связную историю на основе обрывков тяжелых воспоминаний. Уголовное дело прекратили, но Диалло выиграла гражданский процесс против Стросс-Кана и New York Post, поставив крест на карьере одного из самых могущественных мужчин мира. Вернее, это сделали она и еще несколько женщин, решившихся также предъявить ему обвинения в сексуальных преступлениях.
Даже в 2014 году, когда Дилан Фэрроу повторила обвинения в адрес своего приемного отца Вуди Аллена, она превратилась в очередной «сломанный чайник». Раздались гневные, осуждающие голоса; вспомнили дело по детскому саду Мак-Мартинов; Аллен разразился драматичной тирадой о том, что никак не мог приставать к девочке в той комнате на чердаке, о которой она говорила, потому что никогда эту комнату не любил, и добавил, что она, «несомненно», взяла идею с чердаком из какой-то песни, и предположил, что ее «подучила» мать, которая, вероятно, и вовсе сама написала текст обвинения, представленного Дилан Фэрроу. Возникло еще одно разделение по гендерному признаку: многие женщины верили девушке, потому что не раз сами слышали подобное, тогда как мужчины, казалось, ужасно испугались ложных обвинений и преувеличили их частоту.
Джудит Херман, чья книга «Травма и исцеление» посвящена жертвам изнасилований, детского абьюза и военных травм, пишет: «Молчание и ореол тайны – главная защита агрессора. Если произошедшее не удалось сохранить в тайне, насильник начинает сеять сомнения, можно ли доверять его жертве. Если не удалось заставить ее замолчать – он старается сделать так, чтобы ее никто не слушал… После любого эпизода жестокости, скорее всего, прозвучат одни и те же предсказуемые фразы: „ничего не было“, „она врет“, „она преувеличивает“, „она сама нарвалась“, и уж в любом случае „дело прошлое, надо жить дальше“. Чем влиятельнее агрессор, тем в большей мере он способен „формировать“ реальность, тем сильнее в итоге окажутся его аргументы».
В наше время они не всегда оказываются сильнее. Мы все еще живем в эпоху споров за право говорить и пользоваться доверием, и давление исходит с обеих сторон. Движение за права мужчин и множество популярных, но недостоверных источников информации говорят нам, что мир якобы переживает эпидемию ложных обвинений в изнасилованиях. Мысль о том, что женщинам в целом нельзя доверять, а ложные обвинения в изнасилованиях – реальная проблема, помогает затыкать рот конкретным женщинам, уходить от обсуждений сексуального насилия и выставлять главными жертвами самих мужчин. Эта риторика чем-то напоминает мне разговоры о фальсификациях на выборах – в США это явление столь редко, что уже очень давно не оказывает на результаты ни малейшего влияния. Тем не менее, консерваторы утверждают, что в последние годы масштабы фальсификаций достигли масштабов эпидемии, и на этом основании пытаются лишить избирательных прав малоимущих, цветных, студентов – словом, тех, кто обычно голосует против них.
Кассандры наших дней
Я совсем не хочу сказать, будто женщины и дети не лгут никогда. Врут все – мужчины, женщины, дети; но последние две категории вовсе не имеют к этому особой склонности, а первой – к которой относятся продавцы подержанных машин, барон Мюнхгаузен и Ричард Никсон – совсем не обязательно положено особое доверие. Я лишь призываю четко понимать: устаревшая идея о нечестности и двуличности женщин никуда не делась – она то и дело всплывает. Наша задача – научиться осознавать, что дело именно в ней. Пожалуй, стоит также признать обычным делом чрезмерно эмоциональную реакцию на то, когда женщина осмеливается заговорить.
Моя подруга, изучающая в одном из известных университетов тему сексуального харассмента, рассказывает, что однажды она проводила презентацию в бизнес-школе своего вуза, и один из пожилых профессоров-мужчин спросил: «А почему нужно начинать расследование, основываясь на словах одной-единственной женщины?» И у нее десятки подобных историй о женщинах – студентках, сотрудницах компаний, профессорках, исследовательницах, – которые борются за то, чтобы им верили, особенно если их оппоненты-агрессоры имеют высокий статус в обществе.
В 2014 году допотопных лет журналист Джордж Уилл сказал, что речь идет всего лишь о «предполагаемой эпидемии насилия в университетах», и добавил, что когда университеты, или феминистки, или либералы «превращают статус жертвы в нечто желанное, дающее привилегии, жертв сразу становится больше». В качестве примера он привел самое сомнительное, какое смог найти, дело об изнасиловании женщины знакомым мужчиной, и подверстал подходящую статистику. В ответ молодые женщины создали в Твиттере хэштег #survivorprivileges («#привилегиивыживших») и стали писать такие, например, посты: «Я и не знала, что жить с ПТСР, сильной тревожностью и депрессией – это #survivorprivilege». Или: «#ShouldIBeQuiet [#можетмнепромолчать?], потому что когда я говорю, все обвинили меня во лжи? #survivorprivilege». Колонка Уилла в почти неизмененном виде повторяет старую мысль о том, что женщины по природе своей порочны, ненадежны, склонны к заблуждениям и злонамеренны, а также что все эти обвинения в изнасилованиях яйца выеденного не стоят, поэтому давайте, мол, жить дальше.
Не далее чем в 2014 году у меня был собственный, уменьшенный во много раз опыт такой ситуации. Я запостила в соцсетях фрагмент ранее опубликованного своего эссе о 70-х годах прошлого века в Калифорнии. Тут же мне предъявил претензии незнакомец, прочитавший два абзаца о том, что происходило тогда в моей жизни (ко мне, едва подростку, пристали два взрослых дядьки-хиппи). Меня поразила как его ярость, так и безосновательная уверенность в своем праве судить меня. В том числе он сказал: «Вы невозможно преувеличиваете, а единственное ваше „доказательство“ – это репортер FOX. Вам „кажется“, что это правда, вот вы и говорите, что это „правда“. А я скажу – „херня“». То есть я должна была представить доказательства, будто это было возможно. Я подобна нечистым на руку людям, искажающим факты. Я субъективна, но полагаю себя объективной; я умею только чувствовать, но мне кажется, будто я думаю или знаю. Мне прекрасно знакома и его злоба, и весь этот перечень аргументов. Если бы мы умели распознать эту схему недоверия или даже дать ей имя, то каждой женщине, решившейся заговорить, не пришлось бы всякий раз заново пробиваться сквозь стену недоверия. Кое-что еще о Кассандре: ее пророчествам перестали верить из-за проклятия, которое наложил на нее бог Аполлон после того, как она отказалась от близости с ним. Во все века утрата доверия была неразрывно связана с заявлением прав на собственное тело. Однако сегодня, когда среди нас так много современных Кассандр, мы могли бы снять проклятие, самостоятельно выбрав, кому верить и почему.
2014
Глава 8
#YesAllWomen[5]
Феминистки пишут историю заново
Это был матч века, финал Всемирного идеологического кубка. Команды яростно боролись за мяч. Звездная феминистская команда раз за разом пыталась провести его через штанги ворот, имя которым «распространенные социальные проблемы», тогда как команда противников, в рядах которой играли крупные мейнстримные СМИ и не менее крупные шишки-мужчины, норовили загнать его в сетку под названием «единичный инцидент». Чтобы не пустить мяч в свои ворота, вратарь мейнстримщиков вновь и вновь вопил: «Психически больные!» А «мячом», разумеется, был реальный смысл массового убийства в Айла-Висте (Калифорния), когда один студент расстрелял своих соучеников.
Битва за определение того, что им руководило, не стихала целые выходные. Голоса из «мейнстримной» команды твердили, что он психически нездоров, как будто это все меняло, как будто весь мир делится на две страны – «нормальных» и «ненормальных», и у них нет ни общих границ, ни общей культуры. А между тем психическая болезнь – не такой уж сильный разграничивающий фактор. Очень многие люди с ментальными расстройствами добры и эмпатичны. Но по многим другим статьям, в том числе несправедливости, ненасытной жадности, экологической безалаберности, безумие и злонамеренность – это суть нашего общества, а не только издержки некоторых его слоев. В своей замечательной авторской колонке 2013 года антрополог Таня Лурманн отмечает, что если голоса слышит шизофреник в Индии, то они, скорее всего, велят ему прибраться дома; американца же они будут побуждать к насилию. Все дело в культуре. Или, как говорила моя приятельница, следовательница по уголовным делам: «когда человек начинает терять связь с реальностью, больной мозг с упорной одержимостью цепляется за то, чем полна атмосфера вокруг, то есть за болезни культуры, где человек живет».
Убийцу из Айла-Виста не раз называли «девиантом», словно бы подчеркивая, что он ничуть не похож на всех нас. Но примеров такого насилия полно везде, и особенно оно заметно в условиях пандемии ненависти к женщинам и агрессии против них. В конечном итоге именно такие споры о том, чем считать мужское стремление убивать, могут стать переломным моментом в истории феминизма: здесь всегда шла и продолжает идти битва за право называть и определять, говорить и быть услышанной. «Битва за рассказ» – так называют этот спор в Центре нарративных стратегий (Center for Story-Based Strategy), ведь победа или проигрыш во многом зависит от того, каким языком и каким нарративом вы пользуетесь.
В 2010 году медиа-критикесса Дженнифер Познер так сказала о другой резне, учиненной мужчиной-женоненавистником: «Мне до смерти надоело, что раз за разом приходится писать в разных вариациях одну и ту же статью или пост для блога. Но приходится – ведь суть всех этих преступлений есть насилие по гендерному признаку. Если оставить этот мотив без внимания, мы не только не сможем явить полную и точную картину событий, но и сами лишимся возможности анализировать. Также мы утратим контекст, необходимый для того, чтобы понимать природу насилия, распознавать предупреждающие „звонки“ и принимать меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем». Убийца из Айла-Виста стрелял и в женщин, и в мужчин, но главной его целью, похоже, были именно женщины. Очевидно, он решил, будто секса у него нет из-за неадекватности девушек, которые якобы что-то ему должны. Так он рассуждал, жалея себя и чувствуя себя ущемлённым в правах.
#YesAllWomen
Отец одного из погибших, Ричард Мартинес, выступил на национальном телевидении с проникновенной речью, требуя ввести контроль за оборотом оружия и обвиняя в бесхребетности политиков, поддавшихся лобби производителей оружия. Рассуждал он и о более широких причинах сложившейся плачевной ситуации. Много лет Мартинес был государственным защитником в округе Санта-Барбара, так что на его памяти было множество случаев насилия против женщин, несанкционированной стрельбы и психических заболеваний – в этой сфере подобное неизбежно. Как и мать Кристофера Майклза-Мартинеса, заместительница окружного прокурора, он хорошо знал, что творится на подотчетной им территории, еще до того, как они потеряли детей. Причиной бесконечной череды проблем были оружие, токсичная маскулинность и необоснованные претензии, но также и нищета, стереотипы и привычка решать эмоциональные проблемы в стиле фильмов-боевиков. А прежде всего – ненависть к женщинам.
Как утверждает одна из участниц феминистского дискурса, последовавшего за этими событиями, одна девушка под ником «Кей» решила запустить в Твиттере хэштег #YesAllWomen («#ДаВсеЖенщины») в субботу после трагедии. (После этого она подверглась нападкам и была вынуждена выйти из публичной дискуссии.) К вечеру воскресенья по всему миру появилось полмиллиона твитов с тегом #yesallwomen. Словно прорвало плотину. Возможно, так и случилось. Этот хэштег подразумевает, с каким адом и ужасом приходится сталкиваться женщинам, и критически обыгрывает стандартный мужской ответ на заявления женщин об угнетении: «Not all men» – «не все мужчины (такие)».
Точно так же мужчины говорят: «Ну я же не такой», – или переводят тему разговора с реальных трупов, жертв, агрессоров – на защиту зоны комфорта окружающих мужчин. Как сказала мне одна возмущенная женщина – «Ну и чего они хотят? Конфетку за то, что не бьют, не насилуют и не угрожают?» Женщины постоянно находятся в страхе насилия и убийства. Иногда это важнее, чем забота о чувствах мужчин. Или, как написала пользовательница Твиттера Дженни Кью: «Конечно же, #NotAllMen – не все мужчины – мизогины и насильники. Дело же не в этом. Дело в том, что все женщины – #YesAllWomen – постоянно боятся тех, кто ими является».
Многие женщины (и мужчины тоже – но в основном женщины) оставляли хлесткие, блестящие комментарии.
• #YesAllWomen – потому что стоит мне написать твит о феминизме, как я начинаю получать угрозы и скользкие мерзости. Я не должна бояться говорить вслух.
• #YesAllWomen – потому что гораздо больше мужчин возмутилось этим хэштегом, чем тем, что происходит с женщинами.
• #YesAllWomen – потому что если ведешь себя с ними вежливо, то «заводишь», а если слишком грубо – рискуешь нарваться на насилие. И в любом случае ты сучка.
Потрясающий был момент: волна прокатилась по всем соцсетям, в том числе появились миллионы постов и в Фейсбуке, и в Твиттере. Последнее очень важно, потому что именно в Твиттере женщинам, заговорившим вслух, чаще всего начинают поступать угрозы изнасилования и убийства. Как пишет Астра Тейлор в своей новой книге «Люди в Интернете» (The People's Platform), свобода слова используется как аргумент в защиту агрессивных высказываний, которые сами по себе пытаются отменить чужую свободу слова, заставить других испугаться и замолчать.
Видная современная феминистка Лори Пенни пишет: «Когда появились новости об убийствах, когда в цифровой среде начали их осмысливать и обсуждать, я чуть не написала редактору с просьбой о коротком отпуске, поскольку получила несколько особенно диких угроз изнасилования и жутко испугалась. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Но вместо этого я в тоске и в ярости пишу сейчас эти строки. Не только от имени жертв бойни в Айла-Виста, но и потому, что идеологию и речь новых мизогинов продолжают воспринимать как что-то обыденное… Меня достали требования посочувствовать насильникам, звучащие всякий раз, стоит мне попытаться заговорить о жертвах, живых и мертвых».
Слова – наше оружие
В 1963 году вышла знаменитая книга Бетти Фридан «Загадка женственности», где она пишет: «Эта безымянная проблема – а именно то, что женщинам в Америке не дают полностью реализовывать свой человеческий потенциал, – гораздо сильнее сказывается на физическом и душевном здоровье нации, чем любая известная науке болезнь». В последующие годы упомянутая проблема получала разные названия – мужской шовинизм, а затем сексизм, мизогиния, неравенство, угнетение. Выход видели в «освобождении женщин», «эмансипации», «феминизме».
Сейчас эти слова поистрепались, но тогда были свежи как никогда. С момента выхода манифеста Фридан феминизм продвинулся вперед отчасти за счет того, что давал имена разным явлениям. К примеру, термин «сексуальные домогательства» (sexual harassment) зародился в 70-х, впервые был использован в юридической среде в 80-х, был признан Верховным судом США в 1986 году, а широкую популярность получил тогда, когда в 1991 году Анита Хилл решилась выступить против своего бывшего начальника Кларенса Томаса, баллотировавшегося в члены Верховного суда. Следственная группа, состоявшая из одних мужчин, отнеслась к Хилл насмешливо и агрессивно, а немало мужчин – членов Сената и других организаций даже не поняли, что в этом такого, когда начальник говорит тебе сальности и требует сексуального обслуживания. Или просто заявили, что такое невозможно в принципе.
Многие женщины возмутились тогда. Как и выходные после Айла-Висты, этот момент стал переломным, когда изменился сам дискурс, когда те, кто понял, о чем речь, наступали на тех, кто не понимал. Многие смогли открыть глаза и изменить образ мыслей. Некоторое время люди даже клеили на бамперы машин стикеры с фразой «Я верю тебе, Анита». Сегодня сексуальные домогательства гораздо реже встречаются на работе и в учебе, а их жертвы имеют больше возможностей себя защищать, отчасти именно благодаря смелому выступлению Хилл и той лавине обсуждений, которое оно за собой повлекло.
Совсем недавно появилось множество выражений, подразумевающих право женщины на жизнь: скажем, «домашнее насилие» вместо «битья жен», когда закон начал (слегка) интересоваться этой темой. До сих пор в США каждые девять секунд бьют женщину, но благодаря героическим феминисткам 70-х и 80-х у жертв теперь есть доступ к юридическим мерам, которые иногда даже срабатывают, теоретически могут ее защитить, а также – еще более теоретически – отправить насильника за решетку. В 1990 году журнал Американской медицинской ассоциации писал: «По данным исследования канцелярии Главного санитарного врача США, домашнее насилие является главной причиной травм, полученных женщинами в возрасте от 15 до 44 лет, – чаще, чем автоаварии, разбойные нападения и смерть от рака, вместе взятые».
Решив проверить эти данные, я зашла на сайт Коалиции против домашнего насилия штата Индиана, где посетительниц предупреждают о возможном контроле истории их браузера и предлагают номер горячей линии по вопросам домашнего насилия. На этом сайте женщинам сообщают, что насильник может решить наказать их за поиск информации или за то, что они признали своё положение домашним насилием. Вот так обстоят дела. Наверное, сильнее всего из прочитанного в последнее время меня потряс очерк в журнале Nation о печально известном убийстве Кэтрин (Китти) Дженовезе в нью-йоркском Квинсе в 1964 году. Автор материала, Питер Бейкер, напоминает нам, что некоторые соседи, наблюдавшие из окон за творящимся преступлением, вероятно, решили, что имеет место не зверское нападение незнакомца, а просто мужчина разбирается со «своей» женщиной. «Нельзя забывать, что в те времена насилие, осуществленное мужчиной в отношении жены или подруги, часто считали семейным делом. Нельзя забывать и о том, что с точки зрения законов 1964 года мужчина не мог бы изнасиловать собственную жену». Такие термины, как acquaintance rape (изнасилование знакомым мужчиной), date rape (изнасилование на свидании) и marital rape (изнасилование в браке), еще предстояло изобрести.
Слова двадцать первого века
В словах – сила. «Пытку» можно переименовать в «допрос с пристрастием», убийства детей – в «незапланированные потери», тем самым переиначивая смыслы, лишая нас возможности видеть, чувствовать, сопереживать. Но этот процесс работает в обе стороны. Силой слов можно замаскировать смысл – или извлечь его на поверхность. Если у вас нет названия для какого-то явления, чувства, ситуации – вы не сможете говорить о них, а значит, не сможете вместе с другими попытаться решить проблему и тем более не сможете что-то изменить. На помощь нам приходят жаргонные выражения – «уловка-22», «тактика гаечного ключа», «кибербуллинг», «99 %», «1 %». С их помощью можно не только описать те или иные явления, но и изменить мир. И применительно к феминизму это, возможно, особенно верно. Ведь цель этого движения – дать голос тем, кто его лишен, дать силу тем, у кого ее отобрали.
Выражение «культура изнасилования» – одна из мощнейших новых фраз нашего времени. Широкую популярность оно получило в конце 2012 года, когда первые полосы новостных изданий захватили истории о нападениях насильников в индийском Нью-Дели и американском Стьюбенвилле. Вот как звучит особенно хлесткое определение этого явления:
Культура изнасилования – это культура, где насилие преобладает, а сексуальное насилие над женщинами признано нормальным явлением и не вызывает осуждения в прессе и популярной культуре. Культура изнасилования поощряется использованием мизогинных выражений, объективацией женских тел и романтизацией сексуального насилия: в результате общество перестает придавать ценность правам и безопасности женщин. Культура изнасилования касается каждой женщины. Большинство женщин и девочек вынуждены в чем-то себя ограничивать из-за опасности насилия. Большинство женщин и девочек живут в страхе насилия. Мужчины чаще всего – нет. Так изнасилование становится мощным инструментом подчинения всего женского населения – населению мужскому, несмотря на то, что многие мужчины никого не насилуют, а многие женщины за всю жизнь насилию не подвергаются.
Иногда я слышала слова «культура изнасилования» в смысле «lad culture» (примерно соответствует понятию «гопничество»), то есть издевательский, агрессивный стиль поведения, присущий некоторым молодым парням. Кроме того, порой этими словами обозначают мейнстримный характер развлечений, пронизанный духом мизогинии, неравенство в повседневной жизни, обилие юридических «лазеек», позволяющих избегать ответственности. Благодаря этому термину мы перестали притворяться, будто изнасилование – это что-то из ряда вон выходящее, не имеющее отношения к общественной культуре в целом и даже противоположное ее ценностям. Будь это так, каждая пятая американка (и каждый семьдесят первый американец) не стали бы жертвами насилия; будь это так, 19 процентам студенток колледжа не приходилось бы переживать сексуальные посягательства; будь это так, не было бы эпидемии насилия в армии. Выражение «культура изнасилования» позволяет нам начать борьбу с этим явлением в культуре в целом.
Термин же «право на секс» появился в 2012 году, когда на изнасилованиях попались члены хоккейной команды Бостонского университета. Хотя, если поискать, можно найти и более ранние его упоминания. Мне он впервые попался в 2013 году в отчете ВВС по проекту исследования изнасилований в Азии. Там говорилось, что во многих случаях мотивом для насилия была идея о том, будто мужчина имеет право заняться с женщиной сексом независимо от ее желания. Иначе говоря, его права ценнее ее прав, если они вообще у нее есть. И это чувство, будто мужчинам должны секс, присутствует везде. Многим женщинам, как и мне в юности, говорят: то, что мы сделали, сказали, во что мы были одеты, как выглядели – или сам тот факт, что мы женщины, способен вызывать желания, которые мы обязаны удовлетворять. Мы им должны. А у них есть право. На нас.
Злость на неудовлетворенные эмоциональные и сексуальные потребности встречается у мужчин слишком часто, равно как и убеждение, что можно насиловать или наказывать одну женщину за то, что сделали или не сделали другие. Весной 2014 была зарезана девочка-подросток, отказавшаяся пойти с мальчиком на выпускной; 14 мая этого же года убили 45-летнюю женщину, мать двоих детей, попытавшуюся «отдалиться» от мужчины, с которым она встречалась; в тот же вечер, когда стреляли в Айла-Виста, мужчина из Калифорнии открыл пальбу по женщинам, отказавшим ему в сексе.
После убийств в Айла-Висте термин «право на секс» обрел невиданную распространенность: на эту тему начали появляться хлесткие, сердитые посты в блогах, комментарии, беседы. Думаю, что именно в мае 2014 года этот оборот вошел в повседневную речь. С его помощью люди могут определить это явление выразить протест. Так мы сможем что-то изменить. Слова – это важно.
Преступления – малые и большие
Двадцатидвухлетний парень, который 23 мая 2014 убил шесть своих соучеников и пытался убить еще многих, прежде чем покончил с собой, считал, что причина его несчастий – не в нем самом, а в других. Поэтому он решил наказать девушек, которые, по его мнению, его отвергли. Собственно, это он проделывал и до того, уже не раз, осуществляя мелкие акты насилия. В печальном пространном описании своей биографии он вспоминает: «Шла первая неделя учебы в колледже, и вот я увидел на остановке автобуса двух классных блондинок. На мне была красивая рубашка, так что я им улыбнулся. А они на меня глянули и даже не соизволили улыбнуться в ответ. Просто отвернулись, будто я дурак какой-то. Тут я разозлился, вернулся на остановку и вылил на них целый стакан латте из Старбакса. И ощутил злорадное удовольствие, глядя на их заляпанные джинсы. Как они посмели так меня унизить! Как посмели так меня оскорбить! В ярости я повторял себе снова и снова: они заслужили наказание. Жаль, что латте у меня уже остыл и не слишком их обжег. Я бы их в кипяток макнул за то, что они отказали мне во внимании и восхищении, которого я всецело заслуживаю!»
Домашнее насилие, менсплейнинг, культура изнасилования, право на секс: вот некоторые из языковых средств, заново формулирующих условия, с которыми многие женщины сталкиваются каждый день, и позволяющих двигаться к переменам.
Геолог и геодезист XIX века Кларенс Кинг и биологи ХХ века использовали термин «прерывистое равновесие», описывая процесс изменений, характеризующийся долгими периодами относительного затишья, которые сменяются эпизодами бурных волнений. История феминизма развивается как раз в духе прерывистого равновесия: время от времени наши разговоры о природе мира начинают под действием непредвиденных обстоятельств мчаться, словно горная река. Именно в это время мы меняем историю.
Думаю, сейчас мы переживаем кризис возможностей. Ведь в центре нашего внимания не один несчастный, злобный парень, но весь конструкт, внутри которого мы живем. События той пятницы в Айла-Виста нарушили равновесие, и подобно тому, как напряжение между тектоническими плитами заканчивается землетрясением, пределы гендерных условностей чуть сдвинулись. Произошло это не из-за убийства как такового, но потому, что миллионы людей начали обсуждать это, делиться опытом, переосмысливать понятия и определения, приходить к новым смыслам. По всей Калифорнии прошли памятные мероприятия, куда приходили люди со свечами; и вместе с огнём они несли свои идеи, слова, истории, которые так же светились во тьме. Быть может, этим изменениям уготовано расти и расти, продлиться долго, остаться в истории, – и стать подлинным памятником жертвам убийства.
Много лет назад, когда я написала эссе «Мужчины учат меня жить», меня удивило вот что: начала я со смехотворного эпизода, когда мужчина обращался со мной свысока, а закончила разговорами об изнасилованиях и убийствах. Мы пытаемся классифицировать насилие и злоупотребления властью по неким готовым категориям: домогательства, запугивания, угрозы, рукоприкладство, изнасилования, убийства. Но постепенно мне стало ясно, что проблема – в порочной системе. И бороться нужно с системой как таковой, а не рассматривать виды мизогинии по отдельности. Тем самым мы лишь дробим общую картину на фрагменты, в результате видя части, но не целое.
Мужчины действуют исходя из предположения, что у нас нет права говорить и определять происходящее. Выражаться это может в том, что вас «задвигают» за обеденным столом или на конференции. Вам велят заткнуться, вам угрожают, если откроете рот, бьют за то, что заговорили, убивают, чтобы вы замолчали навсегда. Насильник может быть вашим мужем, отцом, начальником, редактором, а может быть и незнакомцем на мероприятии или в поезде, или парнем, которого вы и не видели никогда, но он разозлился на кого-то еще и решил, что «женщины» – это столь узкая категория, что вместо «нее» вполне сгодитесь вы. Он хочет сказать вам, что никаких прав у вас нет.
За угрозами нередко следуют действия. Именно поэтому женщины, получающие в Интернете угрозы изнасилования и убийства, относятся к ним серьезно, в отличие от администраций сайтов и правоохранительных органов. Нередко женщину убивают после расставания с парнем или мужем, который считал ее своей собственностью и отказывал в праве на самоопределение.
Несмотря на все эти горестные обстоятельства, я очень впечатлена достижениями феминизма за последнее время. Видеть, как в выходные после убийства проявили себя Аманда Хесс, Джессика Валенти, Сорайя Кемали, Лори Пенни, Аманда Маркотт, Дженнифер Познер и другие молодые феминистки, было потрясающе. Наблюдать внезапное лавинообразное распространение твитов под тегом #YesAllWomen – фантастически приятно. Радостно было слышать голоса многих мужчин, высказавшихся в поддержку этого течения. Вместо того, чтобы просто повторять за сторонниками принципа «Not All Men», все больше и больше мужчин занимают активную позицию.
Когда-то радикальные идеи теперь уверенно звучат в СМИ. Наши аргументы, наши революционные способы видеть мир приобретают новых сторонников. Может быть, все мы просто невыносимо устали от того, как настырно отстаивают право свободно носить оружие: учитывая, что со времен стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в декабре 2012 года аналогичных эпизодов было уже более сорока. Мы устали от мачистских фантазий о контроле и мести, устали от ненависти к женщинам.
Вспомним «безымянную проблему» Бетти Фридан – и поймем, что ее мир кардинальным образом отличался от нашего, ведь у женщин тогда было куда меньше прав, в том числе и права голоса. В то время заявить, что женщины должны быть равны мужчинам, значило занять маргинальную позицию. Теперь же маргинальным выглядит обратное утверждение, а закон преимущественно на нашей стороне. Наша борьба была и будет долгой и трудной, порой неприглядной, а негативно реагировать на феминизм продолжают активно, резко и повсюду; но до победы им далеко. Мир очень глубоко изменился, и ему предстоит измениться еще больше. В те выходные, полные скорби, самоанализа, обсуждений, мы увидели эти изменения собственными глазами.
2014
Глава 9
Ящик Пандоры и полицейские-добровольцы
Нередко историю борьбы за права женщин и феминизма излагают так, будто речь идет о человеке, который должен был дойти до последнего рубежа или не смог сделать достаточно, чтобы добраться до него. В период вокруг 2000 года многие люди, казалось, утверждали, что феминизм проиграл или что времена его прошли. С другой стороны, в 1970-е прошла замечательная феминистская выставка под названием «Ваши пять тысяч лет позади». Это была пародия на воззвания радикалов к диктаторам и тоталитарным режимам: ваши (столько-то) лет позади. Но был в этом и важный смысл.
Феминизм – это попытка изменить нечто очень старое, очень распространенное и глубоко укоренившееся во многих, а то и в большинстве, культур по всему миру, в бесчисленных учреждениях и почти во всех домах нашего мира. Именно в последних, полагаем мы, все начинается и кончается. За последние сорок-пятьдесят лет произошли фантастические изменения. И если все не изменилось навеки и не останется таковым навсегда – это совсем не свидетельствует о провале. Путь женщины – это путь длиной в тысячу миль. Через двадцать минут после первого шага ей заявят, что впереди у нее еще девятьсот девяносто девять миль и до цели ей никогда не добраться.
Просто нужно время. На пути будут веховые камни; однако по этому пути идут очень многие в своем собственном темпе, иные пытаются остановить тех, кто движется вперед, – а кто-то идет назад или даже еще не выбрал направление. Порой и в нашей собственной жизни мы движемся не туда, терпим неудачи, продолжаем, пробуем вновь, теряемся, иногда можем сразу прыгнуть на большое расстояние, находим то, о чем и не подозревали, что ищем это; и все еще поколение за поколением несем в себе противоречия.
Дорога – идеальный образ: ее легко себе представить. Однако он может вводить в заблуждение, давая понять, будто история изменений и преобразований – это нечто линейное, словно бы Южная Африка, Пакистан, Швеция и Бразилия всегда двигались синхронно, в унисон. Мне нравится еще одна метафора – не прогресса, но необратимых изменений. Это ящик Пандоры или, если хотите, джинны в бутылках из восточных сказок. В мифе о Пандоре обычно делают акцент на опасном любопытстве женщины, открывшей кувшин – да, именно кувшин, а вовсе не врученный ей богами ящик, – и тем самым выпустившей на волю все зло мира.
Иногда акцент делают на том, что осталось в кувшине, – это надежда. Но сейчас мне интереснее всего то, что, подобно джиннам, мощным духам из арабских сказок, силы, освобожденные Пандорой, уже не вернутся обратно в кувшин. Адам и Ева вкусили плодов древа знания – и уже не обретут прежнего неведения. (В некоторых древних культурах Еву превозносили за то, что благодаря ей мы обрели человечность и сознание.) Пути назад нет. Можно отменить репродуктивные права, которые женщины получили в 1973 году по результатам судебного процесса «Роу против Уэйда». Тогда решением Верховного суда США были легализованы аборты – вернее сказать, постановили, что женщина имеет право распоряжаться собственным телом, что исключало возможность запрета абортов. Но нельзя так просто отменить идею о том, что у женщин есть определенные неотъемлемые права.
Интересно, что, доказывая законность репродуктивных прав, судьи ссылались на Четырнадцатую поправку – поправку к конституции США, принятую в 1868 году, после Гражданской войны, и утверждающую права и свободы тех, кто до войны был рабами. Взглянем же на движение против рабства – в его рядах состояло много женщин и звучали феминистские идеи, – которое и стало основой для Четырнадцатой поправки. И посмотрим, как более века спустя эта поправка служит именно женщинам. Фразу «цыплят по осени считают» можно понимать и в том смысле, что за плохие деяния всегда воздастся; но иногда возвращающиеся птички – это благо.
Выпустить джинна
А вот идеи, однажды выпущенные на свободу, уже не вернутся в кувшин или ящик. Революции чаще всего порождены именно идеями. Можно пытаться отменять репродуктивные права, как и поступают консерваторы в своих ответных речах на выступления президента «О положении страны», но убедить большинство женщин в том, что им не полагается права распоряжаться собственными телами, вам не удастся. За переменами в сердцах и умах следуют и реальные изменения. Иногда это они носят юридический, политический, экономический, экологический характер; но происходят они не обязательно, ведь большое значение имеет баланс власти. Так, к примеру, большинство опрошенных американцев хотели бы видеть в действии экономическую политику, весьма отличную от нынешней. Большинство выступает за радикальные меры против изменения климата в большей мере, чем корпорации, ответственные за соответствующие решения, и люди, их принимающие.
Но в социальной сфере воображение – это источник большой силы. Особенно впечатляющие события происходят в сфере прав геев, лесбиянок и трансгендерных людей. Менее полувека назад человек, хоть немного отличающийся от строго гетеросексуального, считался либо преступником, либо душевнобольным, либо и тем и другим и подлежал жестокому наказанию. И от такого отношения не только не было защиты – нетипичного человека ждало преследование и изоляция по закону.
Перемены в этой сфере, произошедшие в наши дни, часто представляют как историю изменений в законодательстве: как результат конкретных кампаний, направленных на изменение законов. Но возможными они стали благодаря переменам в умах людей, постепенно сведшим на нет невежество, страх и ненависть – иначе говоря, гомофобию. Среди американцев гомофобия проявляется все меньше и все реже – чаще она свойственна пожилым, чем молодым. Это происходит благодаря изменениям в культуре, а также тому, что множество квир-людей «вышли из шкафа» и смогли стать сами собой в обществе. Сейчас, когда я это пишу, молодую лесбийскую пару выбрали королевами выпускного бала в южно-калифорнийской школе, а двух парней-геев признали самой симпатичной парой школы в Нью-Йорке. Быть может, это обычные школьные игры в популярность, но еще совсем недавно подобное было бы невозможно в принципе.
Важно отметить (как уже отметила я в эссе «Похвала угрозе» в этой книге), что сама идея возможности брака для двух людей одного гендера стала реальной лишь потому, что феминистки вывели брак из той иерархической системы, в которую он был заключен, и определили заново как отношения равных. Тех, кого пугает идея равноправия в браке, обычно не устраивает и идея равенства в гетеросексуальных парах. Освобождение – «заразный» процесс: вспомним, что «цыплят по осени считают».
Гомофобия, как и мизогиния, до сих пор имеет чудовищный размах, просто не столь ужасный, как, скажем, в 1970 году. Искать способы ценить свои достижения, не впадая в самоуспокоенность, – это задача непростая. Для этого нужна надежда, мотивация и сосредоточенность на грядущем результате. Если твердить, что все уже хорошо или что лучше уже не станет, – это пути в никуда. Любая из этих двух позиций подразумевает, что дальше дороги нет, а если есть – следовать ей не нужно или невозможно. Нет, нужно. Можно.
У нас впереди еще очень долгий путь, но оглянуться и посмотреть, сколько мы уже прошли, – это ценно. Раньше домашнее насилие было по большей части невидимо и ненаказуемо – пока феминистки не предприняли героическую попытку заговорить о нем и тем самым с ним покончить. Хотя на сегодняшний день именно оно является поводом для большинства обращений в полицию, борются с ним очень так себе. Однако сама мысль о том, что муж имеет право бить жену и это всё дела семейные, – навсегда ушла в прошлое. Джиннов больше не загнать в бутылку. А ведь именно так и устроены революции. Первым делом они совершаются на уровне идей.
Недавно выдающийся мыслитель-анархист Дэвид Грэбер написал: «Что такое революция? Мы привыкли считать, что знаем ответ. Революцией считали захват власти силами народа с целью преобразования самой сути политической, общественной и экономической системы страны, обычно основываясь на одной и той же мечте о справедливом обществе. В наши дни, если повстанческие армии врываются в город или в результате массовых волнений свергаются диктаторы, никакие подобные идеи революции обычно не сопутствуют; реально происходящие глубинные социальные преобразования, такие как, скажем, распространение феминизма, принимают совершенно иную форму. Нельзя сказать, что революционным мечтам конец. Но современные революции редко предполагают, что их можно реализовать, совершив некий современный аналог взятия Бастилии. В подобные моменты полезно бывает взглянуть в глубь уже известной истории и задаться вопросом: а впрямь ли революции были тем, что мы думали о них?»
Нет, говорит Грэбер. По его мысли, революция – это в первую очередь не захват власти отдельным режимом, а прорыв, порождающий новые идеи и институции, и то влияние, которое он распространяет. «Русская революция 1917 года стала мировой, обусловив в конечном итоге возникновение „нового курса“ и европейских социальных государств, а также породив коммунизм советского толка». Значит, обычное утверждение о том, будто русская революция породила лишь несчастья, не соответствует реальности. Грэбер продолжает: «Последней в этой череде стала мировая революция 1968 года, которая, как и в 1848 году, охватила почти все страны, от Китая до Мексики, причем нигде не происходило захвата власти – и тем не менее все изменилось. Эта революция была направлена против государственной бюрократии, при этом выступая за неразделимость личного и политического освобождения. Одним из самых долгоживущих ее последствий, вероятно, станет зарождение современного феминизма».
Полицейские-добровольцы
Итак, мы выпустили кота из мешка, джиннов из бутылки, распахнули ящик Пандоры. Пути назад нет. Тем не менее немало разных сил стремятся оттолкнуть нас обратно или хотя бы остановить. В самые тягостные моменты я иногда думаю, что женщинам приходится выбирать – между наказанием за нежелание подчиняться и непрерывным наказанием самого подчинения. Если идеи невозможно загнать обратно в ящик, женщин по-прежнему упорно стараются вернуть на место. То есть на «место» с точки зрения мизогинов: на позицию молчания и беспомощности.
Более двадцати лет назад Сьюзан Фалуди опубликовала программную книгу под названием «Реакция. О необъявленной войне против американских женщин» («Backlash: The Undeclared War Against American Women»). В ней описывается двойное послание, которое на тот момент получали женщины: их поздравляли с полным освобождением и обретением силы, одновременно в многочисленных статьях, эссе и книгах твердя им, что освобождение сделало их ничтожными, неполными, проигравшими, одинокими, лишенными надежды. «Эту сводку отчаяния публикуют везде – в газетах, по телевидению, в кино, в рекламе, на стендах в медицинских клиниках и в научных журналах, – пишет Фалуди. – Как же так вышло, что американки находятся в столь затруднительном положении, если предполагается, что у них все замечательно?» Ответом ей стало в том числе то, что хотя американские женщины и близко еще не добрались до того равноправия, которое им приписывают, они и страдают не так много, как утверждается. Эти статьи и были backlash, «реакцией», «отдачей», попыткой вернуть назад тех, кто двигался вперед.
И все эти излияния на тему никчемности и обреченности женщин до сих пор никуда не делись. В литературном журнале n+1 за конец 2012 года разглагольствуют о недавнем наплыве неодобрительных статей о женщинах в журнале Atlantic.
«Итак, дамы, – обращаются к читательницам эти статьи. – Мы будем обращаться к вам в ограничивающем, очерняющем тоне». Каждая авторка пишет о конкретной дилемме, стоящей перед «современной женщиной», предлагая в качестве примера собственную жизнь… Эти проблемы могут быть разными, но выглядят в конечном итоге одинаково: традиционные гендерные отношения в общем и целом наверняка сохранятся, а по-настоящему прогрессивные социальные перемены – это дохлый номер. Добродушно, словно старый друг, Atlantic советует женщинам прекратить притворяться феминистками. Эдакая добровольческая полиция, пытающаяся сделать так, чтобы женщины остались на своем месте, или загнать их туда вновь. Интернет полон угроз насилия и убийства в адрес женщин, выделяющихся из толпы, – например, играющих в онлайн-игры, или высказывающихся на спорные темы, или даже тех, кто недавно выступал за размещение на британских банкнотах изображений женщин (необычный случай в том плане, что многих угрожавших выследили и привлекли к ответственности). Писательница Кейтлин Моран говорит в Твиттере: «Для тех, кто говорит „да просто заблокируйте их!“: в урожайный день мы можем получать до 50 злых сообщений с угрозами насилия за час».
Быть может, развернулась настоящая война, и это не война полов – все не так просто, с разных сторон выступают консервативные женщины и прогрессивных взглядов мужчины, – но война гендерных ролей. И она свидетельствует о том, что феминизм и сами женщины продолжают добиваться результатов, которые некоторых пугают и приводят в ярость. Подобные угрозы – это примитивная реакция; изощренная их версия – те самые статьи, на которые ссылаются Фалуди и авторы журнала n+1, где женщинам напоминают, кто они такие, на что они могут рассчитывать – а на что нет. И, конечно, повседневный сексизм всегда неподалёку: передовица Wall Street Journal утверждает, будто дети остаются без отцов по вине матерей, и предлагает термин «женский карьеризм». Блогерка Аманда Маркотт отмечает: «Наберите в гугле „female careerism“ (т. е. женский карьеризм) – и вы получите целую кучу ссылок. Но если набрать male careerism („мужской карьеризм“), вас спросят, не имели ли вы в виду male careers („карьеры для мужчин“) или даже mahle careers („вакансии в корпорации Mahle“). Карьеризм – патологическое стремление иметь оплачиваемую работу – похоже, поражает одних лишь женщин».
А чего стоят таблоиды, бдительно следящие за фигурой и личной жизнью женщин-знаменитостей, постоянно уличающие их в том, что они слишком толстые, слишком тощие, слишком секси, недостаточно секси, слишком одинокие, все еще не родили детей, упустили шанс родить детей, родили детей, но не вскармливают их как положено, – всегда исходя из предположения, что каждая из этих женщин стремится быть не великой актрисой, певицей, правозащитницей или искательницей приключений, а прежде всего женой и матерью. Давайте-ка обратно в ящик, дамы-знаменитости. (В модных и женских журналах вам на все лады будут рассказывать о том, как самой прийти к этим целям или как смириться со своими недостатками в этой сфере.)
В замечательной книге Фалуди, вышедшей в 1991 году, говорится: «И все же, невзирая на любые неприятные проявления „отдачи“… женщины не сдаются». Консерваторы отчаянно борются за сохранение своих позиций. Изо всех сил стараются они вернуть тот мир, который никогда не был таким, как им представляется (а если и был, это происходило за счет всех людей – абсолютного большинства нас всех, – которые вынуждены были исчезнуть, вернуться в «шкаф», на кухню, в сегрегированные пространства, в невидимость, в безмолвие).
Благодаря демографическим изменениям такая консервативная картина мира стала невозможной: США не бывать больше преимущественно «белой» страной. Кроме того, не будем забывать о том, что джинны не вернутся в бутылки, квир-люди не хотят больше «в шкаф», а женщины не собираются сдаваться. Идет война, но, на мой взгляд, мы не проигрываем, даже если в ближайшее время нам не светит однозначная победа. Из одних битв мы выходим победительницами, другие завязываем сами; у одних женщин все получается, а другие страдают. И ситуация продолжает меняться – иногда весьма интересным и многообещающим образом.
Чего хотят мужчины?
Женщины – это вечная тема. Точно такая же, как угнетение, подчинение или даже угнетенные нации. Статей о том, счастливы ли мужчины, или о том, почему и их браки иногда рушатся, или о том, хороши ли их тела, даже тела кинозвезд, довольно мало. Именно мужчины – это тот гендер, что совершает абсолютное большинство преступлений, в том числе жестоких. Они же совершают больше всего самоубийств. Американцы хуже американок учатся в колледже; их в большей мере, чем женщин, затрагивает нынешний экономический спад. Казалось бы, интересный предмет для изучения!
Думаю, что будущее явления, которое уже не назовешь феминизмом, должно подразумевать большее внимание в сторону мужчин. Целью феминизма было и остается изменение всего человеческого мира. Многие мужчины поддерживают это движение, но теперь оно выгодно им самим. То, каким образом мужчинам вредит текущее положение дел, – это богатейшая почва для размышлений. Не менее интересно было бы понять, кто они – эти мужчины, совершающие большую часть насилия, угрожающие, ненавидящие – карательный отряд добровольческой полиции, – и что за культура стоит за ними. Быть может, этим вопросом уже занялись. В конце 2012 года огромный резонанс получили два изнасилования – групповое нападение на Джиоти Сингх в Нью-Дели и случай в Стьюбенвилле, когда подростки совершили изнасилование, повлекшее за собой смерть жертвы. Именно тогда я впервые увидела, как на повседневную агрессию к женщинам реагируют примерно как на суд Линча, гомофобию и другие преступления на почве ненависти. Ее сочли явлением распространенным и совершенно неприемлемым, утверждая, что бороться с проблемой нужно на системном уровне, не только в индивидуальном порядке. Всегда считалось, будто изнасилования – это единичные акты, обусловленные ненормальностью насильников (или естественными, неконтролируемыми порывами, или поведением жертвы), но не системное явление, причины которого коренятся в культуре.
Теперь все изменилось. Широко разошелся термин «культура изнасилования». Он означает, что отдельные преступления обусловлены массовыми культурными особенностями, и бороться нужно – и можно – и с тем, и с другим. Впервые это выражение использовали феминистки 70-х, но в широкий оборот оно вошло с возникновением в 2011 году «маршей шлюх», направленных на борьбу с виктимблеймингом (обвинением жертв).
Началось все с того, что в одном из университетов Торонто полицейский обратился к студенткам с лекцией о безопасности, призвав их не одеваться как шлюхи. Совсем скоро марш шлюх приобрел международный масштаб. Молодые сексуально одетые девушки стремились вернуть себе место в общественных пространствах (примерно как в ходе акций «Вернем себе ночь» в 80-х, но в этот раз было больше помады и меньше одежды). Молодые феминистки – это фантастика: умные, храбрые, остроумные, выступающие за права и за собственное место. Именно они творят историю.
Комментарий полицейского насчет «шлюх» был частью дискурса, в рамках которого безопасность девушек предполагалось обеспечить за счет их возвращения «в ящик» (туда не ходи, этого не делай), а не за счет того, чтобы призвать парней не насиловать. Это – часть культуры насилия. Но возникло общенациональное движение, созданное в основном студентками колледжа, многие из которых пережили насилие в учебном заведении, и оно помогло изменить подход к подобным инцидентам. Появилось и движение против эпидемии насилия в армии, позволившее сделать реальные шаги к изменению ситуации.
Феминизм нового времени помогает видеть проблемы под новым углом, и это, пожалуй, стало возможно лишь в результате столь многочисленных перемен. Исследование изнасилований в Азии приводит, в том числе, к тревожным выводам о массовом характере этих преступлений, но одновременно предлагает термин «право на секс», помогающий объяснить, почему насилуют так много. Авторка отчета, докторка Эмма Фулу говорит: «Им казалось, что они вправе заняться с женщиной сексом независимо от ее желания». Иначе говоря, у самой женщины никаких прав нет. Откуда они это взяли?
В 1986 году писательница Мари Шир сказала: «Феминизм – радикальная идея о том, что женщины – это люди». И эта идея до сих пор принята не везде, но тем не менее процесс идет. Дискурс меняется – и это вдохновляет. Как вдохновляет и то, что в рядах сторонников феминизма все больше мужчин. В принципе, они были всегда. Когда в 1848 году в городке Сенека-Фоллз прошла первая конвенция по правам женщин, тридцать два из ста подписавших ее манифест, близкий по духу Декларации независимости, были мужчинами.
Феминизм по-прежнему считали женским делом. Но, подобно расизму, мизогинию никогда не искоренить силами одних лишь ее жертв. Мужчины «в теме» понимают, что цель феминизма – не ущемить в правах их пол, а помочь освободиться всем нам. Нам еще много от чего предстоит освободиться – скажем, от системы, где поощряется конкуренция, безжалостность, недальновидность и грубый индивидуализм, системы, разрушающей окружающую среду и поддерживающую бездумное потребление; одним словом, от капитализма. Он воплощает худшие проявления мачизма, одновременно разрушая лучшее, что есть на земле. Многие мужчины хорошо вписываются именно в эту систему, но никому из нас от этого не лучше. Вспомним такие движения, как мексиканская сапатистская революция, у которой была в том числе феминистская, а также экологическая, экономическая повестка, планы по улучшению жизни коренных народов Америки и другие идеи. Возможно, таково и есть будущее феминизма – в нем не один только феминизм. Или даже его настоящее: в 1994 году появилась Сапатистская армия народного освобождения, действующая и по сей день. Есть множество и других проектов, призванных помочь нам вспомнить, кто мы такие, чего хотим и как бороться за желаемое.
В конце 2007 года я побывала на слете сапатистов в лесу Лакандон. Главной темой мероприятия были права и возможности женщин. Многие участницы взволнованно рассказывали о том, как изменилась их жизнь с тех пор, как они обрели новые права дома и в своей социальной среде. И это была часть их революции. «У нас не было никаких прав», – сказала одна из них, имея в виду времена до восстания неосапатистов. Другая добавила: «Самое грустное – что мы не осознавали, насколько нам трудно и почему нас угнетают. Нам никто не рассказывал о наших правах».
Вот он, этот путь, быть может – длиною в тысячу миль. И идущая по нему женщина уже преодолела немалое расстояние. Не знаю, сколько ей еще предстоит пройти, но обратно она уже точно не вернется, что бы ни случилось. И она на этом пути не одна. Возможно, вместе с ней тысячи мужчин, женщин и представителей других гендеров. Вот тот ящик, который открыла Пандора; вот бутылки, откуда выпустили джиннов. Это тюрьмы и могилы.
В войне могут погибнуть люди, но мысль не укротить никому.
2014
Все работы Аны Тересы Фернандес предоставлены самой авторкой и галереей Венди Норрис. anateresafernandez.com.
1. «Без названия» (перформанс), холст, масло, 6 8 дюймов, из серии «Под давлением» («Pressing Matters»).
2. «Водолей» («Aquarius», перформанс на границе между Сан-Диего и Тихуаной), холст, масло, 54 82 дюйма, из серии «Омовение».
3. «Без названия» (перформанс на границе между Сан-Диего и Тихуаной), холст, масло, 60 72 дюйма, из серии «Под давлением».
4. «Без названия» (перформанс), холст, масло, 70 80 дюймов, из серии «Омовение».
5. «Без названия» (перформанс), холст, масло, 72 60 дюймов, из серии «Паутина» («Telaraña»).
6. «Без названия» (перформанс), холст, масло, 72 60 дюймов, из серии «Паутина».
7. «Между» (перформанс на границе между Сан-Диего и Тихуаной), холст, масло, 30 40 дюймов.
8. «Тела воды» (перформанс): мы скачем на диком жеребце над карстовой воронкой на полуострове Юкатан, где когда-то были утоплены тысячи девственниц в виде жертвы богам. Холст, масло, 78 85 дюймов.
9. «Без названия» (перформанс), холст, масло, 53 57 дюймов, из серии «Омовение».
Благодарности
Я хочу поблагодарить множество людей. К примеру, мою чудесную подругу и вдохновительницу Марину Ситрин. Именно с ее подачи и в том числе для ее младшей сестры Сэм я написала книгу «Мужчины учат меня жить». Спасибо Салли Шатц, пригласившей меня на те самые странные посиделки в Колорадо, где все началось. Очень ценной стала для меня дружба со зрелыми феминистками, в том числе Люси Липпард, Линдой Коннор, Меридел Рубенстейн, Эллен Манчестер, Хармони Хэммонд, МаЛин Уилсон Пауэлл, Пэйм Кингфишер, Кэрри и Мэри Дэнн, Полин Эстевес и Мэй Стивенс, а также с представительницами молодого поколения – Кристиной Герхардт, Сунорой Тейлор, Астрой Тейлор, Аной Тересой Фернандес, Эленой Асеведо Далькур и многими другими. Их яростное упорство в гендерной борьбе вселяет в меня надежду на будущее. Невероятно поддерживает и солидарность множества мужчин в моем окружении и в СМИ, проявляющих внимание к нашей повестке и прислушивающихся к нашим голосам.
Но начать, пожалуй, стоило с моей мамы: она подписалась на журнал Ms., как только он начал издаваться, и читала его многие годы. Думаю, журнал помог ей, хотя еще сорок лет она разрывалась между повиновением и мятежом. Для ребенка, зачитывавшегося журналами Ladies' Home, Women's Circle и вообще всем, что попадалось под руку, это издание стало великолепной «витаминной добавкой», позволившей во многом переосмыслить тогдашнее положение дел как в собственном доме, так и за его пределами. Быть девчонкой в 1970-х от этого не стало проще – но стало легче понимать, почему все так происходит.
Мои феминистские настроения то укреплялись, то ослабевали, но в отрочестве меня лично и очень сильно ущемляло отсутствие свободы перемещения по городу: на меня то и дело нападали в моем районе. И никому не приходило в голову, что это вопрос нарушения гражданских прав, кризис, произвол, а не только лишь повод ездить на такси, учиться драться, всегда брать с собой мужчину (или оружие), выглядеть как парень или переехать в пригород. Ничего из этого я не сделала, но много об этом думала (и «Самая долгая война» стала для меня третьей попыткой коснуться огнеопасного вопроса безопасности женщин в общественных пространствах).
Труд женщин, подобно труду работников заводов и сельскохозяйственных предприятий, зачастую невидим и неблагодарен, а ведь именно на нем держится мир. Выдающаяся художница-феминистка Мирл Ладерман Юклс в своем «Манифесте обслуживания искусства» называет его «поддерживающим трудом». Культура во многом устроена так же. Хотя все мои книги и эссе подписаны моим именем, над ними работали прекрасные редакторы, благодаря которым результаты стали лучше, а иногда и попросту оказались возможны. Редактор Том Энгельгардт, мой друг и коллега, помог мне с публикацией множества работ из прошлого десятилетия, с тех самых пор, как в 2003 году я без спроса послала ему одно эссе. На сайте TomDispatch я нашла великое множество единомышленников. Это небольшое агентство с огромным влиянием, где мне не пришлось менять себя в угоду окружающим. Примечательно, что больше половины материалов этой книги изначально были написаны именно для TomDispatch – моего почтового ящика для отправки писем этому миру (и адресат всегда их получает, благодаря тому, что этот сайт читают очень многие).
В эту книгу вошли эссе, уже публиковавшиеся ранее и немного измененные для этого издания. «Самая долгая война» и другие, впервые увидевшие свет на сайте TomDispatch, пестрели ссылками на источники со статистикой, интересными историями и цитатами. В книжном формате эти примечания выглядели бы слишком тяжеловесно, но в онлайн-версиях эссе они есть.
На TomDispatch были опубликованы «Мужчины учат меня жить», «Самая долгая война», «Столкновение миров в номере люкс», а также «Ящик Пандоры и добровольческая полиция». Единственная работа, которую я опубликовала в Financial Times, – это «Похвала угрозе». Она вышла 24 мая 2013 года под названием «Некоторые равнее» (More Equal Than Others): http://www.ft.com/intl/cms/s/2/99659a2a-c349-11e2-9bcb-00144feab7de.html.
Эссе «Бабушка Паучиха» было написано для сотого выпуска сан-францисского литературного журнала Zyzzyva. Статья же о Вирджинии Вулф изначально была предназначена для выступления на XIX ежегодной конференции по творчеству писательницы. Она состоялась в 2009 году в Фордемском университете.











