Читать онлайн Прости. Забудь. Прощай
- Автор: Алексей Коротяев
- Жанр: Боевики, Крутой детектив, Современная русская литература
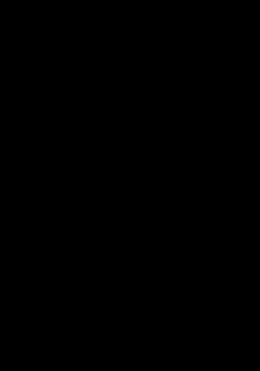
Аленький цветочек
Солнечный луч проколол дырку в портьере и приземлился светящейся точкой на тумбочке у кровати. Следом за ним множество веселых конфети рассыпалось по комнате. Отражаясь от хрустальной вазы с хризантемами, они серебристыми искрами забегали по Ларисиному лицу. Девушка уже давно не спала. Она просто лежала и вспоминала…
Боль в ногах заставляла ненавидеть себя еще больше. Под плотный кокон бинтов звуки голоса доносились гулко и раздражающе искаженно.
– Чтобы операция закончилась успешно, вы должны бороться, Лариса.
– Что у меня с лицом? Я хочу умыться и почистить зубы в конце концов.
Когда снимут повязки?
– Мы можем это сделать, но лучше… не сейчас.
– Я настаиваю!
Со стены ванной комнаты на нее в упор смотрело уродливое существо из комнаты кривых зеркал. Асимметричность губ и бровей делала лицо похожим на портрет работы Пикассо. Красный валик вместо левого уха и полное отсутствие перегородки носа…
–Это не я! Это кто-то другой! О Боже! Это не я-ааааааааа!
Лара медленно приходила в себя. Лицо горело. Оставалась еще маленькая надежда на то, что из-за высокой температуры все это ей просто приснилось. Она коснулась пальцами лица, натолкнулась на бинты и страшно закричала.
– Локтевая… Лучевая… Так… Берцовая кость тоже хорошо срастается… Вы будете полноценно ходить, Ларочка, даже без помощи палочки. Лицу же потребуется множественная пластика.
Лариса молча лежала, отвернувшись к стене. Ей было все равно, что говорил этот мужчина. Происходящее перестало ее интересовать. Отражение, увиденное в зеркале, смотрело на нее из памяти и страшно кривлялось.
В дверь осторожно постучали.
– Разрешите? Вы мне не поможете?
Молодой стройный мужчина, гибко изогнувшись, как прыгун в прыжке над планкой, осторожно проскользнул в дверь, не дожидаясь ответа. Прислонив ухо к матовому стеклу он стал прислушиваться к происходящему в коридоре.
– Я? Помочь? Чем? – удивилась Лара.
Не поворачиваясь, мужчина ответил:
– Сестру доставили сюда сегодня ночью в тяжелом состоянии. Никого не пускают.
Усмехнулся:
– Я, как видите, пробрался. Доктор – мужик хороший, но очень строгий. Так что… Можно я у вас пережду, пока там все успокоится?
– Пережидайте.
Гость наконец развернулся и посмотрел на Ларису.
– Не страшно? – спросила она, заметив, как изменилось выражение его лица.
– Я и страшнее видел. Ой! Простите, пожалуйста. Ради Бога! Не то имел в виду.
– Где же, если не секрет? Я вот лично даже не подозревала, что рот может быть на щеке.
– Под бинтами не видно.
– Спасибо, но поверьте на слово. Ну, так где же? – допытывалась она. –
В Кунсткамере?
Мужчина посерьезнел.
– Работа у меня… мужская. Вот там и видел.
– Горячие точки? Военный?
– И да, и… нет. А что произошло с вами? Если, конечно …
– Я не такая засекреченная, как некоторые. Две курицы в собственных авто спешили рано утром на работу и не поделили перекресток. Одна, та, которая хотела проскочить на красный, ушла на своих двоих. По крайней мере, мне так сказали. Вторая – перед вами. Теперь, пока я не заговорю, определить, мужчина перед вами или женщина, почти невозможно.
– Я сразу определил, – спокойно сказал незваный гость.
Через прорези бинтов Лара уже внимательней посмотрела на стоящего у дверей человека. Высокий, лет 40-ка мужчина. Совершенно седой. Бездонные голубые глаза смотрят спокойно, открыто и доброжелательно. Лицо волевое, красивое. Атлетическая фигура… Уверенность в каждом жесте.
– Геннадий.
– Аленький Цветочек. Не подумайте, что Настенька…
Неожиданно для себя она протянула мужчине руку. Он подошел и осторожно пожал утонувшие в его ладони узкие пальцы.
– Рука у вас… Цветочек действительно как лепесток. Легкая и нежная.
Сказав это, засобирался:
– Похоже, доктор ушел из отделения. Не слышу голосов. Спасибо, что приютили и не выдали.











