Читать онлайн Свенельд. Путь серебра
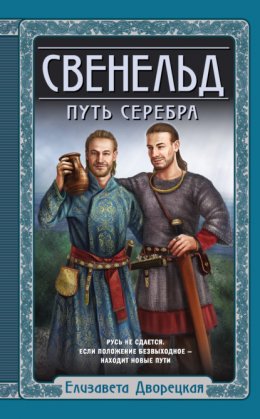
© Дворецкая Е., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Пролог
…Переходы никто не считал. Кормились мы по большей части рыбой; редко когда удавалось купить – или захватить – у местных что-то из скота и поесть мяса, но в Итиле часто попадались осетры в человеческий рост, так что мы почти не голодали. По вечерам у костров давились надоевшей вареной осетриной, потом хлебали юшку с диким чесноком. Мечтали, как вернемся домой. Мы сотворили свою сагу, мы везли такую добычу, о какой раньше и помыслить не могли, и это очень поддерживало наш дух. Ушедшие в поход лопоухими отроками семнадцати лет теперь сидели в шелковых кафтанах и рассуждали: поставлю двор, скотину разведу, возьму самую лучшую невесту, которая там за эти два года подросла…
И только самые опытные, у которых уже не один такой поход был за спиной, говорили: ты сперва еще вернись…
Из темноты под звездами донесся звук рога, подавая знак к отходу. Потом еще раз.
– Волынцы уходят! – доложил отрок, вынырнув из тьмы. – Амунда самого видел. Он сказал, пешие налезли на них, да в небольшом числе, они отбились и отплывают.
Рог со стороны Амундова стана пропел в третий раз, подтверждая слова гонца. Звезды на небе теснились, будто любопытная толпа, желая поглядеть, как войско русов покидает негостеприимный берег хазарской реки Итиль.
– Тогда и нам пора! – решил Грим сын Хельги. – Отходим!
– Отходи-и-им! – прокричал, сложив ладони, Избыгневов сестрич Будила.
– Отходим… отходим! – понеслось дальше по темному берегу. – Лодьи на воду!
Совсем рядом подал голос собственный Гримов рог, рассылая тот же приказ. С Гримом оставалось еще с полтысячи человек: двести киевских русов, из которых отец, оставшийся дома князь Хельги, набрал для сына ближнюю дружину, а еще ратники из Чернигова, Киева, Любеча и всех десяти городков над Днепром, составляющих Полянскую землю. Дальше всех стояли сотня радимичей под началом княжьего сына Жизномира и северяне Мирогостя – они уже садились в свои лодьи, собираясь отплывать вслед за волынцами Амунда плеснецкого.
Понеслись голоса – десятские и сотские передавали распоряжения. Лодьи южного войска были готовы и стояли наполовину в воде, на длинной полосе песчаного плеса. Оставалось только столкнуть их и выйти на глубину. Сотни плохо различимых в темноте фигур двинулись к воде, звездный блеск играл на шлемах, оружии, умбонах щитов, закинутых за спины. Сильные руки уперлись в просмоленные борта, толкая нагруженные сарацинской добычей суда в воду Итиля. Эта добыча и была причиной того, что арсии из личной дружины хакан-бека Аарона нарушили уговор и вероломно напали на русский стан: забрав оговоренную половину шелков, серебра и прочего, хазары пожелали получить все. Месть за ограбленных единоверцев в Ширване и Табаристане, русы не сомневались, была для арсиев лишь предлогом.
Грим с его двумя варяжскими сотнями стоял над плесом, на возвышенной части берега. От воды его отделял небольшой пологий склон и около ста шагов по песку. Часть ратников уже отплыли – ушли радимичи, северяне и черниговцы, начали отходить поляне. Грим с ближней дружиной оставался на месте, спиной к воде, вглядываясь в темную степь, откуда уже дважды на стан обрушивался удар. Он будет здесь стоять, пока последний отрок из южного русского войска, вслед за северным войском Олава и западным – Амунда, не уйдет с этого проклятого берега, где они два дня и две ночи вели бой с конницей хакан-бека и ополчением Итиля. Он, Грим, – верховный вождь трех объединенных войск, что два лета и две зимы пробыли на Хазарском море и добыли немалые богатства. В соперничестве с Амундом плеснецким, тоже князем, к тому же более старшим и опытным, Грим получил право на главный стяг и за время похода доказал, что выбор был оправдан. Пусть ему всего лишь двадцать лет, но с ним послал свою удачу его прославленный отец, Хельги Хитрый, среди славян почтительно именуемый Олегом Вещим.
Раздавались голоса, скрип дерева, плеск воды. Прислушиваясь к этому шуму, Грим не сразу осознал, что слышит и другие звуки – совсем с другой стороны, не там, где осталось отброшенное Амундом пешее ополчение Итиля…
Возможного натиска русы ждали, как и прежде, из степи. Но Газир-бек, вожак арсиев, заметил, что сейчас, после двух малоуспешных сражений, для его поредевшего войска открывается другой путь, способный наконец привести к желанной цели. Пока дружина волынцев отбивала натиск пешей рати, арсии, обмотав тряпками и войлоком копыта коней, под прикрытием темноты приблизились к русскому стану с другой стороны – там, где стояли киевские русы и днем вился главный стяг с золотым змеем на красном поле. Там, где в лодьях была собрана самая лучшая, самая дорогостоящая добыча, взятая ближней дружиной русского вождя. Кияне, отвлеченные шумом пешего сражения, не заметили, как конница подобралась к ним по плесу вдоль самой воды.
Боевых кличей в этот раз не прозвучало. Из темноты вдруг посыпались стрелы, и едва русы успели осознать, с какой стороны нагрянула беда, как конница железным кулаком обрушилась на столпившихся у воды ратников, не готовых к отпору. Длинные пики в руках всадников с разгону пробивали тела насквозь, даже те, что в кольчугах. Тяжелые копыта сшибали на песок и топтали без жалости. Грим со своей дружиной стоял на берегу выше, а здесь отразить натиск оказалось некому.
Только услышав отчаянные крики, предсмертные вопли и прочий шум жестокого побоища внизу, под склоном, у самой воды, Грим понял, что случилось: конница отрезала его от лодий и избивает ратников.
– В кли-и-ин! – заорал рядом с ним Фредульв, сотский киевских варягов.
Но послушали его лишь хирдманы Грима. Ратники, от ужаса потеряв голову, в беспорядке кинулись к воде, искали спасения на лодьях. Их, бегущих вразнобой, рубили с седел заполонившие береговую полосу всадники.
– Рагне! – отчаянно закричал Грим, призывая трубача. – Труби! Подмогу!
Еще можно было вернуть Амунда плеснецкого с его дружиной. Но Грим напрасно призывал своего трубача: Рагне в трех шагах от него лежал на темной земле, одна из первых стрел пробила ему грудь. Рог выпал из рук и укатился вниз по склону.
Опытные киевские варяги быстро выстроились клином. Острие его было обращено по склону вниз, к лодьям, наперерез мчащейся лавой коннице. Грим оказался пятым во втором ряду. Его телохранители – только трое, еще двое пропали невесть куда – сначала были рядом, один – в ряду впереди. Когда на клин налетели конные, этот передний, Сальсе, запнулся и пропал. Теперь Грим оказался в первом ряду. Рубанул по светлому пятну шаровар какого-то всадника, потом еще раз – по чьей-то лошади. А потом на голову обрушился удар – да такой, что звезды брызнули из глаз, а сарацинский шлем с высоким куполом сорвало и отбросило прочь.
В голове гудело, перед глазами плясали пятна. Грима пошатывало, но он, прикрыв голову щитом, упорно шел вперед. Мало что видя, клинком работал больше наудачу. Сколько он себя помнил, в нем, наследнике киевского князя, воспитывали отвагу и упорство, а два походных лета дали ему опыт. Русь не сдается, и ни в каком самом тяжелом положении русам даже в голову не приходит прекратить сопротивление. Славная смерть лучше бесславной жизни.
Всадник на вздыбившемся коне возник перед Гримом как из ниоткуда. Копыта мелькнули в воздухе и пали на стоявшего левее – Грим лишь смутно помнил, что там должен быть еще один его телохранитель, Оддгер. Топор обрушился на Гримов щит, врубился в кромку и завяз; Грим шагнул вперед и колющим, будто копьем, ударил врага снизу вверх, под панцирь. Надавил и выдернул меч.
Клин ближней дружины ударил слаженно. На каждом шагу теряя людей, тем не менее он разорвал конный строй арсиев – кого порубили, кого просто оттеснили.
Под ногами захлюпала вода. Пробились! В десяти шагах уже темнели лодьи на блестящей под звездами водной глади. От водного зеркала здесь было светлее.
Думая, что враг отбит, уцелевшие ратники побежали к лодьям. Лезли на борта, хватали весла, упирались ими в дно и отталкивались. Еще немного, еще несколько мгновений удачи – и они отойдут от берега на глубину, тронутся вверх по течению и станут недостижимы для конницы хакан-бека. Но конница лишь разошлась на две половины, а вовсе не была разбита. Газир-бек и арсии тоже понимали: эти мгновения дают им последний случай достичь цели, и не собирались отступать.
Чуть откатившись в темноте назад, отсеченная Гримовым клином часть конницы развернулась и вновь ударила. Теперь натиск на киян шел с двух сторон, железная пасть захлопнулась. Русов рубили на песке, арсии гнали коней в неглубокую воду, обходя лодьи со стороны реки, рубили и тех, кто искал спасения на судах.
По колено в воде, Грим и еще несколько человек спешили к лодье. Знаменосец нашелся и догнал молодого князя, Рагне с его рогом так и не появился. Двое тащили на плечах раненого Оддгера.
Лодья была совсем рядом, только руку протяни, но в этот миг отогнанные было арсии вернулись. Они неслись на Грима, вздымая тучи брызг, слева, но и справа раздавался шум сражения. И днем-то арсии хакан-бека, в кольчугах и пластинчатых панцирях, с наручами и поножами, в высоких шлемах и круговых бармицах, скрывающих лица, казались железными великанами, а теперь, при холодном свете звезд, выглядели как смертоносные посланцы самого Кощея.
Грим сразу понял, что не успеет добраться. Увернулся от первого всадника, отведя клинок изрубленным щитом, ударил куда-то в ответ – попал в мягкое. На мгновение клинок завяз, Грима развернуло вслед за проносящейся мимо лошадью. И в тот же миг наконечник пики разогнавшегося на скаку арсия ударил в левый бок, пробил доспех и вошел под ребра. Приподнял и обломился, не выдержав удара и веса тела. Грим рухнул, захлебываясь водой и собственной кровью.
Одна обрывочная мысль мелькнула у него перед тем, как сознание погасло. Никто – все те, кто ему близок, Ульвхильд, Олав, Сванхейд в Хольмгарде, Хельги и сестры в Киеве – никогда не узнают, что он пал сражаясь. Никто сейчас его не видит, эта тьма и вода поглотят даже его посмертную славу.
Тело в кольчуге сразу опустилось на дно и покатилось под уклон. Даже те из своих, кто окружал Грима сейчас, не заметили смерти вождя – каждому в глаза смотрела его собственная смерть.
Арсии окружили остатки русов на прибрежном плесе, теснили к воде, прижимали к лодьям, рубили и кололи. Один за другим русы отступали, отбиваясь, падали. Пока не смолк последний крик, не отзвучал последний удар.
А лодьи прочих дружин, кому так и не был послан призыв о помощи, уходили все дальше вверх по широкому ночному Итилю, и звуки угасающей битвы таяли во тьме над водой, не достигая их…
Глава 1
Мать Арнэйд, Финна, порой говорила: мы живем на самом краю света, отсюда уже тот свет видать. Сама она родилась очень далеко от Мерямаа, почти на берегу Варяжского моря, а сюда переехала, когда шестнадцати лет вышла замуж за Дага. Даг, тогда молодой разговорчивый парень, еще не хромавший, отправился однажды с зимним обозом в Альдейгью за кузнечным товаром. Когда он весной, уже по воде, уезжал, на ларе с топорами, копьями и наральниками сидела дочь кузнеца-свея. Своей дочери Финна рассказывала, как поначалу боялась ходить в лес вокруг Силверволла: она знала, что приехала в самый конец Мидгарда, где всякие страшилища поджидают прямо под первыми деревьями опушки. Поэтому и Арнэйд говорила, что тоже боится. Ее братья – Арнор был на два года старше ее, а Вигнир на год младше, – наоборот, очень хотели увидеть ётунов – на языке мере их называли ёлсами – и нарочно выискивали их в лесу, держа наготове луки и сулицы. Почти каждый раз они наперебой рассказывали, вернувшись домой, что видели во-о-от такое чудище, и стреляли в него, и ранили, и оно убегало с воем, а они гнались за ним по следам синей крови и уже почти настигли… Но принести домой ётунову шкуру им так ни разу и не удалось. Мать успокаивала Арнэйд: они все врут, пугают тебя.
Когда Арнэйд было десять, мать умерла. Оставшись вдовцом с тремя детьми, Даг в то же лето женился на Ошалче – девушке из хорошего местного рода, Юксо-ерге. Так поступали уже многие из его предков, и род их хоть и считался русским, на самом деле имел в жилах немало меренской крови. Разнородное наследие сказалось на внешности Арнэйд: она получила продолговатое лицо с высоким широким лбом, как у деда-свея, а от ладожской бабки-словенки ей достался курносый нос, у которого будто сидел мягкий шарик на конце, что смягчало резкость твердых высоких скул ее меренских бабок. Хорошо, что у нее не было большого досуга разглядывать себя в умывальной лохани, иначе она сказала бы, что все это ни с чем не сообразно. Но что девушка может понимать в собственной красоте? Черты ее сливались в нечто своеобычное, но ладное, и особенно освещали это лицо ярко-голубые глаза.
Молодая ее мачеха, Ошалче, состояла в родстве с меренской княгиней – покшавой Кастан, и, прямо сказать, эта женитьба более подходила к положению Дага, чем его первый скоропалительный брак с дочерью кузнеца из заморья. Мачеха – она была старше Арнэйд на девять лет – не давала падчерице сидеть без дела и все лето посылала собирать ягоды, грибы, травы. В десять лет Арнэйд уже привыкла возглавлять целую ватагу русских и меренских детишек еще младше. Детские страхи позабылись. Мать сменилась мачехой, у мачехи что ни год появлялось по ребенку, на растущую Арнэйд навалились заботы о четверых сводных братьях и сестрах (не считая тех троих, что умерли младенцами), да и обшивать родных ее братьев тоже приходилось ей.
В ожидании своей двадцать первой зимы Арнэйд чувствовала себя взрослой, опытной в хозяйстве женщиной: десять лет младенцев пеленала. Когда водила в лес младших, сама пугала их:
– Смотрите, чтобы вас ёлсы не унесли! Я видела одного за корягой – он во-от такой огромный и страшный, только и ждет, когда вкусный изи пойга[1] отстанет от старшей сестры и попадет ему в зубы!
Сегодня братишки ушли с рыбаками, в лес с Арнэйд увязались только сводные сестры – Сулай и Савикай. Был тихий, пасмурный, но теплый день в конце лета, когда самые робкие березы уже выпустили желтые пряди, но весь лес еще стоит зеленым. С утра висел густой туман, и тенетник среди высоких пожелтевших стеблей травы, покрытый меленькими капельками, стал будто посеребренный. Может, от этого место и называется Силверволл – Серебряные Поля, – подумала Арнэйд, а вовсе не от какого-то там клада из трех тысяч шелягов, зарытого сто лет назад старым Тороддом. Арнэйд и сама вся вымокла в росе, пока пробиралась через поляны, влажный мелкий сор прилип к подолу ее платья из некрашеной серой шерсти. Две малявки семенили за ней и без умолку болтали.
– Аркей, из чего сделана луна? – спрашивала младшая, Савикай.
Мать Финны была славянкой, и сама Финна с детства говорила по-славянски, как большинство населения Альдейгьи-Ладоги. Но в Мерямаа славян нет, и Арнэйд знала из языка своей бабки лишь несколько слов. Зато она с рождения говорила на северном языке и по-меренски одинаково хорошо. С Ошалче Даг объяснялся по-меренски, и ее дети северной речи почти не знали. Старшую сестру они называли Аркей, что означает просто «большая», и не раз уже Арнэйд слышала, что и Даг повторял за детьми.
– Из сыра, – без раздумий отвечала Арнэйд. – Она белая и круглая. А порой убывает, когда от сыра отгрызают кусочек.
– Кто отгрызает?
– Небесная мышь.
– Разве на небе есть мыши? – недоверчиво фыркнула девятилетняя Сулай и засмеялась.
– Есть. Иначе кто бы каждый месяц сгрызал головку сыра?
– А как же она опять делается целой?
– Растет, конечно. Разве непонятно?
– Вот бы и у нас сыр вырастал обратно сам по себе! Тогда мы всегда были бы сыты!
– Вы и сейчас не голодаете. Но непременно умрете с голоду, если будете вечно болтать, а не дело делать, – строго сказала Арнэйд.
– Но если луна сделана из сыра, то как же девушка с ведрами попала туда? – воскликнула Сулай. – Я знаю, матушка нам рассказывала: одна девушка пошла ночью за водой, а Мать Луны…
– Вот это что? – Прервав ее, Арнэйд указала на стайку из трех-четырех молодых грибов-красноголовиков, нагло сидевших на видном месте среди мелкой травки и мха. – Они даже не прячутся, а вы не видите! Вы кому это оставляете – ёлсам?
Девчонки взвизгнули и наперегонки бросились хватать грибы. Арнэйд отвернулась от них, сделала несколько шагов… и увидела среди еловых лап огромного ёлса.
Накликала…
Арнэйд встретилась с ним глазами и застыла, разом оледенев. Даже разглядеть его толком она не могла, не в силах отвести взора от его глаз. Ростом с быка, тело покрыто перьями в желто-бурую крапину, как у кречета… Пристальный, пронзительный, жадный взгляд пронзил ее холодным клинком, обездвижил, не оставил внутри ничего, кроме ужаса и чувства беспомощности. Напрасно она считала, что ёлсы и ётуны живут где-то в своем далеком Утгарде и ей на пути не попадутся никогда. Они здесь. И все время, надо думать, были здесь. А сегодня настал тот день, когда она им понадобилась…
Ёлс пошевелился, двинул рукой, собираясь ее схватить. Арнэйд очнулась и без единого звука метнулась в сторону. Краем глаза она заметила, что ёлс рванулся за ней, и припустила со всех ног; без тропы она неслась через лес, довольно редкий в этих местах, слышала позади себя топот, шум веток, вроде бы рычание и невнятные выкрики. Лукошко она бросила, подол подхватила выше колен и мчалась, скользя по влажной листве и едва успевая отводить ветки, чтобы не хлестали по глазам. Не оглядывалась, чтобы не терять на это времени, и дух занимался от жуткого чувства, что погоня близко, что вот-вот ее схватят… Она неслась изо всех сил, подгоняемая верой жертвы, что, если бежать еще чуть-чуть быстрее, можно оторваться и вынудить хищника потерять тебя из вида.
Где-то сбоку раздавались свист, крики, шум ветвей и треск сучьев. Судя по звукам, теперь за нею гнались несколько ёлсов: перекликались на ходу, рычали, выли и ревели. Вой разносился по лесу. Искать спасения было негде – до дома далеко, жилья рядом нет, звать на помощь некого. Арнэйд бежала, как лань, уже и не видя впереди никакого избавления, но ее гнала известная дичи жажда – ценой напряжения всех сил прожить на несколько мгновений дольше…
Ручей! Впереди блеснула рыже-бурая вода на влажном черноватом торфе. Арнэйд вылетела на берег одного из множества безымянных черных ручейков, усеянный первыми желтыми листьями. Может, текучая вода их задержит? С разбега Арнэйд ворвалась в ручей, даже не замечая, как холодная вода заливает поршни и чулки. Шириной он был всего шага два, и она мигом оказалась на той стороне, но дальний берег был крутым, хоть и невысоким. Пытаясь одним шагом на него вскочить, Арнэйд запнулась о подол платья, мокрая подошва соскользнула с кручи, и она упала.
Лежа лицом в землю, чувствуя, как вода полощет ей ноги, Арнэйд и хотела бы встать, но не могла – за время этого безумного бега она осталась без сил. Грудь разрывало, в боку кололо, в ушах будто в бубен кто-то бил. Со свистом втягивая воздух ртом, она зажмурилась и успела подумать: может, ей все это померещилось?
Но хвост этой мысли еще не успел мелькнуть перед внутренним взором, как кто-то с шумом протопал по воде позади Арнэйд, чье-то увесистое тело рухнуло на мокрый песок рядом с ней, чьи-то мощные лапищи схватили ее за плечи.
– Да стой… ты… ётуна мать! – прохрипел грубый голос: ее преследователь тоже задыхался.
Потом ее приподняли и перевернули. Арнэйд зажмурилась, не в силах смотреть в лицо гибели.
Раздался изумленный возглас.
– А… Арнэйд? – услышала она свое имя, произнесенное с такой неуверенностью, что страх почти пропал.
Ее подняли и посадили, прислонив спиной к низкому обрыву. В спину впился корень, одежда промокла почти до пояса. Арнэйд встряхнули, будто хотели разбудить. И тогда она заставила себя открыть глаза.
Это был тот самый ёлс: он сидел на мокрой земле и держал ее за плечи, хотя убежать она уж точно не могла. Вблизи он оказался не так огромен, как ей померещилось в первый миг, и даже почти походил на человека. И все же это не мог быть человек: облик его казался Арнэйд знакомым, но совершенно чуждым, а значит, был украден из ее мыслей.
– Арнэйд! – уже почти уверенно повторил ёлс. – Это ты или фюльгья моя? Как ты здесь оказалась? Какие шайтаны тебя сюда занесли?
Он говорит по-человечески. В потрясении Арнэйд не осознала толком, что слышит «северный язык», в этих края называемый русским, но речь на родном языке легче достигла ее сознания.
Теперь Арнэйд смотрела на него широко раскрытыми глазами. Видела она ясно, но сознание плыло и отказывалось объяснить ей, что или кого она видит. По виду ёлс был совсем как человек – будто мужчина средних лет, скорее молодой, чем старый, крупный, плечистый, с короткими светлыми волосами и довольно неряшливой русой бородой, но вид его был таким странным и диким, что отнести его к людям не получалось. Кожа его была темной, как и положено иномирным сущностям, брови казались очень светлыми, ярко сверкали глаза лесного цвета – как запыленный желудь. Арнэйд знала, что уже видела это лицо, но при попытке вспомнить, кто же это, где и когда она его встречала, мысли обрывались и тонули в тумане. Откуда-то она знала: этого не может быть. Вернись кто-то из знакомых ей мертвецов – она, конечно, испугалась бы, но растерялась бы меньше.
– Арнэйд! – Ёлс выпустил ее плечо и взял за руку, безвольно лежавшую на колене. Лицо его смягчилось, дыхание почти выровнялось. – Очнись и скажи: ты мне мерещишься? Ты настоящая или меня хюльдры морочат?
Арнэйд ловила воздух ртом. Она хотела бы ответить, но не находила ни единого слова: что ответить, что спросить? Ни одного слова она не знала, подходящего для такой встречи. Он принимает ее за хюльдру, то есть, по-здешнему, овду?[2] Но почему? У нее ступни не вывернуты назад. И не такая уж она растрепанная!
Тем временем за спиной ёлса появилось еще несколько таких же. Этих Арнэйд разглядела более четко. Они не казались ей знакомыми, но явно были из той же стаи, что и первый: одинаковые темные лица, спутанные волосы и бороды, и шкуры такие же, только другой окраски. Тяжело дыша после погони, они пересекли ручей, подошли и окружили ее. Уставились, будто волчья стая.
На тех руках, что держали ее – смуглых, грубых, – сидело три золотых обручья, и от дикости зрелища разум Арнэйд и не мог найти этому явлению места в живом мире. Вблизи Арнэйд разглядела: на том ёлсе, что сидел прямо перед ней, не перья, а одежда вроде кафтана, с пестрым узором в желтовато-бурых тонах, а под ней еще одна, полосатая. Обе одежды были из шелка, слегка распахнутые, так что виднелась грудь, тоже густо-смуглая, а на шее два золотых ожерелья. Одежды эти явно были не новыми, порядком поношенными и грязными, до ноздрей долетал крепкий запах пота.
Прочие ёлсы тоже разоделись в цветное платье, незнакомого Арнэйд покроя, но из яркого плотного шелка – то узорного, то полосатого, то в пестрых, раздражающих глаз разводах. Широченные порты с множеством складок – будто на каждой ноге надето по шелковому мешку. И золото, серебро и золото – на шейных гривнах множество перстней, на руках обручья и перстни.
Но какой вид имели эти одежды! Будто ими котлы вытирали! Шелк берегут, платья с ним надевают только на праздники, передают от бабки к внучке. Ни один живой человек не мог довести шелковую вещь до такого жалкого состояния!
В мыслях забрезжил свет – Арнэйд вспомнила хоть что-то похожее. Много-много лет назад, пока она и братья были маленькими, мать рассказывала им, как один человек ехал через лес и увидел, что в горе́ тролли празднуют свадьбу. Сами тролли были страшные, черные, покрытые шерстью, но разодеты в цветные шелка и увешаны золотом. Примерно так и выглядели существа перед ней… Но тут Арнэйд заметила на обнаженной груди ёлса, который ее держал, красный кривой шрам длиной в половину ее ладони и опять растерялась: этот шрам выглядел слишком по-человечески.
– Девка… – прохрипел один ёлс.
– Да заткнись ты! – пихнул другой его в плечо. – Не видишь, как она одета? Она не из этих, толстоногих!
Все дружно воззрились на ноги Арнэйд в длинных вязаных чулках, и она безотчетно одернула задравшийся подол. Она уже десять лет жила в Мерямаа, но носила те же платья, что и ее мать, – длинные, как шьют в Северных Странах, а не по колено, как у меренских женщин.
– Я ее знаю, – сказал тот ёлс, что казался знакомым. – Если это не хюльдры меня морочат. Арнэйд! Если это ты, скажи что-нибудь!
– Т-ты кто? – выдавила наконец Арнэйд из пересохшего горла.
Нельзя было дальше молчать, раз уж ёлс так упорно обращается к ней по имени. А обретя голос, она подняла дрожащую руку, вцепилась в «молоточек Тора» из серебра, висевший в ожерелье из мелких синих бусин у нее на шее, и добавила:
– Именем Тора, отныне я сама по себе!
Этому заклинанию ее тоже научила мать: если сказать эти слова, любая нечисть отвяжется, больше не сможет идти с тобой одной дорогой.
– Это не хюльдра, раз поминает Тора! – воскликнул один ёлс, казавшийся помоложе других (хотя кто их разберет).
– Она говорит по-нашему! – изумленно промолвил еще кто-то, и Арнэйд удивилась: разве она говорит на языке ёлсов?
– Ты меня не узнаешь? – Самый первый ёлс опять слегка потряс ее. – Мы же виделись. Много раз. Два лета назад… или три, шайтан его знает… Я бывал у вас в Силверволле. Как ты сюда-то попала?
– К-куда – сюда? – Арнэйд сглотнула. – Я в-в-в… Ётунхе… в-в Утгарде?
– В Утгарде, ясен пень, – снисходительно, почти ласково, как ребенку, ответил ёлс. – Где ж еще, ётунов брод! Мы уж месяца два или три через Утгард бредем, не знаю, будет ли ему конец когда. Ты как сюда провалилась?
– Если она оттуда, может, знает обратную дорогу? – оживился еще один ёлс, с рыжей бородой и темными волосами.
– О, девушка! – Еще один ёлс бросился перед ней на колени и подполз ближе. – Молим тебя всеми богами Асгарда: покажи нам ту дырку, через какую тебя сюда засосало! Уж мы постараемся вылезти обратно и тебя с собой протащим, клянусь! Сам тебя на спину посажу, только укажи дорогу!
– Отвали, Хольви, эта девушка моя! – Первый ёлс оттолкнул его. – Я сам ее понесу, если надо. Арнэйд! – Он снова взглянул ей в лицо. – Не бойся! Снишься ты мне или как, но только скажи – где мы сейчас? Это же я. Свенельд сын Альмунда. Неужели не помнишь? Я бывал у вас, отец твой меня знает, твои братья с нами… Эй! – Что-то сообразив, он обернулся к своим: – Дренги! Живо Арни и Виги найдите, или хоть одного кого, тащите сюда! Это их сестра!
Глаза Арнэйд расширились. Услышав имя, она ясно вспомнила это лицо. Она узнала бы его и раньше, если бы не жила уже два года в твердом убеждении, что этот человек находится где-то очень-очень далеко, за Хазарским морем, куда ушло собранное Олавом-конунгом войско. И если бы он вернулся, то совсем не так…
И братья… Они здесь, с этими ёлсами?
Они живы?
В ушах вскипел шум, в глазах потемнело… Арнэйд успела ощутить, как ударилась затылком о землю позади себя, и откуда-то очень издалека долетел глухой досадливый крик:
– Ётуна мать…
Очнулась Арнэйд от того, что по лицу текла вода. Вода заливалась в нос и скользила холодными пальцами по шее, рассылая мурашки по всему телу. Испугавшись, что захлебнется, Арнэйд дернулась и попыталась сесть. Кто-то поддержал ее, прислонил к чему-то крепкому и теплому. С трудом подняв дрожащие руки, она вытерла лицо, убрала от глаз волосы, поморгала. Повернула голову – и снова встретила пристальный взгляд знакомых глаз цвета запыленного желудя, которые на смуглом лице казались светлыми, серовато-зелеными.
Она все еще была на берегу того ручья, а вокруг сидели и стояли разодетые в потрепанные шелка ёлсы и таращились на нее. В целиковых шелковых кафтанах сидели прямо на земле и влажных листьях… понятно, отчего у драгоценных одежд такой вид. Но теперь, как будто недолгое беспамятство прояснило мысли, Арнэйд отчетливо понимала: возле нее сидит и приобнимает ее Свенельд сын Альмунда, из Хольмгарда, тот, что почти каждую зиму бывал у них в Силверволле с дружиной, собирающей дань с Мерямаа. Тот, что два лета назад ушел с войском на Хазарское море…
Ну, или ёлс, очень похожий на него.
– Св… Свенельд… – хрипло, но четко произнесла она.
Бояться больше не было сил: Арнэйд подняла испачканную в песке руку и коснулась его щеки.
Гром не грянул, ёлс не вспыхнул пламенем, не распахнул зубастую пасть, чтобы откусить ей голову, не провалился сквозь землю, увлекая ее за собой. Ничего не случилось. Она потрогала еще раз. По ощущениям, обычное человеческое лицо: шероховатая мужская кожа, борода. Глаза были те самые, какие она когда-то хорошо знала. Этот ёлс был точь-в-точь Свенельд, кто бы их различил? Только взгляд у него был странный – пристальный и сосредоточенный, а вид дикий.
– Я не верю, что это ты, – призналась Арнэйд. – Попробуй прикоснуться вот к этому.
Она приподняла свое ожерелье – короткую нить мелких синих бус с привешенным «молоточком Тора». Ради этого молоточка она и надевала ожерелье, когда ходила в лес – здесь нужна защита.
Ёлс сосредоточил взгляд на «торсхаммере», потом медленно поднял руку и неуверенно коснулся его кончиками пальцев. Глянув еще раз ему на грудь, Арнэйд заметила, что среди двух-трех десятков драгоценных перстней что-то чернеет. Это были «торсхаммеры», привычного ей вида, какие носили почти все мужчины из свеев и руси, такие же, как у нее, только из железа.
Но ёлс не может носить знаки Тора. Он украл их, как украл сам облик человека? Они ненастоящие? Арнэйд тоже протянула руку и коснулась этих черных железных молоточков, сжала в пальцах, ожидая, что сейчас они хрустнут и рассыплются, как сделанные из угля.
Ёлс не мешал ей, но замер, будто она подносила к его горлу нож. Тоже ждал, чем все кончится. Его собратья молчали и не шевелились, наблюдая за ними. Но молоточки были настоящие.
– Так вы что… живые? – неуверенно спросила Арнэйд. – Настоящие… люди?
– А, дренги? – Ёлс с лицом Свенельда глянул на своих: – Мы живые? Как-то сами сомневаемся, – с непонятным чувством сообщил он Арнэйд.
– Я – да! – хмыкнул один, стоявший со скрещенными на груди руками. – Докажу!
– Поди прочь. Арнэйд! – Ёлс с лицом Свенельда опять взглянул на нее. – Где мы? И почему здесь ты? Ты же жила в Силверволле. Или тебя… сюда замуж выдали? – Тут ёлс взглянул на ее растрепанную косу, вывалянную в земле и лесном соре, но выдававшую, что перед ним девушка незамужняя.
– Я и живу в Силверволле.
Не было смысла таиться, раз он это знал.
– Да где ж тот Силверволл! – Ёлс взмахнул рукой, будто хотел указать куда-то за два-три мира отсюда.
– Т-там. – Осмотревшись и взглянув на солнце, Арнэйд сообразила, где находится, и показала на запад. – Где всегда был, там и сейчас.
– Но отсюда это… далеко же?
– Как – далеко? И роздыха[3] не будет. Мы всегда здесь грибы собираем…
Вспомнив о грибах, Арнэйд вспомнила о лукошке и о брошенных где-то там двух младших сестрах. В груди оборвалось: если она их совсем потеряет, Ошалче съест ее живьем, похуже любого ёлса.
– Так мы чего, – ёлс недоверчиво нахмурился, – до Бьюрланда дошли?
– Ну да. А вы не знаете, где вы? Вы сами-то откуда взялись? – почти закричала Арнэйд. Она достаточно пришла в себя, чтобы начать соображать, что такое видят ее глаза. – Вы… Если ты – Свенельд сын Альмунда, то ты ушел на Хазарское море! Два лета назад! Откуда ты здесь взялся, кереметлык[4]! С неба упал?
– Нет, повтори, – настойчиво попросил ёлс. – Мы… в Бьюрланде? Около Силверволла?
– Да, я тебе что говорю! А вы думали где? В Миклагарде? На луне?
– А мы… – Ёлс снова взглянул на своих товарищей. – Дренги… – вдруг осипшим голосом добавил он. – Мы… дошли.
Еще несколько мгновений стояла тишина. А потом ёлсы дружно заорали так, что Арнэйд зажала уши руками и склонилась к коленям, ожидая, что небо сейчас расколется и рухнет. Но ее силой разогнули, оторвали руки от лица… и в довершение всех чудес Арнэйд осознала, что ёлс впивается в ее губы неистовым поцелуем, словно пытается якорем закрепить потрепанную лодью у долгожданного берега.
Добрые норны свели Арнэйд в лесу с «ёлсами», то есть со Свенельдом сыном Альмунда и его ближней дружиной (хотя Арнэйд едва ли с этим согласилась бы, вспоминая свой испуг и дикий бег по лесу). Свенельд возглавлял небольшой передовой отряд, а за ним, как скоро выяснилось, шло целое войско из двух с лишним тысяч человек, более сотни лодий.
От новостей голова шла кругом. Арнэйд едва сообразила, где искать маленьких сестер; те, напуганные, так хорошо спрятались в густом кусте под елью, что пятеро опытных воинов и почти охрипшая от призывов Арнэйд насилу сумели их найти. После этого она повела сестер и ёлсов домой, в Силверволл. По пути они так спешили увидеть знакомые места и своих сородичей-русов, что девочки не поспевали за ними, и двое ёлсов взяли их на закорки. Несколько человек Свенельд послал назад по реке, к войску, с радостной вестью, что они наконец достигли владений Олава-конунга.
– Как там Олав? – расспрашивал Свенельд по пути. – Хольмгард на месте? Знаете что-нибудь о них? О моих?
При мысли об этом его лицо впервые оживилось. Его не было дома три лета и две зимы, но чувствовал он себя как тот человек из сказаний, что провел в зачарованном краю целых сто лет.
– Мы мало что знаем о Хольмгарде. – Арнэйд качнула головой. – К нам один раз приезжал твой отец и один раз Вальдрад. Ничего особенного там не случилось, он не говорил. Он так вырос, едва узнать! Стал с тебя ростом… почти. – Она еще раз окинула своего спутника потрясенным взглядом. – Рассказал, что у них с Илетай родился ребенок, и они решили, что ему уже можно показаться на глаза Юмо… то есть Тойсару.
– И как?
– Слышно, они встретились мирно.
– Хорошо. – Свенельд улыбнулся краем рта. – Но уж та тетка едва ли нам так легко простит…
– Какая тетка?
– Жена Тойсарова. Такая, вся в звенелках бронзовых. – Свен усмехнулся, вспомнив, как поражал его в то время нарядный убор меренских знатных жен.
– Кастан? Она умерла тем летом.
– Ого! – Свенельд как будто удивился, что здесь тоже кто-то умирает. – И что, он женился снова?
– Пока еще нет. У нас не очень-то ждут, что он снова женится, – у него уже внуки.
От волнения у Арнэйд так сильно билось сердце, что было тяжело дышать. Не верилось, что эта встреча – наяву. Не зря мать говорила, что здесь самый край Мидгарда, а дальше только Утгард – так оно и есть. На восток отсюда дорог нет. Известно было, что там живут какие-то племена схожего с мерен языка – ближе всего чермису и мурамар, – с ними даже велась кое-какая торговля, с той стороны привозили соболей и самых дорогих лис, черных и белых, но через те края можно было добраться лишь до Ётунхейма – ледяной страны, где даже трава не растет. Путь к сарацинскому серебру лежит через Хольмгард; собранное войско ушло на запад, с запада и ждали тех, кому суждено вернуться. А они пришли с востока! Как будто весь мир взял и перевернулся из стороны в сторону! От этого делалось жутко: что, если теперь везде так? Пойдешь направо – окажешься слева, спустишься в овраг – окажешься на горе, выйдешь в поле – очутишься на середине реки… А солнце где завтра встанет – на севере? И встанет ли вообще…
Может, вот так и приходит Затмение Богов?
– Я на берегу людей оставил, – первое, что сказал Свенельд изумленному Дагу, отцу Арнэйд, когда она привела его в дом. – Завернут, если что.
– Если что? – в недоумении повторила Арнэйд.
– Эти люди за два года слишком привыкли грабить! – с беспокойством пояснила ей Ошалче.
– Наши не тронут, но псковские и все варяги еще не дома, – подтвердил ее догадку Свенельд. – Пусть парни по очереди хоть первое время постерегут, пока до всех дойдет.
– А вы надолго здесь? – Ошалче вовсе не радовалась мысли, что в их мирном, тихом краю появились две с половиной тысячи чужих вооруженных мужчин, привыкших жить на войне.
– Надолго не стоит, мы вас съедим. Надо в Хольмгард гонца послать, к Олаву.
– Гонца сейчас отправлю. Но как вы сюда попали? – Даг наконец опомнился настолько, что обрел дар речи. – Вы пришли по Меренской реке с востока – как вы попали на восток?
Кажется, впервые в жизни Арнэйд видела своего разговорчивого, шумного отца онемевшим от изумления. Даже когда той зимой, когда Свенельд с дружиной был здесь в последний раз, когда к ним в Силверволл явился Толмак с дружиной молодых мерен и стал искать здесь Илетай, свою сестру, похищенную какими-то русами – это было самое поразительное происшествие за всю жизнь Арнэйд, – он удивился намного меньше. Сам ведь объяснял Свенельду, как важно, чтобы пан Тойсар выдал свою дочь за русина, и тогда мерен согласятся собрать войско для похода на сарацин…
Но нынешнее событие так легко понять и объяснить было нельзя. Глядя на отца, Арнэйд подумала: если бы у него на глазах люди взлетели в воздух и стали там кружить как птицы, он наблюдал бы за этим примерно с таким же лицом.
– Мы прошли сперва вверх по Итилю, сколько смогли, – пояснил им Свенельд. – Потом перешли на другую реку, Волгыдо, ее приток. И по ней поднялись сюда.
– Волгыдо?
– Так ее называют чермису, они там живут.
– Наши мерен ее называют Валга! – сообразила Арнэйд.
– Валга течет в такую даль? – не поверил Даг. – И впадает в Итиль?
– Я не знаю, сколько дней мы шли, но где-то с месяц. На Валге и Итиле вместе мы три полнолуния видели точно, пока шли.
– Три месяца? – Арнэйд не верила своим ушам. – По двум рекам?
– Эти реки одна за другой текут отсюда и до самого Хазарского моря. Мы раньше на Итиль выходили после переволоки от Ванаквисля, в нижнем течении, но никто не знал, что есть путь по воде до самых этих краев. Мы знали, что выше от хазарских земель живут булгары, и надеялись, что они знают дорогу на запад. Они и правда знали про чермису, это их данники, а у тех язык оказался похож на меренский. Туда мы и правили. Другого пути для нас все равно не было. И вот встретили… вас.
Даг и Арнэйд переглянулись, будто спрашивая друг друга: ты слышишь то же, что и я? – и в один голос воскликнули:
– Поверить не могу!
Но никто не засмеялся.
– Это правда, – подтвердил рыжебородый; когда он назвал свое имя – Тьяльвар, – Арнэйд вспомнила, что и он бывал среди сборщиков дани, приходивших к ним из Хольмгарда в прежние годы. Тогда его темно-русые волосы были длинными и двумя гладкими волнами лежали на груди, а теперь он был острижен коротко, как и остальные, рыжая борода отросла и свалялась. – Мы шли, если от Итиля брать, чуть не целое лето. Когда мы к Итилю подошли, в нем еще высокая вода стояла и перелетных птиц была прорва, а здесь уже поля сжаты и гуси назад на юг летят.
Тем временем Ошалче опомнилась от изумления и попыталась встретить гостей как полагается. Заторопилась: эти люди, от которых веяло привычкой к насилию, внушали ей ужас, как настоящие ёлсы, но если они примут из ее рук пиво и хлеб, то уже не смогут причинить зла.
– Кто у вас старший? – спросил Даг, оглядывая гостей.
Он испытывал то же чувство, что и его дочь: лица были вроде знакомые, но казалось, что обладатели их стали другими людьми.
– Я и Годо, – ответил Свенельд.
– Нет, во всем вашем войске. Может, стоит подождать…
– Во всем войске нет старше меня и Годо! И если его ждать, мы тут от жажды умрем, да, дренги?
– А где же Боргар Черный Лис? – Арнэйд слегка улыбнулась, вспомнив краснолицего хёвдинга, который в ту последнюю зиму все к ней присватывался.
– В Табаристане от мушмушевки помер.
– От чего? – Арнэйд раскрыла глаза. – Это болезнь такая?
– Нет, это брага такая. У них там овощ растет, мушмуш[5], вроде яблок, только помягче и послаще… Мы два года пива настоящего не видели. – Свен сам взял ковш из рук Ошалче, не дождавшись приветственного слова. – Аварцы в Тавьяке хоть вино делают как у греков, а где сарацины живут – там ничего не достать. Брагу делали из чего попало, чуть не из дерьма верблюжьего…
Не договорив, он припал к ковшу и враз выпил все до дна – так и полагалось по обычаю, но едва ли кто когда делал это с такой жадностью. Допив, Свен перевернул ковш вверх дном, сглотнул и скривился, переводя дыхание, – отвык от вкуса обычного ржаного пива. Глаза его покраснели и увлажнились, он заморгал, будто вот-вот потекут слезы.
И весь он как будто оттаял; даже Арнэйд, глядя на него, ощутила облегчение.
– А там жара, – продолжал Свенельд, вернув ковш Ошалче, – мухи, пыль… Он занемог от этой мушмушевки, два дня лежал, лицом посинел весь… Потом начал орать что-то дикое… Тошнило его какой-то грязью… мы ему уж меч в руку дали, чтобы «соломенной смертью» не помер, а он вдруг вскочил и на людей бросился, чуть не зарубил одного… он все равно потом под Итилем сгинул. Мы его схватили, Боргара, а он вдруг обмяк и на руках у нас повис. Положили его на пол, видим, помер… Это давно было… – Свен нахмурился и почесал щеку, – тем летом еще, первым. Потом мы меж собой хёвдингом выбрали Хродрика, родича моего. Вы его не знали, он был из Хедебю. Он и знатнее всех у нас был, кроме нас с Годо, но постарше и поопытнее. Да его потом в битве на море ранило, а от раны лихорадка, ну и…
– У вас была битва на море? – удивился Даг. – На каком?
По лицу его было видно, что все привычные представления об устройстве мира, сложившиеся за сорок с лишним лет жизни, этот день перевернул и перемешал.
– Да на Хазарском же. Это море как море, берегов не видно. С ширван-шахом. Мы там на островах обосновались, оттуда по разным сторонам ходили, а он войско собрал и на нас хотел напасть. Вышли на него свеи и даны, они у нас одни умели на воде сражаться. Их меньше было, чем хасанов, но размололи их, просто в пыль. Корабли очистили, людей тыщу или больше потопили. У самих потери были небольшие, но Хродрику стрелой в бедро попало… Его сам этот лечил, как его, Ётунов лекарь…
– Хавлот, – подсказал плотный парень с рыжими волосами и бронзовым от загара лицом.
– И то сказал: двергов из ран выгонять меня дед научил, но против здешних шайтанов нет у меня сильных слов… Ну а потом… люди собрались и нас с Годо выбрали старшими.
Пока Свен говорил, Ошалче, дикими глазами поглядывая на него, подносила ковши пива его спутникам, и с ними происходила та же волшебная перемена: глаза увлажнялись, лица оттаивали. Наблюдая за ними, Арнэйд понимала: привычный мерен обряд встречи гостей – со времен появления в доме Ошалче она всегда сетовала на его длительность и однообразие – обрел свой изначальный смысл. Принимая пиво из рук хозяйки дома, пришельцы сбрасывали с себя дух иного мира, того, что за гранью освоенного, и возвращались в число живых людей. Глядя, как один за другим они жадно выпивают свою долю, переворачивают ковш, жмурясь от слез, и переводят дух, Арнэйд и сама чувствовала, как отпускает ее потрясение, сменяясь, однако, все растущим изумлением. Чем яснее она осознавала, что все это происходит на самом деле, тем изумление ее делалось не меньше, а больше.
Вслед за Ошалче к каждому гостю подходил Даг и подавал лепешку с сыром; полагалось откусывать от этого один раз и класть на стол, но те жадно съедали все до крошки.
– И хлеба человеческого два года не видели… – с набитым ртом прояснил Хольви, видя изумленный взгляд Арнэйд. – Разве у хасанов хлеб?
– Вы вернулись… – начал Даг, но сам сообразил, что из такого похода все вернуться никак не могут. – Сколько вас вернулось?
– После Итиля уцелела половина где-то. От наших, что под стягом Олава шли, две с половиной тысячи, они все со мной. А эти, Ётуновы, – Свен помрачнел, – не знаю, но похоже на то, они все к ётунам пошли…
– Но где же Арнор и Виги? – неуверенно спросила Арнэйд, не понимая, о каких ётунах он толкует. – Ты мне сказал, что они… живы?
– Ваши двое живы. – Свен слегка просветлел лицом, сам довольный, что может сообщить добрую весть. – Виги тем еще летом так животом однажды маялся, мы думали, помрет, ан нет. Человек сорок тогда померло. От воды дурной, что ли…
– Там не вода, а моча шайтанов, – буркнул рыжий Логи; Свенельд сказал, что он родом тоже из Мерямаа, из ловцов-русов Арки-варежа.
– Где они, сыновья мои? – с волнением спросил Даг.
– Скоро подойдут со всеми вашими. – Свен взглянул на Ошалче. – Они с мерен идут вместе. Тем больше всех повезло было – они с Итиля целые ушли, не попали в избоище, но их на пути по Итилю в дозор все время ставили, вот там они людей теряли, бывало… Пока через буртасов шли, ни одной ночи у нас не бывало спокойной. Даже и свата нашего, Тумая, однажды положили, с тех пор Талай, шурин брата моего, у них старший. Но сотни две их уцелело. Сейчас гонцы до них доберутся, они и явятся.
– А наши, из Бьюрланда?
– А ваших сколько было?
– Почти шесть десятков, если русов и мерен считать.
– Я так помню… десятка три при них есть. Они сами скажут.
У Дага и Арнэйд вытянулись лица. Все понимали заранее, что поход не обойдется без потерь, но если возвращается половина…
– Половина! – в ужасе воскликнула Ошалче. – О Юмалан Ава! Верно сказала ава Кастан – Юмо не даст вам счастья! Она предрекала! И Тойсар предрекал! Юмо предупреждал его: сынов мере не ждут счастье и удача! А все из-за этой…
– Да брось ты! – Свен махнул рукой, и Ошалче умолкла. Не бывает так, чтобы гость перебил хозяйку возле ее собственного очага, но в повадках Свенельда сквозила такая уверенность, будто не то что обычаи – сами боги ему не указ. – Счастье и удача мои со мной и людьми нашими. Мы ж добычу свою всю привезли.
– Добычу? – Даг воззрился на него, только сейчас вспомнив, ради какой цели Олав из Хольмгарда созывал людей под ратные стяги.
– Ну да. Наше почти все у нас в лодьях. И твои дренги свое привезли. Ётуновы у нас хотели оттягать кое-что, но мы ж не такие раззявы… мы потому с ним и разошлись… Булгарам отдали кое-что, без этого было никак, и чермису еще потом, Байгуловым сватам… Но это очень долго рассказывать, – закончил Свен, глядя в изумленные лица хозяев. – Тяжелый был поход, что и говорить. Но уж неудачным его не назовешь.
В длинных сенях, углом подходивших к дому, уже слышались шум и голоса: жители Силверволла, прослышав о важных новостях, спешили узнать, что случилось…
Новости будто ветром разнеслись по всему Силверволлу – селению, где больше ста лет назад обосновались первые торговцы-русины. Даг вел свой род от самого первого здешнего жителя-рутси, которого звали Бьёрн; он появился здесь задолго до того, как Тородд-конунг подчинил себе и обложил данью Мерямаа, даже до того, как род Тородда сам переселился из Ладоги в Хольмгард. Про этого Бьёрна рассказывали разное: от своего деда, Арнбьёрна, Арнэйд слышала, что Бьёрн Старый однажды схватился с огромным медведем, которого на него наслали колдуны мере, пытаясь выжить чужака, и одолел его. Но было и другое сказание, его Арнэйд слышала от соседей-мерен: что Бьёрн Старый сам был оборотнем и по ночам превращался в медведя. В зверином обличии он нападал на своих врагов и вытеснил из округи всех, кто с ним не дружил. Еще рассказывали, что у Бьёрна была дочь, Бирна, и что однажды Бьёрн привел домой настоящего медведя, который желал к ней посвататься… Арнэйд не знала, чему следует верить, но в роду жило стойкое убеждение, что среди предков имелись медведи. На медведей потомки Бьёрна не охотились и никогда не ели медвежьего мяса, однако и Даг, и дед, которого Арнэйд помнила, отличались высоким ростом и силой.
Как глава старейшего рода на этой земле, Даг пользовался наибольшим уважением среди меренских русов и считался их вождем; ему доверяли приносить общие жертвы, он возглавлял судебные советы и говорил от имени здешних жителей с мерен и с людьми из Хольмгарда. Мерен называли селение Тумер – Дубрава, но у русов оно звалось Силверволл – Серебряные Поля, в честь огромного клада серебра, зарытого где-то здесь самим Тороддом-конунгом. За сто лет селение разрослось и теперь было весьма крупным, уступая разве что Арки-варежу – княжескому городу Мерямаа в двух переходах отсюда, на озере Неро. Поблизости лежали еще два поселения русов, поменьше, а все вместе составляло округу Бьюрланд – Страну Бобров.
Со времен старого конунга Тородда здешние края не видали такого огромного войска. Хорошо, что Арнэйд привела к отцу Свенельда, рассказавшего, что это свои, – иначе русы и мерен толпой побежали бы в леса, едва насчитали бы на Меренской реке больше десяти лодий, полных загорелыми вооруженными людьми в непривычной одежде и самого свирепого вида…
В Силверволл всему войску входить было незачем – две с половиной тысячи человек не поместились бы ни в нем, ни в двух других селениях русинов, ни даже в окрестных меренских болах. Подтянувшись поближе, войско встало длинным станом вдоль реки, по которой пришло. Дружины заняли все удобные для причаливания места и луговины. Вскоре над рекой поднялись дымы костров – будто весной, когда начинается пал перед посевом. Ставили шатры и шалаши, натягивали паруса над лодьями, превращая их в место для ночлега. Так ночевали уже сотни раз за последние два года, но теперь было другое дело: люди знали, что они уже почти дома. В Среднем мире, откуда к их очагам ведут известные и безопасные дороги.
Из всего огромного войска Арнор, Вигнир и другие, составлявшие дружину Бьюрланда, достигли родного дома первыми. Два года назад Арнор увел отсюда пятьдесят шесть отроков – три десятка русов, остальные из близко живущих мерен, – назад возвратились тридцать два. Самих русов уцелело еще меньше – всего тринадцать человек, считая сыновей Дага.
– Это еще ничего, – тихо сказал Виги сестре, видя, как у нее вытянулось лицо при этом известии. – У других похуже. Древляне все полегли, у Халльтора, это свеи, одиннадцать человек от сотни осталось. Но они из самых сильных были – они прикрывали…
– Что прикрывали? Где?
– Потом… – Виги не хотел сейчас рассказывать слишком много и отводил глаза.
– Кто был понадежнее, те сильнее и пострадали, – добавил Арнор.
Арнор и Вигнир сидели за столом в отчем доме, для остальных накрыли стол в погосте – большом доме в Силверволле, поблизости от Дагова двора, где каждую зиму останавливались сборщики дани. К счастью, жатва уже закончилась и урожай выдался неплохой, так что Даг смог быстро раздобыть зерна и муки для лепешек и блинов. Ошалче замешивала тесто из смеси ржаной и пшеничной муки, Арнэйд и Пайгалче, служанка, пекли блины сразу на трех сковородах и едва успевали снять несколько и выложить на деревянное блюдо, как гости хватали их горячими, рвали друг у друга из рук и мгновенно съедали, обжигаясь. Мужчины стосковались по простой домашней пище, привычной с детства. Хлеба почти не видели много месяцев, а о печеной репе, квашеной капусте, соленых грибах мечтали так же пылко, как два года назад – о серебряных шелягах. В последнее время овощей или мяса удавалось раздобыть редко. Завидев на реке огромное войско, чермису, мокша, мурамар бежали в леса, угоняя скот; бывало, что дружины заглядывали в опустевшие селения и выбирали с огородов зреющую морковь, лук, бобы, выносили все из съестных припасов, что удавалось найти. Ничего другого не искали – русов, обремененных добычей с монетных дворов Арана и стоянок на Великом Шелковом пути, не привлекали грубая тканина и простая утварь лесных жителей, но после такого набега в прибрежных селениях не удалось бы найти ни цыпленка.
Постепенно в Силверволл собирались вожди разношерстых дружин, составлявших войско. Вслед за Свенельдом прибыл его старший брат Годред, с ним Талай – сын меренского князя Тойсара, их сородичи Умай, Пеплай и Ендуш со своими отроками. Этим до дома оставалось еще один-два перехода, но они уже ступили на родную землю. Со всей Мерямаа в войско Олава собралось более трех сотен человек, возглавляемых семью знатными людьми, но из старейшин вернулись только четверо. Арнэйд приходила в ужас, видя, как сильно поредели дружины, и предвидя множество еще худших неприятностей. Погиб сам меренский воевода Тумай – младший брат пана Тойсара. Теперь их, русов, будут винить в гибели братьев и сыновей; будут вспоминать пророчества, сулившие этому походу неудачу, и проклинать тех, кто заставил мерен пренебречь ими.
– Ничего не бойся! – уверенно сказал ей Годред. – Неудачный поход – это когда нет добычи и смерти оказываются напрасны. А мы привезли добычу! Все ётуны Ётунхейма пытались нам помешать – хасаны, хазары, буртасы, булгары, чермису, мурамар! Каждый пытался урвать кусок от того, что мы оплатили нашей кровью! Но мы привезли достаточно, чтобы никто не посмел обвинить нас. Сама увидишь.
Подходили и другие, кого Арнэйд не знала. Свенельд или Годред называли ей их имена – Родмар, Видемир, Иногость, Фаральд, Сдеслав, – а она или Ошалче подносили приветственный рог. Данов и свеев она не различала между собой, но речь их звучала иначе, нежели у русов, родившихся по эту сторону Варяжского моря. Были и славяне, которых она совсем не понимала. Будь жива мать, она смогла бы с ними поговорить… Все эти разноплеменные воины и сейчас отличались друг от друга, но общего у них за время похода стало куда больше. Одежда, подобранная по правилу «все самое дорогое на себя». Одинаково короткие волосы – обритые в жарких краях и отросшие за время дороги домой. Свежие шрамы. Запах земли, реки, леса. Глаза, спокойные и сосредоточенные, ничему не способные удивиться, глаза пожилых мудрецов на лицах восемнадцати-двадцатилетних отроков, которые из-за этих глаз почти утрачивали возраст. У одних лица были хмурые, у других – веселые, у третьих – удивленные, но эта сосредоточенность во взгляде роднила их. Между собой они объяснялись на немыслимой смеси славянских, северных, меренских и чудских слов, часто упоминали каких-то «хасанов» – Арнэйд сначала думала, это тоже какая-то нечисть, но потом поняла, что так они на своем дружинном языке обозначают сарацин.
– Ты не бойся, мы за все заплатим, – сказал Дагу Свенельд, непонятно усмехаясь – чуть горестно, чуть горделиво. – За все заплатим! – Он помотал опущенной головой. – У нас серебра теперь что дерьма в яме. И шелков. Из любой ками́сы или джу́ббы на девку, – он глянул на Арнэйд, – три сорочки сшить можно, у них одни рукава шириной в нее всю. Хочешь, кольчугу тебе подарю? У хасанов ётун какие хорошие кольчуги оказались, у меня их три теперь.
– Прибереги… – Даг немного ошалел от такой щедрости и даже встревожился, в своем ли гость уме. – Тебе еще конунгу дары подносить…
– У него свое будет – по трети от добычи каждой дружины! Олав так разбогатеет, что ему и Хельги Хитрый с его греческой данью позавидует. Нам по пути торговать было почти не с кем, мы и одичали малость на одной рыбе. Буртасы и чермису вообще разговаривать не хотели – то ловцов наших в лесу обстреляют, то на стан нападут ночью, какой с краю. Но мы-то так легко не дадимся… особенно после Итиля мы уж стали пуганые… – Он опять помрачнел и стиснул зубы. – А ты, Даг, купи нам сейчас хлеба, скота, пива сколько сможешь, мы серебром расплатимся и платьем. Собери, ты знаешь, у кого из ваших что есть.
Арнэйд смотрела на братьев, сидящих за столом в отцовском доме, и с трудом узнавала их. Они еще не побывали в бане, и от них крепко несло лесным костром, рекой, землей. Люди, хоть и живут в дыму очагов, так не пахнут. Наверное, так пахнут ёлсы. А еще чем-то затхлым; как сказал ей Арнор, это от парусов, которые «воняют дохлыми ослами», когда приходится спать в лодье, натянув влажный парус вместо кровли. Раньше у обоих были полудлинные волосы, как носят русы, почти до плеч, но теперь их головы были коротко острижены. «Да мы же с весны бани не видели, – шепнул ей Виги. – В реке мылись. Боялись, вшей наберем. Хорошо еще, под шелком вша не живет», – и показал на шелковый кафтан непривычного кроя, которых на нем тоже было надето два, один на другой.
– Почему вы так чудно одеты?
– Чтобы добычу не потерять. Старые сорочки у нас за первое лето все изодрались, на перевязки пошли. А после Итиля мы и решили: наденем у кого что получше на себя прямо, так хоть что сохраним, пока живы… Мало ли что опять…
Арнору было всего двадцать два года, а Виги не исполнилось и двадцати, но при взгляде на них не верилось, что они еще так молоды. За два года в жарких сарацинских краях они сильно загорели, волосы и брови их выгорели на солнце и стали светлее прежнего, кожа обветрилась. Но главное – глаза. Совсем другие у них стали глаза – сосредоточенные и безжалостные. Встречая изумленный взгляд сестры, Виги слегка улыбался, и в этой отчасти виноватой улыбке Арнэйд узнавала прежнего брата. Арнор же был замкнут и спокоен – он или не помнил прежнего себя, или не замечал разницы. Но Арнэйд замечала – это стали другие люди, и она больше не знала их. За эти два года они прожили целую жизнь, совершенно ей не известную и не похожую хоть на что-то из того, что было ей привычно. Те братья, которых она знала, из похода не вернулись, но полностью она этого еще не поняла. Она знала: возвращение ее братьев и прочих – большая радость, но радости не чувствовала. От гостей, даже от братьев, ощутимо веяло опасностью. И сами они выглядели скорее потрясенными, чем обрадованными. Даже разговаривая с ней, Свенельд и другие все время скользили взглядом по сторонам. Здесь они могли не бояться, что откуда-то вдруг полетят стрелы, но подобные привычки легко не отстают. Они, эти люди, потому и оказались в числе вернувшихся, что эти привычки в них держались прочно.
Во всем Силверволле было не протолкнуться. Уже двинулись в теплые края первые, небольшие гусиные стаи, и ловцы потянулись к речным косам и перекатам, к лесным болотам, где птицы отдыхают, но удивительные новости созвали их назад. Перед Даговым двором толпились русы и мерен, то и дело раздавались крики – отец, мать, брат или жена признавали своего в этой странной, незнакомой толпе. Женщины бежали сюда, обожженные внезапной надеждой увидеть сына или мужа – прямо в переднике, с руками в муке, оторванные от домашних дел. То одну, то другую уводили обратно под локти, стонущей и рыдающей. Странно звучали названия тех мест, где пали рожденные в Силверволле: Абасгун, Дейлем, Ширван, Гурган, Табаристан, аль-Баб, Аран, Патрав. Но чаще всего звучало слово «Итиль».
Отцы погибших и другие родичи-мужчины собирались кучками, с нахмуренными лицами и погасшими глазами. Потолковав меж собой, посылали кого-то к Дагу или шли вдвоем-втроем. Вопрос у всех был один: как теперь с долей добычи? Подойти к самим Свенельду или Годреду не решались: после возвращения те не только Арнэйд казались существами неведомыми и опасными. Они никому не угрожали, но с ними сюда проникло дыхание смерти, будто сами боги мертвых невидимо приехали на их плечах.
– Когда люди Олава звали наших дренгов в Серкланд, они обещали, что долю добычи получат даже погибшие, – говорили Дагу осиротевшие отцы. – Ты подтвердил нам это, когда мы заключали договор с твоим сыном Арнором…
Даг, обычно шумный и разговорчивый, сейчас как-то притих и на собственных сыновей смотрел с недоуменным уважением, как на людей, повидавших больше, чем он сам.
– Погибшие свою долю получат, – подтвердил Арнор, когда отец воззвал к нему. – Приходите завтра, будем делить добычу.
Речь шла о добыче Арноровой дружины – той полусотни отроков, которых он увел из Бьюрланда и из которых назад вернулось три десятка. Арнор и его люди уже перевезли на волокушах поклажу из четырех своих лодий, и эти тюки и мешки, явно тяжелые, позвякивающие, будоражили воображение и порождали чудесные слухи. Арнэйд знала, что в них: Арнор велел ей помыть привезенную посуду, запылившуюся в дороге. Она и помыла, налив воды в кадь для стирки. Не раз она роняла какое-нибудь блюдо или кувшин, оттирая с них брызги грязи: дрожали руки от мысли, что она смывает следы сарацинской земли, той самой, в которую зарыли так много рожденных в Бьюрланде.
В первую ночь в родных домах отрокам Арнора поспать не удалось: вместе с меренской дружиной Талая они несли дозор между Силверволлом и стоянками войска, оберегая покой селения. Слишком опасно было соседство тысяч мужчин, соскучившихся по хлебу, мясу, пиву и женщинам, за два года привыкших силой брать все, что захочется. Только вчера бывшие их товарищами уроженцы Мерямаа уже оказались в другом положении: они добрались до дома, и им приходилось оберегать его от тех, кто был здесь чужим. Обошлось без столкновений, но сон всего Силверволла и окрестностей был тревожным, мерен в своих близко расположенных болах тоже сторожили скот и припасы, готовые чуть что зажигать заготовленные костры и звать на помощь.
Утром, сразу как рассвело, часть войска двинулась дальше. Талай и его уцелевшие воины ушли по реке Огде на юг, к Арки-варежу, туда, где меж двух больших озер находилась основная область расселения мере. Часть отправилась на север, к своим очагам. Хотели уйти и другие. Многие причины толкали их вперед: прокормить столько народу на одном месте не могли ни жители, ни лес, ни река, да и самих воинов подгоняла мысль о том, что теперь, после трехмесячных странствий через угрожающую неизвестность, к родному дому лежит освоенный, почти безопасный путь. Даже псковские кривичи, те, кому до дому добираться было дальше всех, испытывали чувство возвращения из Нави в белый свет.
Арнэйд слышала, как спорили Свенельд и Годред: старший брат предлагал сразу же отправить и остальных дальше на запад, к Хольмгарду, но Свен возражал:
– Нам с тобой следует быть у Олава под рукой, когда все эти шайтаны пойдут через Хольмгард и когда им придется выделить Олаву его долю. Сам понимаешь, после всего никому не захочется отдавать треть добра, и пусть видят, что у конунга есть сила принудить любого держать слово! Объявим, что мы вместе уходили и вместе вернемся.
В погосте, самом большом доме Силверволла, отроки Арнора разложили привезенное: на столах, на скамьях-лежанках, даже на полу, на расстеленных шкурах. Всем желающим разрешили зайти посмотреть. Арнор, с невозмутимым лицом сидя у стола, наблюдал, как русы и мерен прохаживаются по дому и рты у них сами собой открываются от изумления. Мало кто видел подобные вещи, и уж верно никто из ныне живущих не видел столько сокровищ сразу.
Серебряные кувшины, высокие и узкогорлые, с чеканным узором на боках, доверху наполненные серебряными шелягами. Широкие блюда, тоже с чеканкой – барс терзает оленя, лев преследует зайца, два орла держат в клювах виноградные кисти, всадник поражает копьем льва… Серебряные шейные гривны. Целое ведро из серебра, наполненное поломанными украшениями. Серебряный светильник с четырьмя рожками для фитилей, с ручками в виде свернувшихся барсов, а на боках вычеканены олень, лань, косуля и конь… Кожаный мешок золотых динаров. Множество широких ярких одежд, сорочек, портов, кафтанов и накидок, с разнообразными узорами – полосами, разводами, с вытканными усатыми змеями, разными животными и птицами. Клинки самой лучшей стали, с черноватыми пятнами. Кольчуги, шлемы. В двух или трех мешках было множество перепутанных ожерелий из стекла, хрусталя, сердолика, аметиста. Арнор позволил сестре их рассмотреть; в каждое непременно была подвешена маленькая косточка или кусочек рога, а на нем вырезаны непонятные значки, похожие на полегшие травы.
– Сарацины баранам и козлам поклоняются, – пояснил ей Вигнир. – Поэтому кусочки их костей при себе носят, а на них имя своего бога пишут. «Бог, помоги Фатиме» или что-то вроде того.
– Бога козлов? – удивленно спросила Арнэйд.
– Нет, у них другой, его зовут Алла. Правда, Шайтан?
Из тех краев Виги привез пса, похожего на волчонка, который так и не вырос в настоящего волка, только уши у него стояли торчком, – подобрал его в каком-то разоренном селении еще первым летом и с тех пор возил с собой. Это было похоже на прежнего Виги, который, как показалось Арнэйд, эту свою добычу любил больше всякой другой, хотя в псах и в Мерямаа недостатка не имелось.
– Ты бы лучше невесту себе привез! – попыталась пошутить она, помня, сколько разговоров о будущих прекрасных полонянках ходило здесь до их отъезда.
– Нельзя было! – Не без сожаления Вигнир качнул головой. – Невест почти всех пришлось там оставить. Сколько девка весит, сколько места занимает… если выбирать, девку брать или серебро, то серебро ведь дороже выходит. У нас у всех только Грим-конунг взял в свою долю двух девок, но они… – Он осекся и прикусил губу. – Я нашим сказал, что в Шайтане весу-то не больше как в белке и что нам сторож пригодится. Так и вышло. – Оживившись, он заговорил быстрее, будто хотел увести мысли сестры от девок: – Один раз мы стояли, после Итиля, как раз после переволоки, и Шайтан залаял, стал бросаться в темноту, а оттуда вдруг стрелы полетели! Хорошо, не попали в него, а это буртасы оказались… Они крайнюю лодку с поклажей угнали – с того берега приплыли, понимаешь? Три каких-то ёлса влезли в лодку, и весла у них были, и давай грести через реку! Хорошо, Шайтан дозорным дал знать – начали стрелять, успели двух тех подстрелить, один в воду прыгнул – не знаю, уплыл, наверное, темно было. А мы за той лодкой! Ее рекой несет, в ней два трупа, и никого! Наши лодки все груженые, тяжелые! Мы за ней вплавь…
У него оказалось в запасе много таких рассказов, и у Арнэйд скоро голова уже шла кругом от невозможности во всем разобраться. Но сильнее – от непроходящего ощущения, что к ней вернулся совсем не тот брат, что уезжал, а такой, о котором она почти ничего не знает. В жизни этого нового брата уже были и «невесты», и сражения, и потери…
К дележу явились многие вожди дружин из стана у реки – посмотреть на то, что им и самим вскоре предстоит. На то, как начнут подводить итог походу, выделяя каждому его долю оплаченных кровью сокровищ и удачи. Когда все собрались – сами воины, их родичи и родичи погибших, – во двор к толпе вышли Свенельд и Годред.
– Повторяю для всех, чтобы все знали, – привычно начал Годред, и ясно было, что за эти годы он привык объяснять что-то толпе, где не все поймут с первого раза. – Уговор наш был таков: Олав-конунг получает треть всей добычи. Вождь дружины получает десять долей, как это водится. Вернувшиеся живыми и павшие получают одинаково. Всем ясно?
– А почему Олав-конунг получает так много – целую треть? – возмутился Эйд, один из тех, кто не дождался сына домой. – Я знаю, так было принято у ротс-карлов и в Свеаланде издавна, но это для тех конунгов, что сами идут с боевым щитом! Почему конунг, весь поход просидевший дома, как женщина, должен получать больше тех, кто отдал жизнь за эту добычу!
В толпе возник согласный ропот. Теперь, когда мысль о возможных потерях сменилась настоящими потерями, это условие показалось несправедливым. Арнэйд отметила, как прав был Свенельд: если даже в мирной округе Бьюрланд возникли споры, что же будет, когда в дело вступят закаленные двухлетним походом варяги!
– Эйд, такое условие было поставлено, – настойчиво напомнил Даг. – Все поклялись на кольце соблюдать его, и ты тоже. Теперь уже ничего нельзя изменить.
– Олав-конунг дал нам лодьи, припасы на дорогу, дал оружие и щиты тем, у кого их не было, – сказал Свенельд. – И к тому же он договорился со всеми теми владыками, через чьи земли нам нужно было пройти. Если бы не это, никакого похода не было бы вовсе. И добычи тоже.
– Что-то плохо он договорился! – поддержали Эйда соседи.
– Мы уже знаем, что случилось: хазары напали на вас, и мой Аки пал от их вероломства!
– Кто в этом виноват, как не Олав!
– Хазары предали нас! – рявкнул Годред; его лицо ожесточилось, в глазах вспыхнула такая ярость, что стоящие ближе отшатнулись. – Но в этом виноваты они сами, тот лживый пес, что сидит у них в царях, и тамошние итильские хасаны, эти сучьи дети, мужья дохлых овец! Они позволили нам пройти на море, на обратном пути они взяли у нас ту половину добычи, что им назначалась по договору, то есть признали его! А сами тут же нарушили слово! Да проклянут их все боги Асгарда и Хель! Но ты, как тебя там, – он вонзил в Эйда такой свирепый взор, что тот попятился, переменившись в лице и выпучив глаза, будто перед ним из кустов вдруг встал медведь, – не будешь вроде тех овцелюбов и не посмеешь нарушать уговор, иначе я с тобой разберусь так, как заслужили те итильские гниды!
Годред, старший сын Альмунда, и раньше мог устрашить любого своим видом – рослый, с длинными руками и ногами, с уверенными замашками. Но два года войны превратили его почти в чудовище: на лице его появилось несколько новых шрамов, неровно заросших, и казалось, будто его лицо в нескольких местах порвалось и его небрежно заштопали. Довольно свежие, они горели красным на смуглой коже. Такому человеку разве что камень посмеет встать поперек дороги. Холодный огонь его глаз обещал быструю и верную гибель, как блеск острейшего клинка. И даже те, на кого он сейчас не смотрел, беспокойно сглатывали, желая оказаться где-нибудь в другом месте.
Больше возражений не было, и приступили к дележу. Это оказалось очень долгое дело, и заняло оно весь день. Серебряные сосуды и шеляги – по-сарацински они назывались «дирхемы», – золотые динары, украшения, ткани и прочее требовалось оценить, разделить на три равноценные части, из которых одна шла в долю Олава. Потом Арнор выбрал несколько дорогих вещей – два кафтана, два кинжала в позолоченных, усыпанных самоцветами ножнах – и от имени своей дружины преподнес Годреду и Свенельду, которые уже больше года признавались вождями всего северного войска. Оставшееся поделили на шестьдесят шесть частей. Десять из них шли Арнору, а остальное распределялось между участниками похода – живыми и мертвыми. Этот дележ пришлось отложить на другие дни: шеляги, динары, бусы и мелкие украшения можно было поделить относительно легко, но более крупные вещи и ткани нужно было оценивать в долях, разменивать, резать… Получившие свое немедленно вступали в торг между собой, пытаясь обменять десять шелягов и кружку с чеканкой на вон то покрывало и браслет с самоцветами… Уже темнело, когда добычу снова унесли в клети и заперли, чтобы завтра покончить с делом.
Местные жители разошлись, в погосте опять накрыли стол для дружины Хольмгарда. Здесь были не все – только двести человек, уцелевшие при Годреде и Свенельде, и то большая часть из них устраивалась на ночь под открытым небом. На свое серебро они еще утром купили несколько баранов, сварили похлебку со свежей репой, горохом и солеными грибами, бок и печень зажарили, ножки начинили яйцами, легкое залили смесью молока с яйцами и луком и тоже зажарили. Пива, браги и меда пока было не так много: их нельзя изготовить за день, и Даг собрал по людям, у кого что было сварено для себя. Отроки Свенельда платили серебром так щедро, что эти дни обречены были войти в местные предания как время, когда серебро валилось с неба.
Держа в руках братину с пивом, Годред встал.
– Ну вот, братья. – Он обвел взглядом знакомые загорелые лица вдоль столов. – Мы уже почти вернулись. Мы знаем, чего нам это все стоило… взять добычу, выжить, дойти до дома… Мы всегда будем помнить товарищей наших, кому не так повезло, но каждый, кто был с нами, сейчас пирует у Одина и там поднимает чашу за нас, как мы – за них!
Своими длинными руками он вознес чашу чуть ли не к самой кровле, где собирался облаком дым очага, потом под дружный крик опустил и выпил. Братина поплыла по кругу – к Свенельду, потом к Тьяльвару, потом к Логи и другим.
В этот день Ошалче и Арнэйд напекли тыртышей из ячменной муки, с моченой брусникой. Целый день возились у себя в кудо, но зато, когда Арнэйд пошла вдоль стола, перед каждым из сидящих выкладывая колобок с ягодой, обожженные двухлетней войной мужчины обрадовались как дети. Кто-то из первых, получив тыртыш, взамен бросил в ее корзину шеляг – и дальше они посыпались дождем. Арнэйд едва не закричала – хватит, хватит! – видя, как корзина наполняется серебром, как шеляги липнут к ягодам. Добравшись до мест, где им уже не грозила гибель и потеря добычи, воины чувствовали себя бессмертными, счастливыми и к тому же богатыми, как боги. Арнэйд даже померещилось, что в их повеселевших лицах она вновь видит тех отроков, какими они когда-то были…
Когда Арнэйд дошла до верхнего края стола, где сидели плечом к плечу оба сына Альмунда, Свенельд встал ей навстречу.
– Когда я уходил отсюда, я обещал не забыть тебя и твою мачеху дарами, если мне будет что дарить, – сказал он. – Ты, Арнэйд, первая нас встретила, ты указала нам дорогу к людям, и эти пирожки твои для нас лучше, чем яблоки Идунн. Этого никаким серебром не оплатить, но хоть возьми на память… о том, как ты отворила нам дверь из Утгарда в Средний Мир.
Он протянул ей какой-то блестящий сверток, встряхнул его и развернул. Это оказалось большое покрывало из тонкого узорного шелка, с шелковой же вышивкой и кисточками из шелковых нитей по краям.
– Это от нас от всех, – добавил Свенельд, пока онемевшая Арнэйд разглядывала подарок.
Она не решалась к нему притронуться, и Свен сам набросил покрывало ей на плечи.
– А это от меня.
Он вынул из-за пазухи небольшой плоский коробок на цепочке, из серебра, с красными и голубыми самоцветами и тонким чеканным узором в виде головы барана с большими загнутыми рогами. Никогда такого не видевшая, Арнэйд в изумлении взяла вещь и повернулась к пламени очага. Внутри, как ей показалось, что-то перекатилось и негромко стукнуло.
– Что это?
– У хасанов это называется «хейкель». В них обереги носят, а ты можешь… ну, иголки держать. Или какой-нибудь тоже… корешок наговоренный.
– А ты бы и рад ей корешок подсунуть! – выкрикнул Хольви, и все засмеялись.
– Можно на шею повесить, удобно, – продолжал Свенельд, не слушая. – Давай покажу, как открывается.
Он взял у нее серебряный коробок, и Арнэйд снова услышала, как внутри что-то слегка громыхнуло.
– Там что-то есть?
– Может, косточка какая задержалась… О! – удивленно воскликнул Свен, приподняв тонкую серебряную крышечку. – Я не знал…
Арнэйд тоже заглянула. В коробке лежал перстень – довольно крупный, на мужскую руку, из серебра, с пламенно-рыжим полупрозрачным камнем. На камне виднелась тончайшая резьба, но узор был какой-то нескладный.
– Видно, сунул туда и забыл… – озадаченно пробормотал Свен.
– Да ты всегда сунешь и забудешь! – опять выкрикнул неугомонный Хольви.
– Ты не можешь дарить девушке перстней! – хмыкнул Годо, с небрежным любопытством за ними наблюдавший, так, будто уличил брата в попытке схитрить.
– Возьми назад. – Арнэйд смутилась.
Свен помедлил, потом закрыл коробок.
– Нет. – Он вложил подарок в руку Арнэйд. – Раз уж я тебе передал, то все теперь твое. Пусть будет тебе на память…
Арнэйд смущенно усмехнулась, вспоминая, как убегала от ёлсов в лесу. Да уж, этого она не забудет до самой смерти. Повертела подарок в руках, потом расправила цепочку и надела себе на шею.
Под радостный гомон товарищей Свен вдруг придвинулся к ней вплотную и взял за локоть.
– Если бы я мог, Арнэйд, – сказал он ей в самое ухо, так, чтобы никто другой не слышал, – я подарил бы тебе перстень… ну, по-настоящему. Но я… если там все благополучно… ну, ты знаешь. Я не могу.
Ничего не ответив и даже не взглянув на него больше, Арнэйд подхватила корзинку из-под тыртышей, где блестели на дне серебряные шеляги – будто чешуя исполинской волшебной рыбы, – и поспешила прочь из дома. Казалось, по ее лицу все мужчины за столами поймут, что Свенельд ей сказал и что она об этом думает.
Даже вернувшись из дальних стран со славой и добычей, он не может подарить ей перстень, как дарят при обручении. Он ведь женат – еще с той последней зимы перед походом. От быстрого шага Арнэйд тот перстень подпрыгивал и перекатывался в серебряном коробке, и казалось, это прыгает и гремит само ее сердце. В ушах звучало это «я не могу…», а за ним приходило полное сожаления «если бы я мог…», а боль и радость перебивали одна другую, и она сама не знала, что из них сильнее.
Утром войско покинуло Бьюрланд.
– Ну что, Свен, – когда в новый поход? – крикнул Арнор, вышедший со всей семьей к реке проводить бывших соратников.
Вокруг засмеялись, как веселой шутке.
– Понравилось ручку крутить? – Свен показал, будто вращает весло, и ему ответил новый взрыв смеха на берегу.
Арнэйд не сводила глаз с его лица и увидела, как его взгляд упал на нее. И он махнул рукой – ей, как она думала.
Войско шло вверх по Меренской реке – как теперь стало известно, той самой, что за десятки переходов отсюда впадала в Итиль, а с ним – в Хазарское море. Жители сбегались к берегу и разглядывали вереницу судов. Одна за одной, на десять, на двадцать весел по борту, нагруженные мешками, тюками, корзинами, они все тянулись и тянулись на запад. Иной раз за большой лодьей тащили на привязи лодочку без людей, только с поклажей. И везде тесно сидят гребцы, коротко стриженные загорелые мужчины, и везде из-под мешков торчат иссеченные щиты – боги знают какие по счету, – рукояти топоров и копий, луки в налучах, потрепанные берестяные и кожаные тулы… Поднимая руки, гребцы махали жителям, улыбались – впервые за два года они шли через свои земли. И еще долго после того, как замыкающая лодья скрывалась за поворотом берега, люди смотрели им вслед, полные чувством, будто мимо них широким шагом прошло тысячелетнее сказание. Мальчишки уже бежали к местам стоянок – искать оброненное серебро и золото. Ходили слухи, будто кто-то и правда нашел. Отроки лет тринадцати жестоко страдали, что два года назад были слишком юны, а десятилетние хвалились друг перед другом, сколько серебра и золота они привезут, когда сами пойдут на Хазарское море.
«Когда в новый поход?..» Лодьи скрылись, все разошлись по домам, собираясь приняться за обычные дела. Только Арни и Виги вошли в дом и сели на лавку, не имея понятия, куда теперь себя деть, к чему приложить руки. Вот и настала мирная жизнь в родном доме, та, о которой они тайком мечтали все эти два года – а в последние месяцы и вслух. Теперь они могли поставить себе по двору каждый, завести целое стадо разного скота, высватать самых лучших невест Мерямаа или даже из самого Хольмгарда, приняться за торговлю и еще сильнее разбогатеть, в молодые годы стать уважаемыми людьми… Но каждый чувствовал себя кораблем, под которым вдруг кончилась вода. И больше всего им хотелось знать – когда же снова?
Глава 2
– Ты хоть узна́ешь его? – спросила Радонега, свекровь.
– Конечно узнаю! – Витислава вытаращила глаза и едва не обиделась. – Ты, матушка, меня все за малое дитя считаешь!
– Малое, не малое, – Радонега улыбнулась и покачала головой, – да только ты ж его три лета не видела, а до того знала всего ничего.
– Ну, да… – Витислава наклонила голову. – Но я… я помню его.
Радонега вздохнула. Она-то узнает своих сыновей, что бы с ними ни случилось за эти два года. Даже если они лишились глаз, рук, ног, что бы ни сделала с ними загадочная сарацинская земля, для нее они останутся все теми же. Но Витислава – другое дело. Она вышла замуж ровно три года назад, но видела своего мужа лишь несколько месяцев. За три лета и две зимы похода Свен, конечно, изменился. Но главное – изменилась сама Витислава, теперь она будет смотреть на него глазами не ребенка, а четырнадцатилетней девушки. То, что она увидит, будет отличаться от того, что она запомнила.
– Посмотрим, узнает ли он меня! – Витислава горделиво выпрямилась, сидя на скамье, и Радонега улыбнулась: сомнения ее невестки были справедливее.
Будто норны решили пошутить напоследок: Витислава обнаружила себя взрослой девушкой в тот самый вечер, когда войско, а с ним и Свенельд, ушли из Хольмгарда на юг. Понимая, какая долгая разлука ее ждет и какой опасности он будет подвергаться, она чувствовала себя вновь осиротевшей и рыдала без передышки весь день. Обнаружив на сорочке бурое пятно, решила было, что от слез с ней приключилась какая-то хворь. Хорошо, челядинки заметили в тот же вечер и доложили Радонеге: вот теперь невестка взрослая!
После этого Витислава начала быстро расти и теперь уже догнала свою подругу Ульвхильд. Когда они вдвоем выходили прогуляться над Волховом, жители Хольмгарда и округи кланялись им без тайных усмешек: это были две настоящие госпожи княжеского рода, и крайняя юность только придавала особую величавость их белым покрывалам замужних женщин. Высокие, стройные, они выступали рука об руку, как две утицы, плывущие по тихой воде, – в ярком длинном платье, в накидках, обшитых серебряной тесьмой, по холоду – в кожухах на кунице или щипаном бобре. У Витиславы грудь была еще невелика, но стан приобрел женственность, с лица уходила детская мягкость. Уже в восемь лет ее светло-русая коса была с ее руку толщиной, а теперь две косы, которые она днем носила, уложив вокруг головы и покрыв повоем, вечером, освобожденные, спускались ниже пояса. Она умела себя держать как подобает, но с домашними была веселой и приветливой. Яркие серые глаза смотрели дружелюбно, но с затаенным радостным ожиданием, будто она придумала некую шутку и ждет случая всех рассмешить. В повадке ее слились чувство достоинства, искренность и вера во всеобщее расположение, от этого быть с ней рядом было приятно всякому, молодым и старым. Радонега любила ее без памяти, сильнее, казалось, она и родную дочь не могла бы любить, и уже не представляла, как жила бы, если бы Свенельд не привез сюда три года назад напуганную одиннадцатилетнюю девочку, еще такую маленькую, но родовитостью не уступавшую самой княгине Сванхейд. Ко второй невестке, меренке Илетай, Радонега тоже относилась хорошо, но та сама была хозяйкой и матерью и не нуждалась так сильно в любви свекрови; к «Витяше» же Радонега прикипела так, что, чуть выпустив ее с глаз, посылала кого-нибудь посмотреть, где она и чем занята.
Оставшись с Альмундом и Радонегой единственной из младшего поколения, Витислава перебралась жить из девичьей в «большую» избу. Ее положение уже не казалось странным: в Хольмгарде были и другие молодые жены, оставшиеся с родителями мужа ждать ушедшего в поход. Даже Ульвхильд, хотя и жила при собственном отце и мачехе, тоже ждала супруга. И теперь, когда по виду Витислава не отличалась от других молодых женщин, на нее перестали смотреть как на чудо. Она надеялась, никто уже не думает о том, что, пока Свенельд жил дома, она была его женой лишь на словах…
В ожидании тех детей, которых она когда-нибудь родит, Альмунд и Радонега рассказывали ей обо всех предках рода – и датских, и ладожских. О Витонежичах, об их связах со старшими ладожскими родами Вито теперь знала больше самого Свена. Радонега поведала ей обо всех своих знаменитых бабках и прабабках, о «невестах Волхова», о самой красивой из них, которую когда-то сосватали за князя Аскольда и увезли в далекий Киев… Никто не знал, что с ней стало; по годам она еще могла быть жива, и Вито передавала эти предания Ульвхильд, которая должна была со временем перебраться в Киев, – может быть, она ее увидит?
Первый гонец с великим известием прибыл дней десять назад, а нынешним утром – второй, и теперь войско следовало ждать всего через два-три дня. По всему Хольмгарду поднялась суета. Из окрестных словенских городцов и весей гнали волов, овец, коз и свиней; в Волхов забрасывали сети и прочие снасти; отправлены были ловцы с загонщиками – стрелять кабанов, лосей, оленей. Везли мешки зерна, муки, крупы, репы, моркови, капусты, лука, бобов, гороха, короба грибов, соленых и сушеных. Расчистили все «мясные ямы», поверх слоя крупных камней на дне развели огонь и поддерживали его, пока закалывали скот, потрошили, начиняли туши, прямо в шкурах, репой и травами с чесноком. Крупные туши предстояло запекать, засыпав яму землей, целые сутки, поэтому начинать надо было заранее. Вовсю дымили хлебные печи на месте старого заплывшего рва. Готовили пиво: вскипяченную в больших котлах воду заливали в огромные деревянные чаны с солодом, опускали туда раскаленные докрасна камни и оставляли упревать.
Все женщины и челядь Хольмгарда трудились не покладая рук, сама госпожа Сванхейд с раннего утра до темноты сновала от внутреннего причала к погребам, от погребов к поварне. В поварне распоряжалась молодая госпожа Ульвхильд – дочь Олава и падчерица Сванхейд. Старше Витиславы на два года, Ульвхильд была ее ближайшей подругой – из всех многочисленных девок Хольмгарда, Словенска через реку и прочих больших и малых селений близ истока Волхова только они две, рожденные от князей и конунгов, были ровней друг другу. И в положении они сейчас находились одинаковом: обе два с половиной года назад, весной, проводили в поход своих новобрачных мужей, а теперь, перед началом зимы, ждали их назад.
Только к вечеру, когда стемнело и в избах зажглись огоньки светильников, женщины успокоились и уселись передохнуть. В пивоварне еще дымили оконца: слабый огонь под котлами нужно поддерживать всю ночь.
Раздался стук, дверь отворилась; вглядевшись в полутьме, Радонега узнала в женщине, проходящей, пригнувшись под притолокой, молодую госпожу Ульвхильд. Обе хозяйки поднялись.
– Будь цела, любезная! – ласково сказала Радонега и поклонилась.
Лучинка, служанка, подошла снять с гостьи кожух на бурой кунице. На тонкой красной шерсти, которой он был покрыт, задержались мелкие ледяные крупинки. Альмундов двор стоял по соседству от конунгова, идти было недалеко.
– Снег идет? – Радонега коснулась кожуха.
– Да. – Ульвхильд потрясла головой, стряхивая крупинки с покрывала. – Так густо.
– Иди к печи ближе, у нас тепло.
Витислава тоже поклонилась, потом подошла к Ульвхильд и взяла ее за руку. Рука с тонкими пальцами оказалась холодной. Они не виделись весь день, занятые каждая на своем хозяйстве, но Витислава понимала, что их с подругой одолевают схожие чувства.
Ульвхильд еще сильнее вытянулась вверх за эти годы и сравнялась со Сванхейд. Для такого роста она была слишком тонкой, но на щеках ее пылал здоровый румянец, оттеняя черноту бровей и ресниц, повадки были величавы, а лицо надменно. Даже в будни она одевалась в цветное платье, носила позолоченные бронзовые застежки и бусы в два ряда. Вот кто хорошо понимал, что значит быть рожденной для престола.
– У нас кончился девясил, – сказала Ульвхильд, усевшись на скамью возле Витиславы и сложив руки. – Сванхейд велела мне смотреть за пивными котлами. Я думала, девясила нам хватит на осенние пиры и на йоль, а он уже вышел. Полыни зато вдоволь.
– У нас еще есть девясил. – Витислава улыбнулась. – Помнишь, как мы летом собирали на реке и цапель считали? Я белых, а ты черных.
– Как госпожа? – спросила Радонега. – Не слишком утомилась?
Сванхейд носила очередное дитя, и сейчас была та самая пора, когда снаружи еще ничего не заметно, но женщине все время неможется. Госпожа Хольмгарда стойко переносила нездоровье, стараясь никому не показывать вида, но Радонега беспокоилась, как бы усталость и волнение не повредили ребенку. У Олава сейчас имелись три дочери – Ульвхильд от первой жены и две крошки, Альви и Мальфи, от нынешней, но сына не было ни одного, и на новую беременность жены он возлагал самые дорогие надежды.
Но Ульвхильд, похоже, не услышала ее вопроса. Сцепив руки на коленях, она смотрела в пол перед собой. Прядущие служанки при появлении конунговой дочери прервали болтовню, и теперь в большой избе раздавался лишь плач младенца, которого укачивала одна из челядинок, да наперебой постукивали веретена, ударяясь на весу о прялку или лавку.
– Ну что? – Наконец опомнившись, Ульвхильд взглянула на Витиславу. – Ты не боишься?
– Я – боюсь? – Витислава удивленно засмеялась. – Чего я должна бояться?
– Вот-вот приедет твой муж. Еще неизвестно, как он тебе понравится!
– Но почему же он мне не понравится? – Вито в шутливом изумлении широко раскрыла глаза. – Я ведь его знаю! Он хороший…
– Еще посмотрим, каким он стал… какими они все стали! А я, может быть, теперь уеду отсюда! – вырвалось у Ульвхильд, и Радонега поняла, что именно эта мысль, а не нехватка пахучих трав для варки пива, привела ее сюда.
– Уедешь? – Витислава подалась к ней. – Куда? Почему?
– Что, если Хельги потребует Грима к себе? Он теперь не просто какой-то отрок, он теперь настоящий конунг! А если он уедет в Киев, то я, конечно, тоже!
– Ну и что, что он конунг? Договор Олава и Хельги насчет заложников никуда не делся. Напротив…
– У нас, – перебила ее Ульвхильд, – ведь так и нету никого, кого можно отправить в Киев. А значит, отец не имеет права держать у себя заложника от Хельги. Хельги может потребовать Грима назад. Ну а раз я его жена, то уеду вместе с ним. Если бы у отца родился другой сын… ведь одну из наших двух малявок Хельги не сочтет достойным разменом на своего сына, взрослого мужчину, бывшего вождем на войне!
– Уж, наверное, – вставила Радонега, – Хельги обождет годик, как разумный человек, – может, у Олава и появится кое-кто…
– Если она, – Ульвхильд имела в виду мачеху, – наконец одарит его сыном!
– Ну а если не она, то кто-то другой…
– Кто? – Ульвхильд в изумлении воззрилась на Радонегу. – Откуда у отца возьмутся другие жены?
– Я имею в виду, что если ты будешь жить с мужем, то… как оно водится, так и выйдет.
Ульвхильд покраснела, поняв, о каком будущем заложнике говорит боярыня.
– Не очень-то приятно… – бросила она, – родить ребенка, чтобы его сразу же увезли на край света! И зачем им теперь заложники? Отец и Хельги такие друзья, а после этого похода…
Она осеклась.
– Мы ведь не знаем толком, чем поход закончился, – намекнула Радонега.
– О да! – воскликнула Витислава. – Я слышала… – Она прикусила губу, поскольку ей не стоило слышать, тем более пересказывать разговор Альмунда, ее свекра, с Бергфинном, десятским. – Мало ли что там случилось и будут ли Олав с Хельги друзьями дальше… Ну, говорят, что люди, вместе ходившие в военный поход, не всегда возвращаются друзьями…
– Что нам толковать! – остановила ее Радонега. – Вот вернется войско, конунг сам рассудит, как быть.
Они помолчали. Гонцы, предупредившие о возвращении войска, не сказали ничего существенного, да и знать не могли ничего сверх того, что им было передано. Все это были словены с Мсты: на протяжении тридцати с лишним переходов посланную весть несли разные люди, передавая от одной веси к другой, кто на челнах, а кто и верхом, но уже второй по очереди из этих посланцев даже не видел вернувшихся. Тем более не имело смысла расспрашивать последнего. Мол, войско возвращается, пусть Олав готовится принять две с половиной тысячи человек – это все, что знал старейшина по имени Струга. Из уважения к Олаву эту весть он взялся отвезти ему сам, но предыдущим посланцем был отрок в челне, где греб по очереди с меньшим братом. Отроки даже не могли сказать точно, откуда войско идет, – знали только, что к ним в Задоричи эту весть привезли от Твердилы, а он на восход от нас живет…
– И это все так дивно! – воскликнула Ульвхильд, повторяя то, что уже сотню раз звучало в Хольмгарде и округе. – Почему они вдруг объявились с восточной стороны? Они ходили в Серкланд! Они возвращались не через Киев? Но как? И что это может означать? Я думаю, ничего хорошего! И отец так думает. Как бы они не поссорились с людьми Хельги, иначе как это все объяснить!
– Но с чего бы сыну Хельги ссориться с его людьми? – усомнилась Радонега.
– Почем я знаю? Я только знаю, что все это очень-очень странно! Сванхейд сказала вчера, я сама слышала: а уверен ли ты, конунг, что это наше войско движется к нам?
– Ну конечно наше! – воскликнула Витислава.
– Тогда почему гонцы не сказали, кто их послал? Что, мол, Грим-конунг кланяется своему тестю, Олаву-конунгу… И люди его – Боргар, Годред, Свенельд и прочие?
– Должно быть, смерды позабыли все эти имена! – засмеялась Витислава. – Три десятка гонцов, они не знают этих людей, они не смогли бы все запомнить, и вообрази, нам бы передали: Моркогрыз кланяется Лысобрюху!
И Радонега, и даже Ульвхильд не могли не засмеяться в ответ.
– Вот они и передали только, что возвращаются, – весело продолжала Витислава. – А все важное они расскажут сами.
– Вы лучше о подарках думайте, – с улыбкой посоветовала Радонега. – Вот вам мужья навезут узорочьев разных – и серебра, и золота, и самоцветов, и паволок, и посуды! Чего только не будет у вас теперь! Будете обе как царицы из Миклагарда!
– Только бы они не привезли слишком много молодых рабынь! – Ульвхильд презрительно сморщилась. – Может, они после сарацинских цариц и смотреть на нас не захотят!
– Сарацинские рабыни у нас здесь перемрут скоро, – вздохнула Радонега. – У них там, говорят, жарко, холодов наших им не вынести.
– Ну, да, – поддержала ее Вито. – Там водятся велеблуды, а у нас нет!
– Только велеблуда мне в хозяйстве не хватало! – фыркнула Ульвхильд и встала.
Две хозяйки тоже встали и поклонились на прощанье. Лучинка метнулась вперед, чтобы отворить дверь госпоже. Но та, сделав пару шагов к выходу, обернулась.
– И еще… – с колебанием начала она.
Снова шагнула к двери, будто передумала. Лучинка приотворила дверь, в щель потянуло холодным острым запахом палой листвы и влажным духом первого снега.
– И еще, – Ульвхильд снова обернулась, не в силах побороть самую главную владевшую ею мысль, – мы ведь не знаем, кто из них вернется назад живым! А кого мы больше никогда не увидим!
Сказав это, она отвернулась и быстро вышла. Радонега и ее юная невестка переглянулись, на лице Витиславы отразился ужас.
– Но нет… – пробормотала Вито, чувствуя холод в груди. – Она… это ведь она так… Этого же не может быть… чтобы они не вернулись… Правда же?
На следующий день Олав послал людей на юг, к устью Мсты. Благодаря этому в Хольмгарде заранее узнали, что войско вошло в Ильмень и вот-вот будет здесь. Не все целиком: даже Хольмгард не мог вместить две с лишним тысячи человек, и часть дружин сразу с Мсты повели по другим городцам и большим селениям верхнего Волхова. Пока войско добиралось до конца своего пути, для ночевок под открытым небом стало слишком холодно.
Навстречу войску уехал Альмунд, ему предстояло первым увидеть вернувшихся. Гонец, которого он прислал к конунгу, тайком шепнул Велераду: наши, мол, живы оба. У женщин отлегло от сердца: слова Ульвхильд запали им в память как пророчество, и час от часу беспокойство все росло.
Когда на Волхове показались первые лодьи, Велерад отвел Радонегу с Витиславой на вежу, что замыкала уцелевшую часть бревенчатой стены на валу и смотрела на реку. Более полусотни лет назад Хакон-конунг построил на валу бревенчатую стену, подковой огибавшую площадку поселения, как принято в Северных Странах, но замысел оказался неудачным: что ни год разливы Волхова подмывали вал, стена разрушалась, бревна и земля сыпались в ров, и теперь от укреплений осталась только небольшая часть. Ров почти заплыл, на этом месте поставили хлебные печи и клети для припасов. Сейчас на валу собрался народ – каждый хотел поскорее увидеть войско, и Велерад с трудом провел мать и невестку сквозь толпу. Илетай на вежу не пошла: не более как через месяц у нее должен был появиться второй ребенок, и Велерад оставил ее дома, чтобы не затолкали в суете.
Волхов пока не замерз, и снег еще не лег, хотя сыпал уже не в первый раз, и от золота листвы осталось одно воспоминание. Приближался Навий день, когда накрывают стол для невидимых гостей из мира мертвых. И когда Витислава наконец увидела на широкой реке густую россыпь лодий – они шли несколькими цепями, многие десятки, глазом не охватить, – она подумала, что эти самые «деды», обладай она способностью их видеть, могли бы выглядеть как-то так.
Вид гостей был очень странным. По мере того как холодало, они по пути через владения Олава старались раздобыть себе одежду потеплее, покупали у прибрежных жителей что попало: суконные свиты, овчинные и медвежьи кожухи, тканые толстые вотолы, а то и просто шкуры либо овчины, из которых наскоро делали себе накидки. Из-под этих бедняцких одежд торчало яркое цветное платье, лица и руки были смуглы, бороды длинны и неухоженны.
Громкий гул стоял над рекой – тысячи голосов приветствовали того, кто послал воинов в этот поход. Олав с семьей вышел на внутренний причал – не хватало терпения дождаться, пока прибывшие вступят в дом.
Даже конунг с большим трудом сохранял невозмутимость. Сейчас он узнает, насколько хватило его удачи – той, которую он посылал с войском. Много ли людей погибло? Много ли взято добычи? Без потерь никакое дело не обходится, но если погибших много, а добычи мало, то пострадает его честь. Он, Олав-конунг, будет считаться лишенным удачи. Но если добыча хороша, то и его слава возрастет даже сильнее, чем увеличатся богатства – молва преувеличит их, так что его станут считать еще удачливее, чем он есть.
Лодьи сидели низко, видно было, что тяжело нагружены. Но чем? Две тысячи с небольшим, как сказал последний из гонцов, – это очень мало, это меньше половины того числа, что уходило. Мерен, часть чуди и словен с Помостья уже разошлись по своим домам, но даже с учетом этого…
Олав не отличался остротой чувств, но сейчас сердце билось так гулко, что было трудно дышать. Гребцы то и дело оборачиваются, чтобы взглянуть в эту сторону, он уже различает лица… и никого не узнает! Непривычно смуглые, кто в овчинных колпаках, надвинутых на глаза, кто в круглых цветных шапочках, широченные счастливые улыбки из гущи свалявшихся бород… На руле передней лодьи сидит какой-то здоровяк с вроде бы знакомым лицом… рядом с ним довольный Альмунд, значит, это один из его сыновей, но Олав, хоть и знал обоих с рождения, сейчас не мог сказать который.
Конунг покосился на жену. Сванхейд стояла рядом с ним, сжав руки под теплой куньей накидкой, и на лице у нее отражалось требовательное ожидание, будто она собиралась спросить: оправдали ли ее доверие воины, которых она провожала в поход? Олав очень надеялся, что под ее накидкой прячется его наследник, и ради него еще сильнее жаждал убедиться, что родовая удача им не изменила.
– Я не вижу Гримова стяга, – раздался с другой стороны от него голос Ульвхильд. – Он ведь должен быть впереди!
Олав обернулся к дочери: в точно такой же накидке, как у мачехи, она стояла, величаво выпрямившись, и шарила глазами по приближающимся лодьям.
– Я почти ничьих стягов не вижу! – добавила Сванхейд. – Только твой… но где сам Боргар?
Малый конунгов стяг был вручен Боргару Черному Лису – старшему над дружиной Хольмгарда и всем северным войском. Этот стяг вился на высоком древке над кормой передней лодьи, где ехал Альмунд. Второй из Альмундовых сыновей стоял на носу, будто ему не терпелось перескочить на берег. Этот второй – Свенельд, теперь Олав его признал и поразился переменам. Но самого Черного Лиса он не находил. Не может ведь хёвдинг, человек к тому же далеко не молодой, сидеть среди гребцов!
Они все ближе, ближе… Десятки лодий, одновременно летящих к причалу, казались неудержимой волной силы, которая накатит и смоет. На миг подумалось: не ждало ничего хорошего те берега, где они вот так же стремительно высаживались ради добычи и славы…
Дружный рев нарастал, с каждой лодьи трубили рога, заглушая приветственный шум с берега: внешний причал, вежа, внутренний причал были полны людей, машущих и кричащих. Даже на противоположном берегу толпились жители Словенска, и к ним шли десятка два лодий, назначенных туда на постой.
Вот первая лодья приблизилась вплотную и встала у причала, за ней вторая, третья – сколько смогло поместиться, но самая небольшая часть. Раздавались выкрики кормчих, с одной на другую перебрасывали концы. Часть свернула в протоку, чтобы встать у берега южнее Хольмгарда.
Свенельд бросил конец, чтобы отроки на причале поймали его, и вслед за тем перепрыгнул с борта сам. Олав постарался согнать с лица озабоченность и придать ему величавую невозмутимость.
– Сейчас мы узнаем лучшие новости в нашей жизни! – воскликнула вполголоса Сванхейд, будто заклиная.
– Или худшие! – возразила ей Ульвхильд, и ее голос от волнения звучал раздраженно.
Свенельд глянул на конунга, двух его женщин, потом невольно бросил взгляд на толпу у них за спиной, но не нашел там кого искал. Грудь его вздымалась от волнения, а встречавшие жадно рассматривали его, пытаясь угадать по его виду, что́ сейчас от него услышат. Олав снова взглянул на лодью, ожидая кого-то другого, но по ней пробирался, с трудом находя куда ступить среди поклажи, второй из братьев.
Его-то Свенельд и дожидался. Когда Годред встал возле него, братья переглянулись и разом шагнули вперед. Олав отметил, что за время похода разница в росте между ними сократилась: младший из братьев еще подрос.
– Приветствуем тебя, конунг! – хрипло сказал Годред. – Мы побывали на Хазарском море и привели назад ту часть твоих людей и прочих дружин, кому норны судили уцелеть. Мы не осрамили твой стяг и своих дедов. Мы привезли добычу, которая позволит и тебе, и нам не стыдиться своего оружия… хоть все ётуны Ётунхейма и пытались нам помешать! – в сердцах добавил он.
– Но почему я не вижу Боргара? – спросил Олав, но уже знал, какой ответ услышит: по уверенной повадке братьев было видно, что они привыкли говорить от имени дружин.
– А где Грим-конунг? – нетерпеливо воскликнула Ульвхильд, не давая им ответить на вопрос ее отца. – Где он, отвечайте, ну!
Она едва не топнула по доскам причала; Сванхейд полуобернула к ней лицо, намекая, что падчерица ведет себя не совсем подобающе.
Оба брата взглянули на Ульвхильд, и их лица смягчило чувство, поразившее ее в самое сердце. Это была жалость. Странно смотрелась жалость в светлых глазах на смуглых лицах со свежими шрамами – именно то чувство, которого они не знали целых два года.
– Грим-конунг погиб, госпожа, – мягко произнес Свенельд; это были его первые слова после возвращения. – Он пал в битве… как истинный вождь… До последнего вздоха не выпустил оружия.
– Кто… где? – выговорил Олав, немногим менее Ульвхильд пораженный этим известием. – Сарацины… убили его?
– Нет, конунг, – сурово ответил Годред. – От сарацин мы ушли с небольшими потерями, а Грим-конунг не был даже ни разу ранен. Он пал в сражении близ Итиля… в третьем сражении, какое нам пришлось там выдержать.
– Итиля? – повторил Олав, и его потрясение стало сменяться досадой: он еще не знал, что произошло, но само то, что его юный зять погиб на земле, считавшейся дружественной и почти безопасной, означало, что судьба преподнесла ему огромную пакость. – Но как…
– Хазары предали нас! – с вызовом, будто бросая упрек самой судьбе, ответил Годред. Его светлые брови сдвинулись, в глазах засверкала ярость. – Хазарские хасаны, что служат беку Аарону, за три дня сгубили у нас больше людей, чем сумели сарацины сгубить за два года!
Раздался странный звук: не то всхлип, не то хрип. Все обернулись: Ульвхильд стояла бледная, с вытаращенными глазами, и держалась рукой за горло; пытаясь не выпустить наружу горестный крик и плач, она едва не задушила себя.
Вокруг нарастал ропот, толпа придвигалась. Ужасная весть разлеталась, как круги на воде, передаваемая все дальше и дальше.
– Идемте в дом! – распорядился Олав, думая, не следует ли поддержать дочь, чтобы не упала у всех на глазах, и взглянул на Сванхейд. – Там вы все расскажете толком!
– Обожди немного, конунг! – Сванхейд подняла руку, останавливая его. – Если Годред уже заверил нас, что… ни вернувшиеся, ни павшие не осрамили тебя и твой стяг… – Даже она, при ее твердой воле, ловила воздух ртом и с трудом находила связные слова. – То если одни погибли, это не повод лишать заслуженного почета других.
Она повернула голову, и чашник, державший наготове приветственный рог, передал его госпоже. Сванхейд взглянула на Годреда и кивнула, приглашая его подойти.
– Приветствую тебя в родном доме, Годред сын Альмунда! – ровным, окрепшим голосом провозгласила она, и гул толпы стих. – Славятся боги, вернувшие вас, тех, кто пришел, живыми и с добычей. Да примут Один и Фрейя с почетом тех, кто не вернулся, и да прославятся ваши имена в поколениях!
Она приподняла рог, плеснула на доски причала, отпила и протянула Годо. Он тоже отпил немного, судорожно сглотнул, потом, держа рог перед собой, вопросительно взглянул на нее. Сванхейд, с едва заметной тенью улыбки на губах, качнула ресницами. Наклонившись, Годо почтительно поцеловал госпожу. Он ощутил тепло ее губ и запах меда; пробрало жаром, будто от поцелуя настоящей валькирии, отделяющего душу от тела. Он не погиб, но удостоился – впервые в жизни – такой чести, к которой стремился, сколько себя помнил. Сванхейд смотрела ему в лицо с таким прямым, жадным любопытством, какое редко себе позволяла: в ее глазах Годо видел изумление, но и восхищение. Первое было понятно, но второго – догадываясь, как сейчас выглядит, – он никак не ждал, и от этого нежданного дара теплело в груди и кружилась голова. На миг забылось все – трудности, усталость, боль, горечь, досада, злость… Может быть, Грима и Боргара в Валгалле целуют не менее прекрасные девы, но Годред в этот миг испытывал острейшее чувство счастья от того, что стоит на этом причале, а не сидит за столом Владыки Ратей. Он дожил до этого мгновения, а значит, свой путь прошел не зря.
Для пира все было готово, но не так скоро удалось к нему приступить. Прежде всего Годред и Свен должны были позаботиться о людях и добыче. Альмунд привел только здешних хирдманов и три сотни уцелевших варягов под началом Халльтора и Ормара, но и этих нужно было разместить, обеспечить хранение добычи, дать людям помыться, перед тем как сесть за стол и поднять чаши за богов и павших, – а это оказалось нелегко, ведь все хольмгардские бани за валом у протоки предназначались им под жилье. В гридницу Олава, в гостевые дома, в клети и бани теперь несли те тяжелые, позвякивающие тюки и мешки. Приехавших окружали взволнованные жители Хольмгарда: родичи и друзья обнимали уцелевших, расспрашивали о тех, кого не смогли увидеть. Одни, обрадованные, бежали искать своих, другие ударялись в плач. Радостные восклицания мешались с рыданиями, женщины заливались слезами – одни от счастья, другие от горя. Сам Хольмгард изменился, когда в него вошла эта толпа причудливо одетых мужчин, в облаке общего на всех походного запаха. Привычная сосредоточенность не уходила из глаз, даже когда они улыбались, и вместе с ними война, которую они было унесли на другой край света, незримо вошла и сюда.
Люди, побывавшие на войне, навсегда не такие, как те, кто там не был. Они могут быть веселыми и непринужденными, заниматься какими угодно мирными делами, но в людях, отмеченных войной, навсегда остается эта глубоко скрытая сосредоточенность, готовность в любой миг отбросить все и действовать, не тратя времени на колебания и раздумья. Тех, в ком война не пробуждает этой готовности, она пожирает первыми.
Годред и Свенельд вместе со своим отцом распоряжались, кого и что куда. Прямо с причала Альмунд изрядно удивил их, показав просторный новый двор на посаде:
– Это ваше, сынки.
За два года Альмунд исполнил обещание выстроить «палаты не хуже, чем у цесаря в Миклагарде», которое Свен поначалу принял за шутку.
– Для кого это? – Свен и Годо в изумлении озирались, стоя посреди изб, клетей, погребов, хлева и поварни.
– Для того, кто хозяйку приведет, – усмехнулся Альмунд; он не слишком удивился бы, если бы Годо и правда привез из похода дочь какого-нибудь знатного сарацина или хазарина. – Но можете оба жить, две избы жилые, места много.
В избах пока не было никакой утвари, кроме лавок и столов, но сложены были печи, в поварне устроены очаги в высоких деревянных коробах на земляной подсыпке. Туда отвели сотню свеев и данов, велев устраиваться.
Часть мешков Свенельд и Годред сразу отправили в гридницу.
– Вот это твоя доля, конунг, – объяснял Свенельд. – Это тебе выделили Арнор из Бьюрланда, Талай из Арки-варежа, Койпа Чудин и Борила Помостич – треть от добычи каждого, мы с Годо следили, чтобы все было честно. Нашу мы тебе передадим, как людей устроим. А остальные, мы с ними условились, будут подвозить, когда вожди на пир поедут.
За этой суетой братья не сразу вспомнили о женщинах. Альмунд при первой встрече сказал им, что все свои живы-здоровы, но пока у них имелись более важные дела.
– А это кто? – воскликнул Свенельд, вдруг увидев перед собой молодого верзилу, очень похожего ростом и сложением на Годо, а лицом – на мать. – Ётунов ты свет!
– Это я, твой младший брат Велерад, – приветливо улыбаясь, непривычно низким голосом пояснил верзила.
Младший из троих братьев сильно вырос за последние годы, раздался в плечах, черты округлого лица сделались жестче, а голос – ниже. От летних походов Олав отказался, пока большая часть его людей была в отъезде, но дань собирать приходилось по-прежнему, и Велераду с Альмундом хватало работы. Привыкнув тащить воз забот обо всей семье, о хозяйстве и по службе, он теперь выглядел старше своих девятнадцати.
– Годо, ты посмотри на него! – Изумленный Свенельд обнял Велерада, причем убедился, что теперь тот равен ему ростом и больше не получается смотреть на него сверху вниз. – Вот как наше щеня-то выросло! Говорят, ты и чадом обзавелся?
– Да уж второе на подходе, – хмыкнул Велерад.
Свен только головой покачал: младший брат не просто вырос – он сам стал отцом, а значит, сделался как бы старше двоих старших.
– А где… – Эти мысли привели ему на память еще кое-что, и он вопросительно огляделся.
Они стояли в гриднице, возле стола, только ждавшего, чтобы его заполнили мисками и блюдами; перед конунговым сиденьем лежали тюки и мешки, отроки несли еще мешки… Сновали люди, переговаривались на славянском, русском, северном языках. Велерад живо огляделся, уже привычно скользя глазами поверх голов; приметил кого-то и призывно махнул рукой.
Из толпы выбралась молодая женщина и несмело остановилась в паре шагов от братьев.
– Я хотела побыть с ней, но она никого не хочет видеть, даже меня… – в смущении пробормотала Витислава.
Свен невольно присвистнул, разглядывая ее и пытаясь уяснить себе, кто перед ним.
Во время похода он редко вспоминал об оставшейся дома супруге: ежедневные заботы и опасности не оставляли досуга для праздных мыслей. Он помнил о ней – и, как ему казалось, помнил ее. Но сейчас с ним случилось почти то же, что с Арнэйд, когда она увидела в лесу его самого: глаза узнавали знакомый облик, но рассудок отказывался принять увиденное, потому что был к этому не готов.
Он хорошо запомнил, что Вито – маленькая. Но та, что стояла перед ним, маленькой не была. Это была очень молодая, но вполне взрослая женщина ростом три локтя с полпядью. Белое покрывало замужней не смотрелось на ней странно, а лишь подчеркивало нежность кожи и тонкость черт. А главное – светлые, искристые серые глаза в окружении черных ресниц. Эти глаза смотрели на него с недоумением и смущением. И Свен разом осознал две вещи. Первое: как красива эта благородная госпожа, чья княжеская кровь сказывается в каждой ресничке. И второе: как ужасен перед ней он сам – дикий, немытый, с кое-как отросшими волосами и неухоженной бородой, пропахший землей, водой, дымом костров, одетый в чужой овчинный кожух, под которым сарацинская камиса и дурра́, обе не стираны месяца два, с самого Булгара…
Впервые в жизни Свенельду сыну Альмунда захотелось оказаться кем-нибудь другим или хотя бы в каком-нибудь другом месте.
– Будь жив, господин. – Витислава попыталась улыбнуться ему, ее губы дрогнули, но в глазах было лишь изумление. – Я рада видеть тебя невредимым… Ульвхильд на днях сказала – мол, мы не знаем, кто из них возвращается живым…
Она говорила, будто рада, но на самом деле старалась убедить себя: это и правда он, тот, кого она ждала.
– Я так волновалась… и матушка тоже. Но мы не верили… мы же знали, что вы хорошо защищены вашей удачей… Ты все время носил мой поясок, да?
– Н… нет, – хрипло выдавил Свенельд. У него и самого было чувство, будто он не настоящий, тот, кого она знала, а чужак, выдающий себя за него. И в любой миг его притворство могут разоблачить. – Не все время. Сначала носил, а потом он порвался… Два года же… Я… – Он глубоко вдохнул, пытаясь собраться с мыслями. – Я… погоди. Помоюсь хоть как… А то стыдно перед людьми. Как ётун, гля…
Он поперхнулся, чувствуя себя истинным чудовищем из воды, что незваным вперся в пиршественный покой к королеве. Хороший из него муж для этой княжны, похожей на цветок из серебра, в ком юность и высокое происхождение оттеняют друг друга и озаряют ее звездным сиянием!
Глаза Витиславы раскрылись шире, в них мелькнули удивление, обида… Он больше ничего не хочет ей сказать? Он не рад ее видеть? Но Свен отвернулся и устремился прочь из гридницы. Как нелепо все вышло! Если бы он вспомнил о ней заранее, то постарался бы сперва хоть в приличный вид себя привести!
Однако с собой он уносил тягостное чувство, что преграда между ними не исчезнет вместе с походными запахами и грязной одеждой. За эти два года он стал человеком другого мира, и по-настоящему вернуться, по-настоящему отыскать путь в мир обычных людей будет немногим проще, чем было найти дорогу от низовьев хазарской реки Итиль до знакомой Мерямаа. Многим это не удается, и поход становится единственным возможным для них образом жизни. Сейчас Свенельд чувствовал себя одним из таких людей и стремился скрыться с глаз собственной супруги, как другие стремились в объятия своих.
Альмундова баня у протоки, где Радонега с Витиславой когда-то ткали обережные пояски, оказалась тоже назначена под постой, и там по лавкам раскладывали свои пожитки уцелевшие псковичи и их псковская чудь. От тех и других осталось по половине, всего чуть больше полусотни человек. Все два года они держались вместе, а последние несколько месяцев, со времени гибели княжича Благомира, слились в одно. Сыновьям Альмунда и их дружине мыться пришлось в поварне нового двора, где легко было нагреть воды, засыпать земляной пол соломой и поставить корыта. Не настоящая баня, но все лучше, чем ничего.
– Это разве моя? – удивился Свенельд, взяв в руки сорочку, когда Велерад принес им в поварню чистую одежду.
– Твоя! – Брат хлопнул его по плечу. – Твоя жена тебе десяток нашила. Такая рукодельница, мать не нарадуется!
Свенельд провел пальцем по тонкому беленому льну: опрятный шов, ровный и прочный, стежочки меленькие, в две-три нити. Сыновьям Радонеги и прежде не случалось носить дурно сшитых рубах, но в этой было какое-то особое обаяние, будто она не из простой тканины, а из белого облака. Даже пахло от нее чем-то домашним, приятным.
– Надевай! – подбодрил его Велерад. – Наденешь, сразу человеком сделаешься!
Он подмигнул, а Свен отметил: и брат чувствует, что он пока еще не по-настоящему вернулся.
– И это тебе! – Велерад подал ему еще какую-то одежду.
Свенельд развернул. Это оказался кафтан из темно-голубой шерсти, отделанный зеленым шелком с золотистым узором, а на полосы шелка, идущие поперек груди, – они сидели так тесно, что почти сливались в одно полотно от ворота до пояса, – были нашиты полоски позумента, искусно сплетенного из серебряной проволоки.
– Ох ты! – За эти два года Свенельд повидал немало сокровищ, но в этом кафтане чувствовалось сдержанное северное достоинство, не в пример кричащим краскам южных стран, которые уже изрядно намозолили ему глаза.
– Или вы теперь только шелка носить изволите? – ухмыльнулся Велерад.
– Глаза б мои их не видели…
– Тоже она шила. А тебе вот – это от матери. – Другой кафтан, красный, Велерад вручил Годо. – Летом свеи приезжали, привезли этот тканец, сказали, у Бьёрна в Уппсале сейчас все самые лучшие мужи так ходят.
– Да уже теперь эти свеи против нас будут жалкие бродяги, – буркнул Годред, прикладывая кафтан к себе. – Со своим дряхлым Бьёрном вместе.
Яркая роскошь нового кафтана так не шла к хмурому, обожженному солнцем, изуродованному шрамами лицу Годо с клочковатой бородой, что даже Свен, повидавший брата во всех видах, не удержался и хмыкнул.
– На себя глянь, – бросил Годо, прекрасно его понявший.
Свен только тронул горбинку на носу – ну да, сам теперь тоже не месяц ясный.
После долгой дороги очень непривычно было чувствовать себя так чисто и хорошо одетыми: они ведь тронулись в путь из окрестностей аль-Баба, где зимовали, чуть ли не сразу после новогодья[6], чтобы войти в устье Итиля по высокой воде, и все время пути мылись кое-как, в той же реке. Свенельд осторожно натянул кафтан, пошевелил плечами. Было тревожно, что такая изысканная вещь, сделанная белыми руками благородной девы, лопнет на том чудище, которым он себя чувствовал. Витислава брала за образец его оставшиеся дома старые сорочки, а за два года он немного вырос, да еще и благодаря постоянной работе веслами раздался в плечах, и кафтан слишком плотно обтягивал грудь. Свен осторожно согнул руку в локте – ничего, рукав не треснул. Попытался было застегнуть кафтан, но мелкие золоченые пуговки и такие же мелкие шелковые петельки с трудом давались загрубелым пальцам, а к тому же их было слишком много – десятка три, ётуна мать! Подпоясался и оставил так.
Старые сорочки пришлось отдать отрокам – не все были так богаты, чтобы иметь дома запас. Подпоясавшись, Свенельд по привычке наискось заткнул нож в ножнах за пояс и попытался ощутить себя прежним. Не вышло, но этот новый Свенельд, по крайней мере, очень хотел снова прижиться дома и стать здесь своим.
Одевшись, вернулись в отцовскую избу. Радонега подровняла сыновьям волосы и укоротила бороды. Но и теперь она вглядывалась в них, едва веря в новый облик своих сыновей. На загорелых лицах виднелись тонкие белые морщинки возле глаз, и оттого казалось, что они постарели не на два года, а на все десять. Уже лет по десять они делали мужские дела, и к этому она привыкла, но теперь вдруг увидела их как бы глазами чужих людей, для которых они давно уже не просто мужчины, но и вожди. Свенов нос, от рождения безупречно прямой, после перелома обзавелся горбинкой и оказался немного свернут в сторону. Но Годреда военная жизнь изгрызла еще заметнее: кривые шрамы от сабельных ударов появились у него на скуле, на щеке, на лбу. Им было всего несколько месяцев, они не успели побледнеть и выделялись на коже тревожным багровым цветом.
– Я даже шлем взять не успел, – сказал он, заметив, как мать рассматривает эти шрамы, но снова заговорил, не давая ей задать вопросов: – А почему у Свеньки на кафтане вон сколько тканца, а у меня вдвое меньше? Пожалели мне? Не заслужил?
Радонега рассмеялась и посмотрела на Вито: та стояла у большого ларя в углу и выбирала старые сорочки для отроков, складывая их в стопку. В свое занятие она была погружена по уши; а может, не хотела смотреть на мужа.
– Свеньке жена шила. У нее времени больше, а если бы я столько над шитьем сидела, кто бы за челядью и скотиной глядел? А? – Радонега наклонила голову и бросила на старшего сына задорный взгляд.
Намек был всем понятен, и Свенельд усмехнулся не без самодовольства. Женись – и будет у тебя кафтан вдвое лучше.
И отчего бы Годо теперь не жениться? Прославлен, богат, родовит – хоть к конунговой дочери сватайся. Но Годо оставался хмурым, будто яркие ожидания ничуть его не радовали.
– Витяша, иди сюда, – добавил Радонега. – Застегни ему кафтан, он сам не совладал.
Вот теперь Годо захохотал с торжеством и оживился. Витислава подошла, не поднимая глаз, приблизилась к Свену вплотную и стала застегивать пуговки. Ее рукам они должны были поддаваться легко – сама пришивала, – но Свен видел, что пальцы ее слегка дрожат и оттого неловки. Он стоял, подняв голову, и старался не дышать; от близости Витиславы, от ее прикосновений его пробирала дрожь. Он чувствовал ее легкий запах – какие-то душистые сушеные травы, – и просто оттого, что она стоит так близко, голова шла кругом. Ничего подобного он не испытывал три года назад, когда сдернул ее с белого коня, сам вспрыгнул в седло, а ее бросил перед собой и бешено погнал к берегу, к кораблям. И пока вез ее домой аж из самого датского Хедебю, и когда сидел рядом с ней на свадьбе, и даже… когда улегся с ней на лежанку, положив между нею и собой свой меч, который с тех пор звался Страж Валькирии… Теперь не верилось, что все это было с ними. Та девочка с пушистыми светло-русыми волосами, которой он рассказывал сказку про спящую на огненной горе Брюнхильд, была совсем другой и внушала ему немного жалости, но уж точно не волнение крови, какое может внушить женщина… Теперь она не дитя. И как обращаться с этой юной госпожой – он не знал. Она все еще была ниже его ростом, но не по-прежнему, не как ребенок. Теперь он ощущал ее рядом с собой как женщину, мог бы поцеловать ее как женщину – на что имел законное право как ее муж, – но теперь это потребовало бы присутствия духа, которого он в себе не ощущал.
Постепенно спускаясь по пуговкам вниз, Витислава склонилась к его поясу, а Свен невольно подумал: а что, если бы она расстегивала на нем кафтан? Обдало жаром, но в этот миг Вито, будто обожженная этой внутренней вспышкой, выпрямилась и отошла. Свен осторожно пошевелил плечами.
– На веслах посидел два года с лишним, – пояснил он в ответ на вопросительный взгляд матери. – Боюсь, рукава на плечах треснут!
– Ты бережнее! – строго сказала Радонега. – Такого кафтана, может, у самого Бьёрна в Уппсале нет!
– Такой жены у него точно нет! – пробормотал Свен себе под нос.
Витислава уже отошла обратно к ларю, но по ее спине Свену показалось, она услышала.
Пока прибывшие мылись и одевались, Олав приказал развязать врученные ему тюки и разложить добычу. Когда Альмунд с сыновьями вошли в гридницу, здесь уже все стены были увешаны шелковыми одеяниями и покрывалами. Не то что простые жители Хольмгарда – сама госпожа Сванхейд стояла посередине и медленно вращалась, разглядывая пестрые блестящие ткани. Цветы, плоды, птицы, звери, ростки, полоски, разводы… Перед главным столом прямо на полу были расставлены серебряные чаши, блюда, даже ведра из серебра, с чеканкой.
– Это же цапли! – бормотала Сванхейд, вглядываясь в узор. – И на том блюде тоже.
– Это аист, госпожа, – почтительно пояснил Годред, в новом красном кафтане, подойдя сзади. Когда он заговорил с ней, его хмурое лицо немного посветлело и смягчилось. – У сарацин ему поклоняются, говорят, аист весну приносит.
– А вот это что? – Велерад вытаращил глаза на блюдо, где на дне был вычеканен зверь вроде крылатой собаки.
– Это пес-птица, Симорг называется, – пояснил Свенельд. – Морда у него пса, крылья птичьи, а хвост рыбий, потому он везде силу имеет: на земле, в небе и в воде. У сарацин царским зверем считается, оберегает славу царя и удачу. Кому такой зверь служит, тот непобедим.
– Что-то, я смотрю, эта крылатая собака мало помогла сарацинским царям, если они ее лишились! – засмеялась Сванхейд, взглянув на Годо.
– Теперь она будет нам служить. – Тот улыбнулся правым краем рта, но левая щека, со свежим шрамом, осталась неподвижной. – Господину нашему Олаву и тебе.
– Ты вот на это посмотри! – Олав взял в руки тяжелую литую кружку из серебра.
На боках ее чеканка изображала оленей и козлов с волнистыми рогами, а на кольцевидной ручке имелась накладка с лицом лысого старика с широкой бородой. С двух сторон к нему жались удивительные звери – с длиннющими хвостами прямо на морде и огромными ушами. Из пасти их торчали длинные клыки.
Пока Годо объяснял, что это за звери, и показывал таких же в узорах шелковых кафтанов, Свенельд все оглядывался, надеясь, что Витислава снова появится. Для нее он припас серебряный кувшинчик с позолотой, с ланью на боку – пусть знает, что у нее будут вещи не хуже, чем у Сванхейд. Надо было дома вручить, за кафтан поблагодарить – не догадался, гля!
Наконец столы заполнились гостями: пришел боярин Вершила, возглавлявший теперь псковичей, из Словенска прибыли свеи со своим вождем Родмаром, и словенский «малый князь» Братигость с его сестричем Сдеславом – тот возглавлял словенских ратников и сумел вернуться живым. Появились и женщины, расселись с внутренней стороны стола, каждая напротив своего мужа. Пришла Радонега с обеими невестками; глянув, как они входят, Свенельд невольно отметил: всякий позавидует семье, где такие матери и жены. Все три были одеты в греческое платье из крашеной шерсти, отделанное узорным шелком, и напоминали три ярких живых цветка, вдруг расцветших в хмурую пору начала зимы. Илетай теперь по виду ничем не отличалась от других жен в Хольмгарде, только по-прежнему носила в ушах серебряные серьги в виде колец с узорными шариками, а на груди – круглую, искусно отлитую ажурную застежку с подвесками, собственной работы еще с девических лет. Округлость стана, видная даже под широким платьем, из-за чего тканый пояс был повязан под самой грудью, дополняли эту роскошь обещанием скорого прибавления рода.
Витислава рядом с ней казалась тонкой, как стебель цветка рядом с копной пшеничных колосьев. Она шла, опустив глаза; Радонега подвела ее к месту напротив Свена, а сама отошла к Альмунду. Увидев ее рядом с матерью, Свен с изумлением отметил, что Вито и Радонега стали одного роста – а ведь мать его для женщины довольно высокая. Когда Вито села, Свен невольно выпрямился. Она мельком взглянула на него и снова отвела глаза. На ней было платье из тонкой голубой шерсти, посветлее его нового кафтана, с отделкой багряного шелка с золотисто-желтым узором. Шелк показался знакомым; приглядевшись, Свен разобрал части морды и крыльев грифона и подавил улыбку. Тот самый кафтан «с плеч цесарей Леона и Александра», рукав от которого они с Велерадом когда-то подарили Тойсару, сватаясь за Илетай… Теперь он уже не казался чем-то особенным; из любой камисы или дурры, что они привезли, или из покрывала-риба можно сшить для Вито целое платье.
Но зато сама она… Глядя на нее, Свен испытывал волнение, смешанное с недоумением. Эта молодая женщина была очень красива и держалась как истинная княгиня, и он понимал, что совсем ее не знает. Он вспоминал ее, какой она была до его отъезда, и не верил, что та девочка и эта госпожа – одна и та же. Никогда раньше он не терялся перед женщинами, но теперь не знал, что ей сказать. Она ведь не то, что простые девки, она как жар-птица из матушкиных сказов… Жар-птица, еще не пойманная, – черты лица ее были мягкими, но в них сквозило твердое, независимое достоинство.
– Кафтан очень красивый, – прочистив горло, сказал Свен. – Спасибо тебе.
Вито улыбнулась, но ничего не ответила. Больше ничего он не мог придумать. Между ними будто стена стояла, и он не знал «сильных слов», способных растворить дверь в этой невидимой стене. Он вовсе не знал, как к ней подойти, чувствовал себя медведем рядом с сизой горлицей. До поневы она доросла, как ему тайком рассказала мать, два лета назад, то есть сейчас совсем готовая жена, можно не бояться, что окажется слишком молодой для благополучных родов. А Свен, в свои двадцать три года, чувствовал себя старым для нее. Думает ли она то же самое? Проще было бы спросить, чем гадать, но язык не поворачивался.
К счастью, Олав дал знак к началу пира: взял у Сванхейд рог, чтобы поблагодарить богов за удачу в походе, воздать честь живым и павшим. Первый рог он поднял на богов, что хранили его людей в дальних странах и позволили вернуться домой с добычей. Все в гриднице только и знали вертеть головами, разглядывая эту добычу. Одежды и ковры развешаны по стенам. Дорогая посуда из серебра, с чеканкой и позолотой, все эти чаши с цаплями, блюда с симоргами и кружки со слонами расставлены на бортах очагов, просто на столах – так же густо, как простые глиняные кринки с пивом и квасом. Отблески огня с очагов, из налитых воском светильников играли на бесчисленных серебряных боках, и казалось, что все эти львы, слоны, козлы, птицы и всадники трепещут, дышат, хотят сойти со своих сияющих полей в эту чужую страну, куда их привезли… Никто, не исключая Олава и Сванхейд, никогда не видел вокруг себя столько серебра сразу, и каждому, даже отрокам, сидящим на полу между столами, казалось, что они уже попали в небесные миры, в палаты богов, где сам Один или Перун поднимает рог во славу своих гостей. В этих волшебных палатах наряду с ними, живыми, незримо пировали их мертвые, гридница Олава и медовый покой Одина сливались в одно.
Молодой валькирии на пиру поначалу не было, но Олав кивнул жене, та ушла в шомнушу и вскоре вернулась, ведя с собой Ульвхильд. Молодая госпожа уже была одета в белое платье и резко бросалась в глаза в полутьме среди отблесков огня и серебра. Она шла неслышно, будто призрак, рожденный из этих отблесков, и стихли все голоса в палате, стал слышен даже треск огня. Лицо Ульвхильд было заплаканным, но почти спокойным. Когда миновало первое потрясение, она сумела взять себя в руки. Но хоть она и не плакала, не причитала, как делала бы на ее месте молодая славянская вдова, от ее тонкой белой фигуры веяло отчаянием. Глядя перед собой будто слепая – мертвецы слепы в мире живых, – она прошла к отцу и встала возле него.
– Второй рог мы поднимем в память моего зятя, Грима сына Хельги, – заговорил Олав. – Два славных, могучих рода соединились в нем, и сам он с юных лет показал себя достойным их наследником. С боевым щитом устремился он в дальние края, его удача, наравне с моей, вела людей в сражения, приносила им славу и добычу. Теперь он сидит за столом Одина, среди славнейших витязей былых времен. – Олав поднял глаза, словно и правда мог через кровлю и даль небес увидеть палаты Валгаллы и сидящих там. – Я знаю, в битвах эйнхериев и в грядущих сражениях Затмения Богов он покажет себя не хуже других. Выпьем за то, чтобы слава его жила вечно в наших потомках!
Он отпил и подал рог Ульвхильд; она прошла к очагу, прикоснулась губами к окованному серебром краю и отлила немного в очаг. Головни зашипели, взметнулся пар. Из глаз Ульвхильд снова потекли слезы – она будто вручила рог мертвому мужу, вновь взглянула в лицо своему несчастью. А Свен вдруг подумал: она – настоящая валькирия! Она вступила в брак с Гримом и тем самым избрала его на гибель, как это делали другие посланницы Одина. И пусть она не сама пожелала этого брака… воля богов творится руками людей, но помимо их воли, так оно и должно быть. Теперь ей остается, как в сагах, лишь горевать над мертвым. Погибни Грим где-то поблизости, получи родня его тело – Ульвхильд могла бы пожелать пронзить себя мечом над его курганом, чтобы вновь соединиться с ним…
В груди что-то оборвалось, стало зябко. Не повезло Гриму… Нет, нет! Свен отогнал эту мысль: погибнуть молодым и со славой – завидная участь. Однако для себя он предпочел бы то же самое, но попозже…
Свен покосился на Витиславу: на лице ее отражалась жалость, в глазах тоже блестели слезы. Жалела она больше свою подругу, чем Грима, которого и знала-то только в лицо. А она сама, подумалось Свену? Высотой рода Вито не уступает Ульвхильд… Что, если и в ней скрыта Избирающая Павших? Вспомнилась их странная «брачная ночь», лицо девочки на подушке, лежащий рядом с ней меч и отблески на клинке… После той ночи он нарек свой меч Стражем Валькирии. Оборвалось сердце от испуга: не навлек ли он в ту ночь на себя и юную невесту такие силы, которые лучше бы не будить?
По сути дела, она до сих пор – невеста… Брак их еще не состоялся… Что, если он только потому и уцелел – не то что бедняга Грим? Свен сидел, оледенев, не в силах отвязаться от жуткого ощущения, будто напротив него сидит его смерть – манящая, прекрасная, но неотвратимая. И ждет, когда он придет в ее объятия…
Тем временем Тьяльвар встал за столом, держа в руках лиру. И подвиги мало значат, если о них не сложены песни. Уже на обратной дороге Тьяльвар, лучший в дружине скальд, стал складывать песню в честь Грима и теперь, как свидетель, был готов поведать людям о доблести вождя.
- Лун бортов немало
- Грим собрал для рати,
- Пива Гунн обильно
- Поднесли в Дайлеме.
- Щедрый пир валькирий
- Сотворил в Гургане,
- И в Арране густо
- Стрел поток пролился.
- Света вод довольно
- Взял колец губитель,
- Вепрей волн дружины
- Льдом руки наполнил.
- Подлый царь хазарский,
- Жадный к ложу змея,
- На Итиле снова
- Пляску Скульд затеял.
- Ран росы изрядно
- Обронили русы,
- Лебедь рати бледных
- Пил чела сиянье.
- Луны плеч трещали
- В пляске лютой стали,
- Дуб доспеха в брани
- Строй разил хазарский.
- Браги чайки Брюнхильд
- Грим пролил немало,
- Обагрились струи
- Леса рыб в Итиле.
- Диса стрел сказала
- В кольчатом наряде:
- Грима рать оружну
- Ждет в Валгалле Один.
- Горе Фрейе прялки –
- Сгинул столб секиры.
- Дождь щеки обронит
- Хлинн котла в палате.
- Плачут липы злата –
- Пали клены стали.
- Мы заботу змея
- Привезли для Ульвхильд[7].
Люди слушали затаив дыхание. Будто подтверждая справедливость песни, по лицу Ульвхильд текли слезы. Звон струн и голос певца освятили ее горе, сделали слезы юной вдовы драгоценными, как всякая часть предания о доблести. Это горе равняло ее со знаменитыми женщинами древности, как сама песнь равняла Грима с теми давно павшими витязями, с которыми он теперь сидит в палатах Одина за одним столом.
– Ты должна наградить певца, дочь моя, – напомнил Олав среди потрясенной тишины, когда Тьяльвар закончил.
Отирая щеки, Ульвхильд встала, взяла со стола ближайшую чашу, приблизилась к Тьяльвару и вручила ему. Он почтительно поклонился, принимая дар; издавна повелось, что за строки, закрепляющие славу вождей в веках, платят серебром и золотом, ибо слава и золото имеют равную ценность.
– Ну а теперь хотели бы мы услышать, – продолжал Олав, когда Ульвхильд вернулась на место, – как вышло, что Грим-конунг погиб на хазарской земле, там, где у нас был заключен договор о безопасном проходе.
Мужчины за столами повернулись к нему.
– Расскажите мне все! – потребовал Олав. – Я не стану брать с вас клятв, я знаю, что вы и ради собственной чести скажете нам всю правду – отчего вам привелось сражаться там, где вы должны были пройти мирно? Сыновья Альмунда, – он взглянул поочередно на Годреда и на Свена, – раз уж вы вдвоем были вождями вашего войска в то время, я хочу услышать это от вас.
Братья переглянулись, и Годред неторопливо встал…
Глава 3
…Выбравшись из многочисленных запутанных рукавов при устье Итиля, составлявших как бы отдельную зелено-водную страну потоков и озер, войско русов встало длинным станом вдоль главного русла. Место под постой им определили заранее, они стояли здесь еще на пути к морю два года назад. Сам город Итиль остался на переход восточнее, он располагался на другом рукаве реки: хакан-бек Аарон не жаждал видеть семь тысяч вооруженных чужаков вблизи столицы каганов. Длинный участок сухого пологого берега давал возможность разместить большое войско. Изгиб реки Итиль здесь образовывал как бы широкий, плавно очерченный полуостров; выше и ниже поток разделялся на два рукава, и стан находился между двух водяных развилок.
На третий день к русам явился тархан по имени Варак; как сами беки и каганы, их приближенные были жидинской веры. Сказал, что хака-бека Аарона в Итиле нет, тот отправился на летнее кочевье, как у них в обычае. Но ждать хакан-бека до осени русы не собирались: все очень хотели рассчитаться и поскорее двигаться дальше, в сторону дома.
С Вараком прибыл целый отряд: прислужники, вооруженные дощечками и палочками для подсчета и записи, а еще три десятка сарацинских всадников-арсиев, составлявших охрану и ближнюю дружину бека. За этот поход русы сильно разбогатели на оружие и доспехи, но только у вождей хватало всего, а каждый из воинов хакан-бека был снаряжен, как у руси вождь. А здесь была только их малая часть! Не без зависти, с тайным восхищением и явной неприязнью русы рассматривали «хасанских гридей». Всадники на хороших конях имели высокие остроконечные шлемы с пучками конского волоса на маковке, кольчуги и пластинчатые доспехи, железные наручи и поножи, щиты, длинные копья. Богато украшенные золочеными бляшками воинские пояса с двумя-тремя ременными «хвостами», второй саадачный пояс, где висели луки с узорными накладками, бьющие, как говорили, без промаха на сто, а то и на двести шагов. Лица арсиев закрывали кольчужные бармицы, отчего казалось, что это железные люди, неуязвимые и бездушные. Встреча предполагалась мирной, никто не собирался драться, но одним своим видом арсии внушали мысль о превосходстве военной силы Хазарского царства над любыми смертными из любой части света. Только греческие катафракты могли бы с ними соперничать.
Показать силу тархана Варака понуждало отнюдь не пустое тщеславие. По заключенному три года назад уговору хазарский царь должен был получить половину взятой русами добычи. И раньше такой договор не казался русам справедливым – уж больно много хакан-бек хочет. Сидя дома, взять столько же, сколько они, воевавшие, проливавшие кровь, отдавшие жизнь за это серебро! Но Боргар клялся, что никак иначе было нельзя, даже на треть хакан-бек не соглашался. И чего ему соглашаться: никакого иного пути в сарацинские земли, кроме как через владения каганов, не существует, никто пока не смог его отыскать. С какой стороны ни подойди – а без согласия хазар не пройдешь. Ясно было, что теперь, когда придется отдавать политое своей и товарищей кровью серебро, многие будут возмущаться. Грим сын Хельги как старший вождь похода созвал всех воевод к себе в стан и особо напомнил: возмущения не допускать, путь по хазарским владениям еще долгий, и случись раздор – с Итиля на Ванаквисль выбраться будет трудно. На реке еще туда-сюда, но переволоку не одолеть, если придется на ней биться с конными хазарами. Все пообещали держать слово и унимать своих людей. За два года и вожди, и отроки устали от войны, мысли и мечты устремлялись домой, к позабытой мирной жизни, новых раздоров никто не хотел.
Для Варака поставили большой цветной шатер, вокруг вырос целый стан его дружины. Лошади арсиев паслись дальше в степи, но два раза в день их пригоняли на водопой, и русы толпой собирались посмотреть. Дней десять шел осмотр добычи. Варак мог объясняться по-славянски, и вожди по большей части его понимали. В стане каждой дружины выносили из лодий все до последнего, все тюки, мешки, корзины. Прямо на траве раскладывали серебро и платье. Арсии держались поодаль – в русский стан тархана сопровождало всего пятеро, – зато везде мелькали его подручные: в высоченных остроконечных шапках с полями, из желтовато-белой валяной шерсти, в полосатых накидках поверх шелковых халатов. Добычу осматривали, записывали, высчитывали половину. Варака неизменно сопровождал кто-то из старших русов: или сам Грим, или Амунд, князь плеснецкий, или Годред, или Фредульв – доверенный человек Хельги Хитрого, воевода полян и киевских русов. Постоянно возникали споры: подручные тархана явно преуменьшали стоимость того, что хотели взять, и преувеличивали стоимость того, что собирались оставить русам. Попутно Варак расспрашивал о походе: где побывали, с кем бились, с кем говорили, что видели.
Но наконец Варак взял свою долю, тюки опечатали и увезли. Свернули шатры, арсии ушли в степь на восток, к городу Итилю, оставив только кострища и кучи конского навоза. На прощание Варак заверил, что русы могут продолжать путь, и просил передать от него почтение их владыкам: Олаву в Хольмгарде и Хельги в Киеве.
Следующий день Грим отвел на сборы, с тем чтобы на заре второго дня тронуться в путь. Глядя на низменную зеленую равнину, уходящую к синему небокраю, Свенельд вздыхал: соскучился по лесу, по прохладе ветвей. Остались позади рощицы ивы да вязы, стоявшие за полосой прибрежной осоки, дальше от жерла Итиля росли только осока, полынь да тростник. В протоках и озерах в эту пору галдели бесчисленные птичьи стаи, и все войско питалось, стреляя цапель, гусей и лебедей. Ловили здоровущих осетров, сазанов, щуку, леща. Рыбу варили вместе с птицей. Местные жители пригоняли на продажу скот, привозили соль. Соль в этом краю была дешева – хазары берут ее на озерах неподалеку и продают, – и запасались на всю обратную дорогу, которой предстояло еще месяца три. Вспоминая зимние леса Гардов и Мерямаа, Свенельд едва верил, что они ему не приснились. Такой далекой отсюда казалась вся собственная жизнь, что была до этого похода! Два года снега не видал!
После гибели Боргара Черного Лиса и Хродрика Золотые Брови под рукой у сыновей Альмунда оказалась вся северная дружина: хольмгардские русы, приильменские словены, варяги из заморья, мерен, северная чудь, псковичи княжича Благомира и псковская чудь, всего четыре тысячи человек без малого. У каждой дружины были свои вожди, но верховное главенство делили Годред и Свенельд как люди наиболее знатные, близкие к Олаву-конунгу, показавшие себя отважными и толковыми. Дружина Южной Руси – киевские русы, варяги, нанятые Хельги киевским еще для похода на Константинополь, поляне с обоих берегов Днепра, древляне и радимичи, подчиненные киевскому князю, союзные ему бужане и волынские русы со своим князем, Амундом, – несколько уступала северянам в числе, их было чуть больше трех тысяч. Между собой ратники из разных мест общались в основном на славянском языке – его знали все, кроме свеев и данов. Молодой Грим, сын киевского князя Хельги Хитрого, женатый на дочери Олава, был главным вождем объединенного войска и поэтому назывался князем, хотя восхождения на отцовский стол в Киеве ему еще предстояло дождаться. Его ближнюю дружину составляли киевские русы – наиболее сильная, опытная, хорошо вооруженная часть войска, числом человек в двести. Не сказать чтобы все это весьма разношерстое и разноязыкое воинство хорошо ладило, случались между дружинами из разных мест споры при дележе многообещающих мест для грабежа, иной раз доходившие и до драк, но в целом старшие вожаки – Грим, Амунд, Хродрик, Халльтор, Боргар, потом Годред и Свенельд – умели договариваться между собой, чтобы раздоры и соперничество не ослабляли войско.
Через низовья Итиля от моря северная часть войска шла впереди, перед Амундом с волынцами и Гримом с киянами, поэтому ей достался передний, северный край общего стана. Слева текла река Итиль, широкая, как море, справа уходила вдаль ровная, как стол, зеленая по весне степь. С северной стороны река делала плавный изгиб, так что место стана напоминало полуостров. На юг, сколько хватало глаз, уходили шатры и пологи из парусов – когда-то белые, а теперь побуревшие от пыли и грязи, – навесы из зеленой, уже увядшей осоки и веток. Тянулась вдоль береговой полосы вереница лодий – больше трех сотен, побольше и поменьше. Вяло дымили бесчисленные кизячные костры под большими дружинными котлами. На жердях висела длинными рядами рыба – вялилась впрок, на земле были разложены выстиранные в реке рубахи, порты, кафтаны.
Было еще самое начало лета, но к полудню навалилась жара. В степи стрекотали кузнечики, пахло густым травяным соком, полынью и горячей землей.
Шевелиться не хотелось, хольмгардский стан казался вымершим. Даже ветру было лень дуть, над станом висело душное марево. На открытом ровном берегу тень давали только полотняные шатры, навесы из парусов, подобия шалашей из нарезанной осоки, уже высохшей за долгие дни под жарким солнцем. Кто-то ушел купаться к плесу, кто-то отправился на лов и рыбалку, кто-то дремал в укрытии. Никого живого не было видно на северном краю стана, только Незван, немолодой словенский оружник, следил за котлом да отрок Гостилич ковырял подметку своего черевья, пытаясь в который уже раз как-то ее приладить. Старая обувь у всех давно пришла в негодность, истертая на каменистой земле, умельцы шили новую прямо в походе, а многие переобулись по-сарацински, в высокие кожаные сапоги и чулки, связанные из козьей шерсти с шелком.
– Как порубили всех, – буркнул еще один ратник, словенский уроженец Быслав – среднего роста, крепкий, с полуседой-получерной бородой и такими же волосами, выступающими острым мысом у лба.
Продолговатое лицо выдавало примесь варяжской крови, что на берегах Волхова не редкость. Глаза были прищурены от солнца, из-за чего между косматых бровей над переносицей поднимались две глубокие морщины. Он лежал под навесом из осоки, позади Гостилича, подпирая голову рукой, и рассматривал неподвижные ноги, торчащие из таких же укрытий.
Помешивая в котле черпаком на длинной ручке, Незван то и дело поглядывал в сторону степи. Ровная, как стол, она уходила в самую даль, где зелень трав перетекала в синеву неба. И вот в этой дали образовалось пыльное облако. Сначала Незван думал, в глазах мутится от жары. Но облако не рассеивалось, а все росло и обретало плотность.
– Эй! Алмундовичи! – Встав на ноги, Незван замахал черпаком. – Вроде едет кто! Небось опять Варакова чадь.
– Забыли чего? – хмыкнул Гостилич.
– Навозу пару куч оставили, – бросил Быслав. – Подумали да пожалели: надо бы взять, пригодится! Эти ведь и плевка даром не бросят.
Гостилич поднял голову и, прищурясь, вгляделся в степь. На его загорелом лице тесно сидели веснушки, выгоревшие короткие волосы казались совсем белыми. Опасаясь жары и вшей, даже Тьяльвар давно расстался с длинными волосами, большинство просто выбривали головы, чтобы не сойти с ума от жары, если придется надевать шлем, а в иное время носили сарацинские небольшие шапочки из шелка, прикрывавшие макушку от солнца.
– Что-то пылят больно, – протянул Гостилич, сдвигая свою шапочку на самую маковку. – Может, сам хакан-бек пожаловал?
– Опоздал, ляд его бей, – буркнул Быслав. – Мы уж свою дань заплатили, больше не дадим. Алмундовичи! – привстав, закричал он в сторону шатра со стягом на шесте, где обитали оба молодых вождя. – Свень! Годо! Проснитесь, к вам бек пожаловал!
– Не, ты гляди! – Незван потыкал черпаком перед собой. – Экая сила! Не к добру это!
– Ой божечки… – Гостилич уронил свою обувку и уставился в степь, раскрыв рот.
Нехорошее предчувствие прогнало лень и сонливость. Быслав живо встал и вышел из-под навеса. Едва бросив с высоты своего роста взгляд на пыльную тучу, он переменился в лице и бешено, яростно заорал:
– Гля-а-а-адь!!!
Не время дремать – все было очень и очень плохо. На сонный стан катилась гибель. Земля начала подрагивать от топота сотен и сотен копыт.
Разбуженный этим криком – будто небо валится на землю, – Свенельд на четвереньках выбирался из-под навеса и всем телом ощущал эту дрожь земли. Теперь уже со всех сторон доносились крики:
– Войско идет!
– Конница!
– На нас!
– К оружию!
– Поло́-о-ох![8]
– Сбор! Труби! – орал Быслав.
Свен выхватил из-под тряпья рог, лежавший в углу возле мешков, вскочил на ноги и изо всех сил затрубил сбор.
Ему ответили рога из других станов – пыльное облако, в громе копыт несущее земную грозу, начиненную молниями острых клинков, уже увидели все. За долгий поход русы и все их спутники привыкли к внезапным тревогам, но здесь, на земле если и не дружественной, то обещавшей им безопасность, повторения их никто не ждал. Шум катился с севера на юг, огромный, растянутый на много перестрелов стан закипал: одни бежали от реки к шатрам – иные совсем голые, прямо из воды, – другие выскакивали из разнородных укрытий им навстречу, успев схватить только что-то из оружия: одни порты на теле, ноги босые, зато шлем на голове. Сталкиваясь и спотыкаясь, тянули руки к топорам и щитам, не заботясь ни о чем другом. Грохот копыт отдавался в ушах и кипятил кровь, будто сама Марена бьет в исполинский бубен мертвой костью вместо колотушки.
Гроза накатывала с севера, и северный край общего стана, занятый людьми из Хольмгарда, на ее пути оказался первым. Не все еще успели вооружиться, когда пыльная туча начала извергать десятки стрел, пускаемых с седла на лету. О том, чтобы построиться, северным русам не удалось даже подумать, а из пыльного облака уже вынырнули всадники, размахивая над собой длинными, слегка изогнутыми однолезвийными мечами. Сквозь грохот копыт доносились пронзительные воинственные кличи.
Еще несколько вздохов – и лава налетела на крайние шатры и навесы, сметая их вместе с людьми, кому не повезло угодить под копыта. Незван, бросив черпак, побежал к шатру, где лежало его снаряжение, но тут же в спину ему вонзилась стрела. Быслав отскочил от костра и повернулся, но всадник уже налетел на его шалаш из осоки и снес его, растоптал.
– Джундалла![9] – вопили со всех сторон десятки чужих голосов.
Лошадь замешкалась, запутавшись в упавших жердях. Из-под груды осоки торчало древко копья; Быслав схватил его и ткнул покачнувшегося всадника в бок, прямо над блестящим накладками богатым воинским поясом. Всадник завалился с седла, но порадоваться Быслав не успел: в тот же миг его снесла грудью другая лошадь, прошлась копытами по спине. Гостилич и вовсе только встал, как другой всадник, перегнувшись с седла, секанул его мечом по шее и умчался дальше.
Без труда прорвавшись через край стана, конница вышла к реке. Сюда воины и стремились: к лодьям, где уже была уложена заново упакованная половина добычи – доля русов. Но радоваться оказалось рано: сопротивление русов еще отнюдь не было сломлено. Только теперь оно и началось. Первый натиск снес только край стана, совершенно не готовый, но стоявшие дальше не теряли времени на удивление. Даны и свеи помещались за Хольмгардом, и у них было на несколько мгновений больше. Их вожди, Ормар и Халльтор, успели надеть шлемы, взять щиты и построить людей. Всадников встретил ощетинившийся длинными копьями строй, и он быстро уплотнялся, по мере того как подбегали новые воины. Летящая волна замедлилась, развалилась и завязла. Стена щитов выдержала удар, хоть и прогнулась кое-где. Неудержимый полет через стан сменился довольно вязкой дракой. Варяги и русы были сильны в пешем строю и уже получили опыт столкновений с конницей. Имея за спиной воду, северяне бились отчаянно, а окружить их не давала та же вода и густая вереница лодий. Лучники забирались в лодьи и били оттуда поверх голов строя, снимая с седла одного всадника за другим. Видя, что здесь стену не пробить, конница разошлась в стороны и устремилась вдоль берега, отыскивая проход полегче.
Сонный и тихий стан, млевший в полуденном знойном мареве, почти мгновенно превратился в место яростной схватки. Будто злой колдун ударил по струнам гуслей, пробудил дремлющих и против воли послал их в смертельную пляску, вместо песен сопровождаемую криками боли, хрипом, ржаньем лошадей, треском щитов, лязгом железа, боевыми кличами на разных языках. Между степью и рекой, среди растоптанных шатров, обрушенных навесов, затоптанных костров шло сражение: где-то отбивался десяток, где-то просто двое спина к спине.
Русам помогало еще и то, что многие из нападавших, отвоевав часть стана, прекращали преследование и принимались грабить обрушенные шатры: хватали разбросанную одежду, дорогое оружие, опрокинутые блюда и чаши из серебра – многие пользовались ими в походном быту, будто хвастаясь перед богами своей удачей. Блеск оброненных сокровищ заменил им щиты и стены укреплений: мечась от одной вещи к другой, арсии невольно давали им несколько драгоценных мгновений, чтобы взять оружие и добежать до своих. А хотелось больше – ведь арсии своими глазами видели, сколько всего награбили эти собаки в Табаристане, Гургане, Ширване! Половина ушла хакан-беку Аарону, но вторую половину можно было взять, отомстив заодно за разорение единоверцев. Всадники спешивались, чтобы порыться под пологами шатров, вспарывали мешки и вступали в бой только с теми, кто вставал у них на пути.
Иные из русских ратников, видя, что путь к оружию и товарищам отрезан, искали спасения в воде: убегая от настигающих копыт, прыгали в Итиль и плыли прочь изо всех сил. Иные так и тонули, получив стрелу в спину.
Но все же главной целью нападавших были лодьи, где сокровища лежали, уже собранные и увязанные в мешки. На одной из лодий ловко отбивался сразу от троих совершенно голый, еще с мокрыми волосами – купался, когда все началось, – светлобородый здоровяк. Он не побежал к своему шатру, а вскочил в ближайшую лодью и живо нашел среди поклажи кривой сарацинский меч. Вместо щита взял лежавший здесь же большущий медный кувшин. На его щеке и на скуле уже краснело несколько мелких ран, но он, не замечая, продолжал отчаянно драться: одному из арсиев, вскочившему на борт, подсек ноги, другому врезал кувшином по лицу, а с третьим, который уже примерился ткнуть удальца пикой в живот, помог такой же голый товарищ: хватил сбоку веслом, как дубиной, и сбил в воду – только круги пошли.
Свенельд встретил натиск «почти готовым»: на нем были порты, и он, поскольку лежал в шатре рядом со своим оружием, успел надеть шлем, взять щит и меч. Держа в зубах шлем Годо, он выполз из шатра, повертел головой, но нигде брата не увидел, а искать и звать было некогда.
– Ко мне! – бросив второй шлем, изо всех сил орал он. – Хольмгард! Люди Олава! Все ко мне!
Срывая голос, он созывал людей, которые в это время были в стане, и к нему бежали десятками. Шлем Годо он тут же кому-то отдал, но щит и оружие успел прихватить почти каждый. Два года они привыкали даже во сне оружие и обувь держать под рукой, но сейчас и обувью можно было пожертвовать. Всадники, рванувшиеся было к шатру со стягом, где надеялись на хорошую добычу, повисли на копьях и сами полили кровью утоптанную землю.
Кто напал, было ясно: те самые арсии, сарацинская стража хакан-бека, что сопровождали Варака при дележе добычи. Только теперь их было не три десятка, а много сотен – сколько именно, не удавалось понять. Однако после растерянности первых мгновений русы сумели собраться в несколько крепких отрядов и отбили наскоки конницы. Лишь с десяток всадников прорвались к лодьям, но там их вскоре прикончили, окружив.
Не встревая в драку сам, Свен стоял у шатра под стягом, управляя образовавшейся перед ним «стеной щитов». Арсии, конечно, заметили, кто здесь вожак, в его сторону прицельно летели стрелы. Одна чиркнула по шлему, две вонзились в щит. Перед ним стояли четверо его телохранителей; вот какой-то особенно лихой всадник проскочил сбоку, ринулся на него, занося меч для удара; Свен, прикрываясь щитом, изо всех сил врезал Стражем Валькирии по лошадиной морде. Лошадь стала заваливаться с разрубленной головой; Логи тут же подтолкнул потерявшего равновесие всадника копьем в бок, Хольви швырнул того наземь и рубанул топором по горлу, под задравшуюся бармицу.
А потом явилась подмога: под рев рогов, молотя топорами по щитам, с криком «Ру-у-усь!» подошли волынцы – дружина Амунда, князя плеснецкого. Битва в стане северян дала ему время полностью снарядить и построить людей. Амунд, за которым по всему войску закрепилось прозвище Ётун, повел дружину сам – под стягом, с трубачом, с шестью телохранителями и еще одним хирдманом для охраны знаменосца. Когда до волынского стана докатились первые всадники, прорвавшиеся через северян, им навстречу выступила длинная, прочная стена круглых щитов, шлемов и копий; ревущая, бьющая топорами по умбонам, она быстро наступала, грозя наколоть на острые жала и снести. А над головами первого и второго ряда виднелось настоящее чудовище – великан, весь в железе, он возвышался над войском, как верблюд над табуном лошадей, и ревел низким громким голосом, размахивая над собой таким же огромным мечом. И всадники поворотили коней, понимая, что без строя, без разгона сойтись с этим войском русского шайтана – верная смерть.
Заметив, что арсии отступают – один, другой, целый десяток, – Свенельд понял: в битве случился перелом. Потом увидел волынцев: они бежали сюда, запыхавшиеся под весом оружия и доспехов, но полные ярости и желания вступить в схватку.
– Ру-у-усь! – громче рога орал Амунд, и меч в его поднятой руке, казалось, вот-вот ранит небеса.
Видя подмогу, и Свенельд велел наступать. Битва покатилась обратно: одного за другим арсиев выдавливали из стана, опрокидывали, рубили, успевших увернуться гнали прочь.
Отступавших становилось все больше: видя, что противник опомнился и легкого разгрома не вышло, арсии спешно отходили обратно в степь. Тех, кто слишком увлекся и оторвался от своих, русы били копьями, тянули с седла и рубили. Остальные умчались, увозя то из добычи, что сумели ухватить, и вот уже лишь густая пыль над степью напоминала о конной лаве, что приходила с той стороны.
Сняв шлем, Свенельд вытер лоб. Он весь взмок от пота, с головы до ног. Глаза щипало, руки и ноги дрожали. В изумлении оглядывал себя: на нем одни порты да шлем, а гляди ж ты, не убит и даже не ранен. Кажется… А нет, ребра саднит – задело стрелой вскользь, но царапина неглубокая. Он даже той стрелы не заметил…
В голове гудело. Это что, сон от жары привиделся? Солнцем голову спекло? Нет, ётуна мать, все на самом деле. Но уж слишком внезапно мирный стан русов, считавших, что они уже в безопасности, мало что не дома, превратился в истоптанное поле битвы, заваленное телами, разбросанными вещами, залитое кровью. Еще дымились затоптанные костры – вот как быстро все случилось, а казалось, целый день миновал. Со всех сторон несся крик: вопли раненых людей и ржанье лошадей. Уцелевшие тоже орали и бранились, так что закладывало уши.
А Годо где? – вдруг спохватился Свен. Когда он выбрался из-под навеса, со своим снаряжением и шлемом Годо, который за ремень держал в зубах, брата нигде поблизости не было. Шлем… куда-то делся, и шайтан с ним. Сам Годо-то где?
Но тут же всплыли другие заботы, оттеснив беспокойство, и Свен завертел головой: раз Годо не видно, заниматься делами ему одному. Собирать и перевязывать раненых, прикончить бьющихся на земле раненых лошадей, проверить, не осталось ли где врага, выставить охрану стана – и не возле лодий, где она имелась и свое дело сделала, а дальше, выдвинуть в степь шагов на сто. Догадайся они это сделать заранее, этой беды можно было бы избежать! А теперь… первым делом подсчитать живых и мертвых! Сколько потеряли, с чем остались? И что с добычей?
Тела лежали сплошным ковром, одно на другом, как бурелом в лесу, – порубленные, окровавленные. Глаз цеплялся за них везде, куда падал. Еще неясно было, сколько там раненых и сколько мертвых, и размеры потерь не доходили до рассудка.
Раздавая спешные указания, Свен прошел по стану и возле лодей внезапно нашел Годо. Тот стоял совершенно голый, с мокрой бородой, в одной руке держа кривой сарацинский меч, а другой стирая кровь с лица. Возле ног его лежал здоровущий медный кувшин, и Свен, сквозь громадное облегчение, успел подумать: он будто дух, что жил в медном кувшине и выходил, чтобы исполнить приказ колдуна, – такую сказку сарацинскую им рассказала одна рабыня в Аране, говорившая по-славянски.
– Ты в кувшине, что ли, отсиделся? – Свен подошел к брату, но тут Годо обернулся, и Свен охнул:
– Ё-отунов свет! Глаза целы?
На первый взгляд показалось, что все лицо брата залито кровью.
– Морду твою вижу! – обнадежил тот. – Держи, пойду умоюсь.
Он вручил Свену сарацинский меч и ушел к воде. Только теперь Свен вспомнил, что перед тем, как все это началось, пока он дремал в шатре, до него вроде донесся голос Годо: он, мол, купаться пойдет. С собой звал, но Свен, после самой трудной предутренней стражи, просыпаться не захотел.
В мелкой воде меж лодьями виднелись два трупа – арсии. Видно, Годо постарался.
– Ну что, как вы, Хольмгард? – раздался рядом низкий голос. – Потери большие?
Свен обернулся – перед ним высился огромного роста мужчина, человек-дуб. Амунд плеснецкий был не только единственным во всем войске человеком княжеского рода, кто сам владел родовым престолом, но и самым в нем огромным. Даже над Годо, одним из самых рослых, он возвышался более чем на голову, а по сравнению с прочими и вовсе казался существом другой породы. При первом знакомстве с ним сыновья Альмунда заподозрили, что это не человек, а ётун – огромный и лицом уродливый, точно как положено инеистому великану. А благодаря хазарскому же остроконечному шлему, украшенному пучком орлиных перьев, и кольчуге Амунд плеснецкий казался живым деревом из железа. И голос у него был под стать росту – громкий, низкий, густой, на поле боя он разносился не хуже, чем рев рога.
– Сейчас подсчитаем, – ответил Свен, ощущая себя, в портах и босиком, какой-то чащобой перед этим земным Перуном. – Но явно большие – мы же с самого краю, наших стоптали, еще пока никто одеться не успел.
– Да я видел! – Амунд покосился на медный кувшин с помятым боком, валявшийся на песке. – Я бы сказал, пусть твой брат этот меч возьмет себе на память. – Он кивнул на сарацинский меч в руке Свенельда. – Голым отбиться от троих полностью вооруженных – это подвиг!
– Отправь твоих людей в охрану! – Свен кивнул в сторону степи. – У нас не хватит…
– Поставлю, – ответил Амунд, и Свен торопливо ушел обратно в свой стан.
Тот представлял собой жуткое зрелище, и чем больше Свен приходил в себя, тем сильнее ощущал ужас. Все до одного шатры и навесы снесены, а среди развалин везде валяются тела. Внезапность нападения для людей Олава оказалась губительной: многие десятки были порублены окольчуженными всадниками, не успев вооружиться, беспомощные с голыми руками перед кривыми мечами арсиев. Теперь даже сразу не поймешь, где чьи руки и ноги. Уцелевшие уже принялись разбирать их, перевязывать тех, кому это могло помочь. Убитых относили в сторону и выкладывали там. Печальный строй все вытягивался, и Свен, с кем-нибудь вдвоем поднося очередное тело, приходил во все большее отчаяние и ярость. Земля стала скользкой от крови, над станом висела вонь, и уже прыгали поблизости во́роны.
Быслав каким-то чудом оказался еще жив, когда его нашли возле груды растоптанной осоки, но едва его попытались поднять, захрипел, изо рта его обильно хлынула кровь, заливая руки и порты Свена, и Быслав умер прямо у него на руках. Ему Свен сумел закрыть глаза, но другим было это делать поздно: искаженные яростью и изумлением лица так и застыли навеки. «А если б не Быслав, – думал Свен, – и меня растоптали бы спящего, прямо в шатре, и Годо потом бы отдирал от этого месива пропитанный кровью парус… Или так бы в нем и похоронил».
Десять, двадцать, тридцать… пятьдесят тел – порубленных, растоптанных.
– Да ётуна мать! – Чуть не плача от злости, Тьяльвар показал ему руку убитого Круглеца – она была отрублена в запястье, кисть исчезла. – Обручья снимали, глядь! А прочее так и унесли – у него три перстня было…
Волосы шевелились на голове, когда Свен оглядывал ряд мертвецов. Сразу слишком много знакомых лиц угасло навсегда, невозможно было так сразу это осознать. Пострадали почти все дружины северного стана: Хольмгард, словены, варяги. Меньше всего потери были у мере и чуди: те были крайними к стану волынцев, успели отступить туда и присоединились к битве позже, под прикрытием волынского строя. Но ближняя дружина Свена и Годо уменьшилась наполовину, если считать убитых и раненых, это уже было ясно.
Но за что? Почему? Вопросы роились в голове, но их снова оттесняли прочь бешеная злость и горе. Как они взяли эту добычу на Хазарском море, так теперь здесь дружина хакан-бека решила взять добычу с них. Но это была какая-то немыслимая подлость: ведь хакан-бек обещал им безопасность и взамен на это получил половину всех сокровищ! За безопасность, которую тут же отнял, прислав взамен наглую смерть. Попался бы Аарон сейчас Свену, он бы его голыми руками напополам разорвал.
Подсчет еще не был закончен, как в стан пришел Грим-конунг с Фредульвом и своими телохранителями. Гримова дружина при движении по Итилю возглавляла войско и на стоянке заняла передний край. Поэтому он оказался дальше всех от нападавших и пострадал меньше других: когда до них дошел черед, арсии уже были рассеяны, потеряли скорость и запал и не смогли ударить единым кулаком неготовых, как это прошло у них с людьми из Хольмгарда.
Уже понявший, что произошло, Грим был очень хмур. Ему было всего двадцать лет; даже из людей княжеского рода не каждому повезет в восемнадцать лет оказаться во главе многотысячного войска. Ему не хватало опыта, но Грим стойко боролся со всеми трудностями, прислушивался к советам бывалых воинов, но умел настоять на своем, не полагаясь целиком на чужие головы. Крупный нос придавал ему сходство с хищной птицей, близко посаженные зеленоватые глаза, как у отца, мрачно сверкали.
Навстречу Гриму вышел Годо – уже одетый, то есть в портах. На его лице горели два свежих пореза: на левой щеке, на скуле, а самый глубокий, на лбу, был перевязан ветошкой. Кровь из этой раны и заливала ему глаза, так напугав Свена.
– Сколько у вас? – сразу спросил Грим.
– Да ётуна мать! – Грим кривился от злости и при этом шипел от боли ран. – Почти тысяча из строя вон! Третья часть от войска, глядь!
– Убитые?
– Почти три сотни. Да раненых вдвое против того! Не все еще выживут.
Такие внушительные потери бывают не во всякой битве – это называется разгром, избоище, если по-славянски. Русы не привыкли к такому: на Хазарском море им противостояли довольно слабые отряды местных правителей, состоявшие в основном из ополчения, не имевшего ни оружия, ни выучки, ни опыта, и они без труда их рассеивали, открывая себе путь к беззащитным селениям и городам. А теперь Свен и Годо, разом лишившись трети своих сил, были так злы и растеряны, что могли только браниться. Они сами как будто разом стали меньше на треть и никак не могли с этим свыкнуться. В довершение бед среди убитых оказался псковский княжич Благомир, зарубленный перед своим шатром вместе с десятком, что оказался при нем.
– Подходите кто-то ко мне, будем совет держать, – велел Грим сыновьям Альмунда.
Собрались у Гримова шатра, покончив с самыми срочными делами, когда уже темнело. В больших котлах слегка кипела конина – разделали туши убитых во время нападения сарацинских лошадей. Тела арсиев, сняв доспех и все ценное, выбросили подальше в степь. Пришел князь Амунд с его боярами из бужан, Добродивом и Сологостем. У него тоже были убитые, но потери волынцев, встречавших врага в полном снаряжении и в строю, оказались невелики по сравнению с Хольмгардом. Возле Амунда, как обычно, держался древлянский княжич Любодан: древляне шли как лучники, за стеной щитов, и почти не пострадали. От псковичей пришел боярин Вершила – кривичи и чудь выбрали его вожаком вместо погибшего Благомира. От киевских русов был Фредульв, от полян – Унерад и Божевек, от радимичей – Жизномир, младший брат их князя, от заморских наемников – Ормар и Родмар. Дружина Грима, состоявшая из киевских варягов, в это время несла дозор с южного края стана, опасаясь повторения набега.
Обсуждение вышло шумным – все были обозлены, возмущены и встревожены. Нападавших все узнали – насмотрелись на них за те дни, пока тархан Варак получал бекову долю добычи.
– Половину с нас взяли по уговору, гады ползучие, жаба им в рот, а вторую половину решили за так взять! – негодующе кричали воеводы.
– Ну и подлая же тварь этот бек!
– Перекоробь его ляд!
– Это, может, и не бек их послал, – заметил Амунд, перекрывая шум.
– А кто же? – Годо уколол его сердитым взглядом.
– Арсии – сарацинской веры. Как и те, на которых мы ходили. За своих нам решили мстить.
– Но как они могли посметь, если хакан-бек им не приказывал? – возмутился Грим. – Он им не хозяин, что ли? Не он ли, Аарон, нас на аль-Баб и Ширван посылал? На Гурган и Табаристан? Не он ли нас просил Али Хайсаму и Мухаммеду Хашиму побольше урону нанести? Мы уж постарались, – при этом в угрюмой толпе кое-где раздались смешки, – а он нам за это же мстить?
– Как эти хасаны служат беку, когда он воюет с другими хасанами? – спросил Любодан. – Если так за своих радеют, что же их ворогу на службу пошли?
– Те из Хорезма, – пояснил Амунд. – Я, пока они здесь стояли, потолковал немного со старшим их, Газир-беком. Он поминал, что Хорезм с Ширваном враждует. И хазары с Ширваном враждуют, потому хорезмийцы и служат им. Каганы и беки им платят хорошо – говорят, своим не доверяют.
– Стало быть, они служат хакан-беку, а нам мстят за его врагов? – Годо упер руки в бока. – Сами они, гриди бековы, выходит, его врагов руку держат? Нынче на нас набросились, а завтра его самого порешат?
– Туда ему и дорога, глядь!
– Да я бы таких… – Грим сердито прищурился, – воинов недолго у себя держал! Не верю, чтобы Аарон не знал! Чтобы его люди так своевольничали, нарушили слово своего господина, покрыли его позором на весь белый свет!
– Когда мы к морю шли, они не мешали нам! Тогда им заморских хасанов не жалко было! А как назад идем с добычей, так сразу за своих мстить решили!
– Добыча наша им нужна, да и все!
– Так Варак говорил, что хакан-бека нет в Итиле, – напомнил Добродив. – Вот они без хозяина и ошалели.
– Да насвистел он! – Грим махнул рукой. – Чтобы хакан-бек в степи ушел, а дружину свою ближнюю оставил? Вы же видели – их были сотни, тысячи, они здесь все! В Итиле тот гад сидит. Подлец этот! Знал бы – получил бы он свою половину, как же! Сами, своими руками ему столько сокровищ отдали! Да лучше б мы их в реку побросали, Итиль-река благодарнее была бы!
– Давай-ка двигать дальше! – крикнул Чернигость, воевода левобережных полян. – Что теперь толковать – с чего да почему. Уходить надо, пока хоть что цело!
– А мертвецы? – возразил ему Годо. – А раненые? У меня тех и других вместе тыща человек на руках! Мертвых надо хоронить, а как? Где здесь столько дров взять? – Он махнул руками в степь, где не было ничего, кроме жесткой травы.
Бросить своих мертвых без погребения, конечно, было нельзя, но как хоронить разом три-четыре сотни человек в местности, где почти нет леса? Негде взять сухих дров для такого множества погребальных крад; ни смолы, ни соломы, ни даже сухой осоки – ту уже вытеснила свежая, зеленая. Нет лопат, чтобы выкопать такие огромные ямы и возвести курганы. После долгих споров решили собрать мертвых на лодьи, которые без них все равно некому вести, поджечь и пустить по Итилю в море. Так они все равно попадут на тот свет, но едва ли злобные хазарские псы сумеют до них добраться. А то они ведь и мертвых разденут, не постыдятся.
Еще решили держать треть всех здоровых в постоянном дозоре, окружая стан со всех сторон. Хорошо, что хотя бы с запада его прикрывала река Итиль. Ближайшую ночь взял на себя Амунд.
– Завтра хороним, послезавтра выступаем, – завершил совет Грим. – Чешутся прямо руки пойти сжечь у них хоть пару сел…
– До Итиля-города – один переход, – намекнул кто-то на северном языке из темноты. – Они нас-то не ждут к себе в гости…
Грим сердито стиснул зубы. Все его существо жаждало мести за предательское нападение и большие людские потери, но он понимал, что на целый пеший переход оторваться от лодий, от своих раненых и добычи было бы слишком уж неосторожно. Все равно что своими руками вручить все это врагу.
– Посмотрим, может, на другое лето на сам Итиль еще сходим! – сказал Грим своим, киевским варягам, пока прочие расходились по станам. – Нельзя спустить им, собакам, а торгового мира, ясное дело, у нас больше нет!
Он был прав. И этой потере, как понимали опытные киевские мужи, и Хельги Хитрый, и Олав огорчатся не менее, чем потерям в дружине.
Далеко за полночь Свен и Годо решили по очереди поспать. Очередь Свена настала уже незадолго до рассвета: до того он все обходил стан, проверял раненых – за ночь умерло еще одиннадцать человек, – и все вслушивался, не задрожит ли земля, не раздастся ли грохот копыт, не долетит ли знакомый крик «Джундалла-а-а!».
Наконец он залез во вновь поставленный, хоть и порванный копытами шатер. Не разуваясь, улегся на кошму, Страж Валькирии положил рядом с собой, опустив ладонь на рукоять. Мельком подумал: сплю в обнимку с мечом, как с женщиной… Вспомнилась другая ночь с мечом под боком, маленькая валькирия – Вито… Свен улыбнулся нелепости этого воспоминания и тут же заснул… или уплыл куда-то. Сном это трудно было назвать: возбуждение и злость не ушли из его крови, голова плыла, мерещилась дрожь земли. Перед глазами сплошным ковром лежали мертвые тела – слишком насмотрелся за день. Вспоминались убитые, и глаза жгло от злых слез – к ночи он ясно осознал, что его товарищи убиты и ничто их не вернет…
Когда прямо над ухом зазвучал рог, Свен подскочил, еще не успев толком проснуться. Голова кружилась, но рука сжимала рукоять Стража Валькирии. Перед глазами было темно, и он заморгал. Нет, это не сон: за пологом ревел рог, возвещая новую битву. Внутри шатра было темно, однако щель полога смутно светлела. Свен высунул голову – прямо перед шатром врага не было, – вернулся, схватил кольчугу и шлем, выскочил наружу, где были сложены щиты. После вчерашней схватки у его щита одна верхняя доска разболталась, поправить пока руки не дошли.
– Что такое? – окликнул он и тут же сам услышал доносящийся с востока, из темной степи, рев боевого рога и дружный крик.
И топот. Теперь земля дрожала не во сне.
– Волынцы знак подают – опять идут на нас! – крикнул ему Тьяльвар, уже в кольчуге, спешно подпоясываясь. – Давай, одевайся! Они там уже бьются!
Едва светало, лежащая внизу степь была еще черна, лишь желтый глаз встающего солнца, чуть подтекающий расплавленным золотом, таращился сквозь сине-черные облака. С юга донесся слабый звук рога – трубили в стане Грима, призывая все дружины к выступлению. Ему отвечали другие рога, передавая призыв дальше.
Из полутьмы выскочил незнакомый отрок – в шлеме, тяжело дышащий, возбужденный.
– Улебова чадь, вы не спите тут! – с древлянским выговором крикнул он. – Идите на подмогу! Их там до кура много – и конные, и пешцы! Князь послал!
– Идем, идем! – Свен взмахнул рукой. – Держитесь там!
Отрок убежал дальше по стану.
– Откуда у них пешие-то взялись! – выругался рыжий Логи, помогая Свену надеть кольчугу – с самого начала похода он был взят в оружничии, как Свен обещал его старшему брату, Фьялару.
– Откуда ни взялись… – буркнул Свен, подпрыгивая на месте, чтобы кольчуга села на плечах как надо. – Сейчас мы их закатаем в пироги…
Слабый успех первого набега на русский стан – нанеся русам урон, до их основной добычи арсии все же не сумели добраться – не заставил их отказаться от мысли о мести. Весь Итиль уже был полон разговоров об огромной добыче русов, половину которой привез тархан Варак, и желание арсиев отомстить за ограбленных и убитых единоверцев из Ширвана и Табаристана поддержали многие простые жители хазарской столицы – и жидины, и почитатели Тэнгри, которых здесь было большинство, и даже христиане. Вместе с арсиями из Итиля выдвинулось городское ополчение – несколько тысяч человек. Вооружение их составляли луки, копья, топоры, у иных лишь палки и камни, но, воодушевленные мыслью о грабеже, они были полны отваги. Не такие быстрые, как конница, они шли весь день и часть ночи и уже в темноте остановились на некотором удалении от русского стана, где встали отдыхавшие после первого боя арсии. Отсюда были видны тлеющие костры русов – длинная-длинная неровная цепочка. Разведчики донесли, что часть русов стоит на краю степи, перед станом: внезапного нападения больше не выйдет, оставалось надеяться на силу. Помогало то, что за те десять дней арсии до мелочи изучили расположение русского стана, знали и местонахождение добычи, и силы чужаков.
Полного рассвета ждать не стали – едва стало можно видеть землю под ногами, двинулись вперед. Трехтысячная пешая толпа шла в середине, с обоих боков ее поддерживала конница – несколько потрепанная в дневном сражении, но еще весьма сильная. За сотню шагов до стана, когда там впереди уже трубил рог, кони споткнулись о трупы – это были убитые днем арсии. Вид раздетых тел, уже поклеванных воронами и погрызенных степными лисами, еще более разъярил нападавших. Крики «Джундалла!» зазвучали еще яростнее, пехота тоже завопила, поддерживая свой боевой дух.
Доносящиеся из темной степи крики бесчисленных глоток сливались в общий вопль и вой.
– Чисто ку́ды вопят! – сказал Сдеслав, воевода словенской дружины.
В сарацинской кольчуге и шлеме, с щитом и секирой, он прохаживался перед строем своих людей, ожидая знака.
– Проклёнуши! – поддержали его словене. – Воют, игрецы.
После первых знаков тревоги Грим прислал гонца и приказал северным дружинам снарядиться, но оставаться на месте, перед станом, и вступать в бой, только если хазары прорвутся к ним. После тех потерь, какие они понесли вот только вчера, менее суток назад, это было разумное решение. Под гудение рога, горячащее кровь, с дружным торопливым топотом вперед, на звуки битвы, уже прошли одна за одной южные дружины: Грим с его варягами, радимичи, поляне. Волынцы и древляне, судя по звукам, уже вступили в бой, с ними был и сам Амунд плеснецкий.
Когда из темноты стали долетать воинственные крики и земля задрожала, Амунд велел выставить «стену щитов» в пять рядов глубиной. Над головами первого ряда были выставлены копья и ростовые топоры. Чтобы не оказаться прижатым к стану, где кое-как восстановили часть шатров и навесов, он дал знак идти вперед, и «стена щитов», эта ходячая крепость, двинулась в полутьму. Желтый глаз с востока, все сильнее подтекая плавленым золотом, пялился сквозь облака на два воинства, все быстрее сходящиеся на равнине у широкой реки.
– Алла! – кричали с одной стороны. – Джундалла!
– Тэнгри! – вторили им из пешей толпы в середине хараского строя. – Ургэ!
– Алга!
И даже раздавался из толпы знакомый киевским русам греческий клич:
– Кирие элейсон![10]
А с другой стороны раздавался низкий рев:
– Р-ру-усь!
– О-оди-и-ин! – протяжно выпевал во всю мощь своего голоса князь Амунд, призывая Отца Ратей.
– Пе-еру-у-ун! – с другой стороны строя отвечали древляне.
За время похода древлянский княжич Любодан сдружился с Амундом плеснецким: поддерживал его на советах, держался рядом при набегах на селения. Амунд не гнал его, а тем, что Грим и киевские варяги нехорошо смотрели на эту дружбу, только забавлялся: Хельги киевский ему не указ. Он помнил предостережения, которые сделала ему однажды некая коварная валькирия, да и сам был достаточно умен, чтобы не обманываться дружбой Любодана. Но сейчас от древлян требовалось только одно: не подвести и выстоять под ударами хазарской конницы. За время похода древляне тоже обзавелись кольчугами, шлемами и особенно были ценны как лучники.
Исходящая криком многотысячная толпа приблизилась. В русов полетели стрелы, и Амунд приказал поднять щиты. Теперь русский строй стал настоящей крепостью, закрытой и с боков, и даже сверху. Тем не менее стрелы летели так густо, что то здесь, то там кто-то в строю падал, вынуждая товарищей закрывать прореху.
Из полутьмы донесся крик, земля задрожала сильнее – конница арсиев сразу с двух сторон пошла вперед, нанося удар по крыльям Амундова строя. Русы остановились, готовые принять врага на копья. Те ударили враз с такой силой, что строй сразу с двух сторон прогнулся. Во множестве наседая, арсии с воинственными кличами рубили с коней, кололи копьями. Русы сами встречали их копьями, норовя насадить на острие и сбить с коня, рубили ростовыми топорами; сбросив всадника с коня, добивали на земле. Уже носились ополоумевшие кони с пустыми седлами, давя своих и чужих.
Видя, что в лоб волынцев не пробить, хазары попытались вскачь обойти их с тыла, но это не помогло.
– Во-оротись! – прокричал Амунд, и ряды просто развернулись, так что последний оказался в челе, и там всадников вновь встретила плотная «стена щитов».
Такая же стена получалась с любой стороны; арсии бешено носились вокруг волынской дружины, но пробить ее не могли ниоткуда.
Эту суматоху приметили Свен и Годо – все происходило перед ними, и уже достаточно рассвело. Пока всадники пытались пробить волынцев с тыла, братья переглянулись, и Годо махнул трубачу. Нельзя было упустить такой верный случай посчитаться за своих. Заревел рог, северная дружина бегом устремилась вперед. Не успевшие их даже заметить арсии оказались зажаты между двумя русскими дружинами; пытаясь двинуться вперед или назад, напарывались на копья и ростовые топоры. Зажатых в тесноте, их кололи копьями, сбивали с седел, рубили на земле.
Вторая часть конницы в это время наступала с другого крыла, и здесь их встретили древляне. Если ближнюю дружину Амунда составляли русы, опытные в военном деле, то от древлян были только ратники, имевшие лишь тот военный опыт, что приобрели в этом походе. Но и здесь им еще не приходилось сталкиваться с такой мощной конницей. Хуже вооруженные, они прогнулись, и арсии, почуяв слабое место, устремились все сюда. Рубя и топча древлян, хазары прорвались сквозь строй и оказались перед русским станом.
Но позади древлян оказалось новое войско: здесь веял на высоком древке красный стяг самого Грима и блестели в лучах встающего солнца шлемы, кольчуги, пластинчатые доспехи его ближней дружины. Киевские русы, самая сильная часть войска, встретила прорвавшихся всадников и подняла на копья всех до одного. Те попятились, пытаясь восстановить строй, но кияне устремились вперед и продолжили бой.
Тем временем пешее хазарское ополчение оказалось перед дружиной Амунда. От столкновения с конницей он понес потери, но люди его сохранили довольно боевого духа и дружно устремились на толпу. Здесь им противостояли люди, куда хуже их вооруженные и почти неопытные. Дружина волынцев врезалась в них, как железный кулак ётуна, и толпа сразу смешалась. Волынцы рубили, кололи, оставляя за собой ковер из трупов и кричащих раненых; стоял такой оглушительный шум, что никто не помнил себя.
Под натиском Грима и его дружины конница стала отступать. А вслед за тем, видя, как всадники проносятся назад в степь, один за одним, побежали и пешие хазары. Волынцы было устремились за ними, но Амунд приказал трубить сбор, отзывая своих людей назад.
Из светлеющей степи доносился топот и непрерывный крик, похожий на вой. С ветром долетал резкий, горький запах сока растоптанной полыни. Солнце взбиралось все выше, рассеивая по восточному краю неба пятна багрянца, словно тоже было ранено и оставляло за собой кровавый след…
– Вот ведь про́клятое место… – Годо окинул ненавидящим взглядом часть степи перед станом. – Наших три сотни, теперь этих… еще невесть сколько.
Когда рассвело окончательно, глазам предстало зрелище столь жуткое, что и солнце, пожалуй, предпочло бы вернуться за небесные ворота, лишь бы на это не смотреть. Русы уже разошлись по станам, выставив охрану из числа киян, а на месте предрассветной битвы остались сотни тел. Люди и лошади лежали вперемежку. Арсиев волынцы подобрали, чтобы снять с них дорогие доспехи и оружие, но итильское ополчение не трогали. Сотни тел валялись друг на друге, рассеянные по всему полю, сколько хватало глаз: более густо – там, где они натолкнулись на дружину Амунда, более редко – дальше в степи, куда бежали в беспорядке. Там еще что-то шевелилось: тяжелораненые, не сумевшие уйти со всеми, пытались куда-то ползти, а рядом с ними уже прыгали черные вороны, норовя выклевать глаза… До русского стана долетала тяжелая вонь.
Люди Амунда разбирали тела с того края, где конница налетела на древлянскую дружину.
– Побили древлян почти всех, – рассказывал северянам грустный Жизномир, пришедший узнать, как у них дела. – Куда им против тех невидимцев[11]! И Любодана самого срубили насмерть.
Жизномир, младший брат князя радимичей, был плотный круглолицый мужчина средних лет, с небольшими темными глазами и темно-русой бородой. Жизнерадостный и приветливый, он был в дружбе со всеми, даже с теми, кто не ладил между собой, и служил чем-то вроде посредника между северным войском и южным, за что его прозвали Сватом. Его люди в ночной битве почти не участвовали – постояли за спинами киевских русов, да и все, – однако он казался осунувшимся и погасшим.











