Читать онлайн KGBT+ (КГБТ+)
- Автор: Виктор Пелевин
- Жанр: Современная русская литература
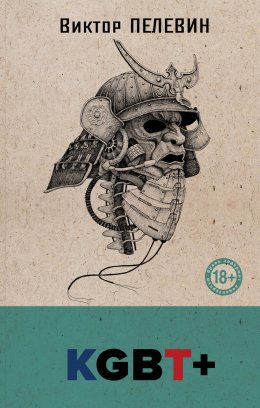
Описанные в книге люди, баночно-мозговые сущности, события и обстоятельства – вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством
(статья 83.34 уголовного уложения Доброго Государства).
- Said the straight man To the late man:
- «Where have you been?»
- I’ve been here and I’ve been there,
- And I’ve been in between.
The Straight Man. Дом Бахии
В наш грозный двадцатый век с его верой в могущество разума и «коллективное творчество масс» (певцы прогресса отчего-то не узнают в нем отката к пирамидам), солдатом быть почетно, а служителем культа стыдно. Достоинства и недостатки моего происхождения, таким образом, уравновешивали друг друга.
Не буду называть своего прежнего имени. Оно теперь не играет роли (в конце рассказа причина станет ясна). Я отпрыск самурайского рода, отличившегося в войнах, давшего стране много воинов и – нелепое, но обычное соседство – буддийских бонз. По семейной традиции я должен был стать священником, а со временем – настоятелем небольшого храма недалеко от Токио.
С раннего детства я мечтал о творчестве. Увы, я был начисто лишен талантов. Кое-чего достиг только в каллиграфии и, как ни странно, кукольном искусстве.
Недалеко от моего дома жил старый мастер, делавший кукол хина и муса для ежегодного кукольного фестиваля. Он трудился целый год и продавал весь запас за несколько первых дней марта. Работал он не спеша.
Я приходил к нему и подолгу смотрел на его труд, подавая материалы – ткани, набитые соломой мешочки, кусочки дерева (они были окрашены в белый цвет ракушечным пигментом), крохотные прически, сделанные из черного шелка или женских волос. Император, императрица, придворные…
Особенно мне нравились куклы воинов. Я помогал мастеру, когда он делал фигурки Тоетоми Хидэеси и его генералов. Меня волновал блеск лака на шлемах и доспехах. Оружие из тонких металлических пластинок было по-настоящему острым – один раз я здорово порезал палец крохотным мечом.
Я знал, что эти куклы живы – хоть, может быть, и не так, как я. Практически без помощи старика я сделал из отходов его производства пару самураев, сидящих на походных стульях. Старик одобрил мою работу, сказав, что у меня есть призвание к этому искусству.
Сам же я был куклой не вполне для Японии обычной. Воспитывали меня в вольнолюбивом светском духе – и образование мое было весьма глубоким, с европейским уклоном. Я несколько лет посещал Токийский императорский университет.
Выучив английский (и немного немецкий), я прочел в оригинале уйму великих книг, обучавших жителей Европы убивать своих королей и жечь города. В китайской древности жечь предпочитали именно смутные книги – и с превосходным для общественной нравственности результатом. Но времена изменились.
Латинские буквы всегда напоминали мне крохотные сосуды – бутылочки, чашки, изогнутые мензурки и витые пробирки. Содержащийся в них яд сомнения и свободы отравил мой доверчивый юный мозг, и я стал воспринимать духовную традицию, которой призван был служить, с известной долей скепсиса.
Выйдя из университета, я провел несколько лет в монастырях, где постигал учение Будды – вернее, его недостоверное, но прекрасное эхо, распространившееся в Китае и стране Ямато. Вместе с другими монахами я стучался в двери минувшего, решая учебные загадки-коаны и предаваясь созерцанию.
До сих пор помню узор на досках пола, куда я смотрел из-под опущенных век, держа в уме му-коан – такой же неизбежный в Дзен, как прыщи в юности.
Мастера Джошу спросили, обладает ли собака природой Будды. Он сказал «му», то есть «нет». В чем смысл такого ответа?
Как решал этот парадокс двадцатый век? На самом деле мастер Джошу иногда говорил «да», иногда «нет». Природу Будды имеет все живое; обладать природой Будды нельзя, ибо кто есть обладатель, и так далее – эти инстинктивные движения ума ведут к ошибке. Ум при решении коана должен молчать. Отвечать нужно точно так же, как Джошу: звуком «му», не вкладывая в него ни «да», ни «нет». «Му» – это просто «му».
В школе Риндзай это знает любой служка. Учитель проверяет, насколько яростно и непобедимо мычит ученик, до какой степени он растворяется в своем мычании; звук «му» должен исходить из низа живота и обладать несокрушимой силой…
Вдумавшись в происходящее, уже тогда можно было понять, что Империю готовят к страшной бойне. Но задним умом сильны мы все.
Мое «му» никогда не было особенно сильным. Ум не желал умолкать – и видел в практике коанов удобный бюрократический протокол, за которым целые поколения настоятелей и бонз могли без труда спрятать свою тупость.
Секта Дзен, отрицая ритуалы, сводит к ритуалу вообще все; но ритуал этот засекречен и ученики гадают о том, как бы им не сесть в лужу. А старшие монахи и мастера, знающие секретный протокол, тем временем выпивают, спят и изображают мудрость. Когда понимаешь это, становится смешно.
Сводить коаны к ритуалу, конечно, неверно – в них был когда-то смысл, и глубокий. Но за века их лезвие затупилось. Где сегодня взять монаха, подходившего к Джошу со своей заботой о природе Будды? Фальшь здесь в том, что тебя заставляют отвечать на вопрос, который перед тобой не стоит, и просветление от такого метода будет в худшем случае декоративным, а в самом лучшем – еле слышным эхом чужих озарений.
«Не опираться на слова и писания…»
Эх-эх, шептала европейская часть моего ума, вот насмешили. Ведь и коан про «му» – это из области слов и писаний. Откуда же еще? Секта Дзен не опирается на слова Будды, это факт – но очень ценит черные сопли собственных бонз, размазанные по бумаге.
Слова и писания занимают в секте Дзен такое же место, как половые сношения в викторианской Англии: все тщательно делают вид, что подобного не существует, но хорошо знают, вокруг чего вертится на самом деле жизнь. Мой вольнолюбивый скепсис, однако, проявлялся не в том, что я подвергал сомнению постулаты Учения, а в том, что я презирал условности, которые следовало – хотя бы внешне – соблюдать монаху и священнику. Лицемерие казалось мне отвратительным.
Я не делал особых усилий, чтобы скрывать обычные для молодого человека наклонности и импульсы, и в результате одной некрасивой, но не слишком серьезной истории, получившей огласку, распрощался и с монашеской робой, и с семейной привилегией.
В семье мне этого не простили. Оправдываться я не стал.
Сейчас это кажется странным, но я почти не ощутил горя от разрыва с близкими. Да что там, я почти не заметил случившегося. В то время воздух был пропитан электричеством; мир стоял на пороге величайших перемен, и страна Ямато готовилась сказать человечеству свое грозное непререкаемое «му».
Монастырская жизнь, что бы про нее ни говорили, закалила меня. Я привык вставать в предутренней темноте, мыться ледяной водой и довольствоваться простой и грубой пищей. Эти навыки вряд ли пригодились бы мне, стань я действительно настоятелем храма – но в армии они кстати.
По случаю своего вступления в ряды императорской армии я написал стихотворение, подводящее итог моим душевным метаниям:
- Пистолет
- системы «Намбу».
- В обойме восемь «му».
Так я оказался младшим офицером в Бирме. Сразу получить чин помогло знание английского и немецкого. Меня планировали использовать для допросов пленных англичан и коммуникаций с германским союзником.
Поэтому на передовую я не попал.
Я уже говорил, что считал себя европейцем в душе – но мысль о надвигающейся битве с англичанами, владыками морей и хозяевами мира, наполняла меня одновременно восторгом и страхом.
Европейской стороной своего ума я понимал эту раздвоенность вполне: эдипусу-компурексу, или, говоря проще, мазакон. Аффект, связанный с фигурами отца и матери.
Как учит пророк психоанализа Фрейд, человек испытывает к отцу противоречивые чувства, смесь почтения с подсознательным желанием убить старика и занять его место (я сам не читал Фрейда, но часто наталкивался на пересказ этих идей в популярных журналах).
Я вспомнил об этом, когда впервые увидел в бирманских джунглях мертвого англичанина.
Меня поразил цвет его кожи – темный, почти коричневый. Он был еще молод, но лицо его выглядело морщинистым и старым, как бы задубевшим под ветром и солнцем. Он походил на мумию, колдовством поднятую из праха и отправленную воевать.
Его форма была выцветшей и старой, а голову покрывала белая тряпка, которую я сперва принял за марлевую повязку. Но это оказался тюрбан – он, видимо, хотел защитить себя от солнца. На его рукаве была странная нашивка со злобно выгнувшей спину черной кошкой. Все в его облике выдавало такую обездоленность и нищету, такое личное ничтожество, что меня передернуло от отвращения и сострадания.
И эти люди владеют миром? Если так, пришло время бросить им вызов… Впервые в жизни я ощутил себя частью восходящей нации, вышедшей биться за великое будущее. Самое главное, я почувствовал наше право на такое будущее. Что бы ни шептала моя европейская часть, теперь она будет знать свое место.
Через несколько минут мне объяснили, что передо мной всего лишь мертвый индус из семнадцатой дивизии – англичане, как обычно, сумели заставить одних азиатов убивать других. Ощущение морального превосходства над культурой белого человека, испытанное из-за глупой ошибки, было, конечно, сладким, но недолгим; это была галлюцинация голодного матроса, увидевшего на горизонте соткавшуюся из тумана землю и решившего, что на нее можно поставить ногу.
Наивно полагать, что военная пропаганда не действует на мозги. К счастью, я понял это сам.
Случай этот заставил меня задуматься и о другом.
Эти люди – индусы, чьи неубранные трупы лежали в джунглях – когда-то подарили миру учение Будды. А потом вернулись к провинциальному водевилю индуизма с его карнавальными мифами и зооморфными богами, поступив с дарованной им истиной примерно как иудеи с приходившим к ним Христом. Я в некотором смысле был духовным наследником древних индусов, жильцом пещер, покинутых ими еще в Средние века.
Это было поразительно.
Впрочем, так же обстояло и с христианством в Европе. Современный европеец не видит ничего странного в том, чтобы поедать отвергнутое евреями тело их пророка. Пути культуры и духа неисповедимы. Но все-таки, все-таки… Неужели прекрасный бронзовый будда из Камакуры родом из нищей тьмы?
Вся Бирма полна изваяний Будды – сидящих, стоящих, лежащих в паринирване: их здесь больше, чем статуй Ленина и Сталина в большевистской России. Но раньше я не задумывался над тем, что учение Будды сохранилось в этих джунглях почти в том самом виде, в каком существовало при его жизни.
Это был буддизм Малой Колесницы, которую Большая Колесница презирала.
Редкий мастер Дзен не уделит нескольких ядовитых слов «последователям сутр», и отношение, конечно, передается ученикам. Сарказм этот даже не направлен на адептов Малой Колесницы: поговорив со здешними монахами, немного знавшими английский, я понял, что «сутрами» мы называем совершенно разные вещи.
Никто здесь слыхом не слыхивал про Сутру Сердца, заучиваемую в нашей секте наизусть. Я прочитал одному монаху мантру оттуда – самую распространенную в дальневосточной Махаяне. Ее они точно должны были знать:
Gyate Gyate Haragyate Harasogyate Bojisowoka…
Но оказалось, что у них в ходу другая главная мантра, почти повторяющая этот ритмический рисунок:
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa…
Мантра из Сутры Сердца, если попытаться перевести ее (что сложно сделать точно), означает следующее: «уходящее, уходящее, далеко уходящее, дальше далекого уходящее, просветление, славься». Бирманцы же говорят нечто вроде: «поклон ему, благословленному, совершенному, самопробужденному».
Как будто кто-то подменил старинное заклинание другой последовательностью слов, близкой по длине и звучанию.
Высокая поэзия – и ритуальная формула, возвеличивающая Будду. И в том и в другом была красота, но такая разная.
В мантре из Сутры Сердца билось сердце возвышенной эпохи Нара, там были треск сверчков, рябь ветра на воде, отразившаяся в пруду луна – вся поэзия страны Ямато.
Бирманская формула как бы впитала в себя пыль веков, она завораживала своей древностью – была, кажется, старше Римской Империи и даже походов Александра Македонского. Я мало знал про учение Малой Колесницы.
Слышал только, что оно опирается на сутры Палийского канона и содержит строгие правила, регламентирующие каждый монашеский чих. Мне казалось, это просто набор архаичных форм, пустая шелуха зерна, из которого выросло великое дерево Махаяны. Все, что было в этом зерне живого, давно уже приняло другие формы… Так меня учили.
Пока я разглядывал статуи Будды, беседовал с монахами и размышлял о высоком, война разгоралась – но я оставался в тылу.
До меня доходили смутные слухи о зверствах, совершаемых нашими солдатами на материковом Китае. Я не знал, правда это или военная пропаганда врага. Но, если честно, кого из солдат, пригнанных на убой, заботят такие вещи? Мир слишком жесток к ним, чтобы они заботились о других. Лучшие из военных думают о судьбах Империи, худшие – о своей шкуре…
Я был, пожалуй, из худших, хотя шкурой своей полагал скорее совесть, чем тело. Я не мог остановить маховик смерти, но решил в душе, что умру по своей воле, если меня заставят убивать мирных людей. К счастью, благодаря хорошей карме я был избавлен от соучастия в жестокостях. Из-за статуса переводчика мне не нужно было обагрять руки кровью.
Англичане отступали по всему фронту. Наши лихо обошли Рангун – но после этого германского по своей стремительности маневра зачем-то сняли блок-посты на ведущем из города шоссе, позволив врагу уйти. Произошло это, как часто бывает, из-за слишком буквального следования приказу. Но Рангун в любом случае достался нам, английский радар в нем больше не работал, и наши летчики смогли наконец взяться за работу.
Вроде бы кампания развивалась по плану, но в середине апреля произошло событие, в котором можно было увидеть тревожное предвестие будущего. Американцы в первый раз бомбили Японию с воздуха – им удалось поднять с авианосцев дюжину средних бомбардировщиков, ушедших потом в Китай и Россию. И хоть ущерб был невелик, это казалось дурным знаком.
Но у нас в Бирме все было в порядке – пока что. Мы побеждали. Враг уходил в Индию. Мы гнали бы его и дальше, но поступил приказ остановить наступление.
Начался муссон.
С мая по сентябрь в Бирме идет дождь. С неба льет вода, и сильный ветер заносит ее во все щели. Все гниет; жить становится настолько противно, что война как-то сама затихает – ведь главная ее цель в том, чтобы причинять людям муку, а какой в боевых действиях смысл, когда всем плохо и так?
Мои функции штабного переводчика сводились к переводу вражеских радиограмм. Перехватывали их редко, пленных не было, немецкие подводные лодки не делали в наши джунгли дружеских визитов (хотя в дни сильных ливней мне казалось, что могли бы вполне), и я бездельничал даже не днями, а целыми неделями.
Официально мы боролись не то с партизанами, не то с китайскими диверсантами. Наше подразделение оставалось на месте почти полгода, и за это время я завязал несколько прекрасных, но не слишком приличествующих солдату знакомств.
Я говорю не про местных женщин, чьи неискренние стоны так уютно сливаются по вечерам с шумом дождя и ликующим блеяньем жаб. Менять продукты питания на любовь – это для солдата обычное дело, но сам я подобных связей избегал.
Рядом с деревней, где разместился наш штаб, был монастырь со странным названием «Дом Бахии». Мне сказали, что в нем живет ученый монах из Рангуна. Говорили, прежде он служил профессором философии в местном университете.
Монах свободно изъяснялся по-английски, и мы могли общаться без труда. Он был образованным человеком, но я называю его «ученым» не в мирском, а в монастырском смысле. Он помнил палийские сутры, комментарии к ним и вообще весь древний канон. Еще он многое знал о западной философии.
Я провел много вечеров в беседах с ним. Мы говорили об Учении – одновременно общем и разном для нас. Я узнал уйму интересного и нового.
После смерти Будды его слова долго передавали устно и записали только через пятьсот лет – примерно тогда, когда Клеопатра травила себя змеями, а римляне убивали Цезаря.
Поэтому в палийских текстах много мнемонических блоков – повторяющихся однообразных периодов, которые легче было запомнить декламаторам времен Александра и Дария, учившим сутры наизусть.
Разница между соседними абзацами часто заключена в одном-двух словах, и для неподготовленного человека смысл учения легко может затеряться между этими словесными жерновами.
По этой причине в текстах Малой Колесницы почти нет высокой и волнующей красоты Праджняпарамиты. Палийский канон – своего рода словесная руина, древняя и величественная; подлинная речь Будды была, скорей всего, иной, и сутры в лучшем случае передают общий ее смысл. Они похожи на громоздкие телеги с каменными колесами, доставившие из прошлого несколько драгоценных обломков истины…
Услышав от меня такое сравнение, монах оскорбился и выразил сомнение в подлинности сутр Большой Колесницы, в том числе Сутры Сердца.
– Ваша бодхисатва Каннон, – сказал он, – несомненно, постигает пустоту всех феноменов, иное было бы удивительно. Вот только приведенная в Сутре Сердца беседа с учеником Будды Шарипутрой нигде больше не задокументирована. А сама Сутра Сердца, скорей всего, написана уже в нашу эру в Китае и задним числом переведена на санскрит.
С точки зрения монаха это был ядовитейший сарказм, от которого мне следовало позеленеть и скончаться на месте. Думаю, говоря это, он готовился встать к стенке под японские пули.
Я собирался ответить, что дело не в прозрении пустоты феноменов, а в бесконечном милосердии Каннон ко всему живому – но вовремя сообразил, что в устах офицера оккупационной армии это прозвучит неуместно. Поэтому я рассмеялся, налил себе местного самогона и сказал:
– Моя секта не привязана к словам и писаниям.
Этих слов хватило.
Японские бонзы вели подобные споры много сотен лет и в совершенстве научились в них побеждать. От этого умения зависели благосклонность правителей и еда.
Я попробовал расспросить монаха, в чем заключается реальная практика их секты, отличная от чтения сутр – но внятного ответа не получил. Тогда я предложил собственный: они заняты соблюдением кодекса монашеских правил. Их в Малой Колеснице так много, и они так строги, что на другое времени не остается.
Обменявшись этими любезностями, мы разошлись.
Потом мы встретились опять, и диспуты между нами продолжились. Я повторял, что Большая Колесница неизмеримо превосходит Малую, а все палийские сутры можно без всякого ущерба заменить одной-единственной «Сутрой Сердца» – неважно, где, когда и кем она написана. Ветхим палийским прописям далеко до высокой и тонкой мудрости Махаяны…
– Не будем спорить о подлинности ваших писаний, – сказал монах примирительно. – В конце концов, все существующее подлинно уже потому, что существует. Поговорим о другом. Как вы понимаете «Сутру Сердца»? Что это значит – все формы, все восприятия, переживания и мысли пусты?
Я ответил ударом ладони в пол.
– Вы убили муху? – спросил монах.
Я почти разозлился. Как он говорит с японским захватчиком… Впрочем, это было забавной реакцией на дзенское клише.
– Таков принятый в нашей секте ответ, – сказал я. – Вернее, один из возможных ответов. Путаться в болтовне считается у нас недопустимым.
– Почему?
– Мы теряем путь. Кажется, что смысл уловлен в словах, но это просто облепившая ум паутина.
– Может быть, вы все же снизойдете к моей неотесанности? Попробуйте ответить иначе.
– Му, – сказал я. Монах засмеялся.
– Слышал, слышал и такое… Это высокая мудрость вашей секты. Я догадываюсь, на что указывают подобные парадоксы. Но не могли бы вы сделать исключение для деревенского дурня и объяснить в простых словах – как же вы все-таки понимаете свою главную сутру?
– Хорошо, – сказал я. – Я попробую. Суть Сутры Сердца выражена в самой первой ее строчке. Бодхисатва Каннон постигает пустоту всех вещей и спасается от страданий и несчастий… Мудрому достаточно одной этой строки, все остальное – комментарий.
– А что это значит – пустота всех вещей?
– Говорить об этом сложно.
– А вы попробуйте. Лучше всего на каком-нибудь примере из личного опыта.
Я задумался.
– Ну хорошо, вот недавний случай. Кто-то из моих солдат повесил тряпку сушиться на дерево. Утром я вышел из дома и мне показалось, что это огромная птица, готовая на меня кинуться. Никакой птицы там не было, только тряпка. Но пару мгновений я был уверен, что меня вот-вот клюнет огромный ястреб.
– Очень хорошо, – кивнул монах, – продолжайте…
– Мы, люди, проводим жизнь среди подобных птиц, созданных нашим собственным умом. С рождения до смерти человек занимается тем, что разводит у себя в голове воображаемых ястребов, размышляя, какой клюнет больнее и как ему среди них жить. Мало того, сам человек есть такая же точно птица. Эти фантомы просто мерещатся сознанию – и ответить на вопрос, из чего они сделаны, нельзя, потому что их нет нигде, кроме воображения. Они сделаны из познавательного усилия нашего ума, из переживаний и концепций. Это и называется пустотой.
– Да, но из чего сделаны сами переживания?
– Вглядываясь в них, – сказал я, подумав, – мы не видим никакого материала, никакой реальной основы, никакой сохраняющейся сути. Переживания сделаны из чистого восприятия, и таким переживанием является весь мир. Можно было бы сказать, что переживания сделаны сами из себя, но никакого «себя» в них нет. Это и означает пустоту всего сущего. Наши жизни призрачны и мимолетны, как сон.
– Такова мудрость Праджняпарамиты?
– Это мое несовершенное понимание, – ответил я, – кое-как облаченное в слова по вашей просьбе.
– Замечательно, – сказал монах, – замечательно. Не так уж и глупо. Тряпичных птиц не существует, согласен. Но все равно они пугают нас каждый день, и многие гибнут от страха. Страдание с философской точки зрения тоже пусто. Но от этого оно не перестает быть страданием. А Будда учил одному – прекращению страданий. Каков практический способ его прекращения, следующий из вашего понимания вещей?
– Я уже говорил, – ответил я. – Бодхисатва Каннон постигает пустоту всех переживаний и через это спасена от боли… Если вы прозреваете нереальность феноменов сознания, они не способны более вас терзать.
– А сами вы уже спаслись от страдания подобным образом?
– Не полностью, – сказал я. – Но путь Махаяны таков.
– Я пытаюсь понять, что это значит на практике, – сказал монах. – Когда вы испытываете печаль или утрату, вы должны напомнить себе о нереальности этих чувств? И они перестанут вас мучить?
Я засмеялся.
Вот поэтому лучше ограничиваться ответом вроде «му» или удара ладонью в пол. Откроешь рот, скажешь что-нибудь о смысле Учения – будешь потом объясняться всю жизнь. Учителя Дзен не хотели осложнять себе жизнь и правильно делали.
– Нет, – ответил я, – спасение происходит не так. Вы развиваете общее видение пустоты, оно становится непосредственным, постоянным и безусильным, и любая душевная боль теряет жало. Вы сразу видите ее как пустую и нереальную…
– Высокий идеал, – сказал монах. Кажется, в его тоне была издевка. И издевался он уже не над нашей сектой, а надо мною лично. Я почувствовал себя глупо. Конечно, я был очень далек от нарисованного моими словами образа.
– Страдание, – сказал монах, – возникает непосредственно и внезапно. Оно никогда не является нашим выбором. Только когда страдание уже присутствует, вы способны напомнить себе, что оно пусто. Разве не так?
– Ну в общем да, – ответил я. – Наверное.
– Значит, вы не спасаетесь от страдания. Вы вешаете на него другой ярлык. Если бы у вас во дворе жила бешеная собака, стали бы вы защищаться от ее укусов, давая ей другое имя или вспоминая ее происхождение от волка?
– А как спасаются от укусов в вашей обители? – спросил я.
– Приходите завтра, – сказал монах. – Я дам вам ответ.
Прийти на следующий день я не смог.
В нашем подразделении застрелились два молодых солдата. Они ушли глубоко в джунгли, договорившись, видимо, вместе покинуть мир. Оружие и амуниция покойных остались при них.
Командование подозревало китайских партизан, с которыми нам следовало бороться (их на нашем участке не было, но мы не афишировали этот факт). Мне поручили казенную переписку. Милосердие заставляло меня использовать максимально уклончивый язык – так, чтобы бедняги могли считаться погибшими в бою и на их семьи не свалилось дополнительных невзгод.
Должен признать, что я испытал за это время много неприятных чувств, знакомых любому военному писарю. Особенно имеющему дело с безумной штабной корреспонденцией.
Фальшь моих заявлений про «прозрение пустоты» стала для меня очевидной. Монах не зря смеялся надо мной. Если я, практически буддийский бонза, потративший на практику Учения много времени и сил, до сих пор не освободился от мук, кто же тогда на это способен?
Мое раздражение, как часто бывает, нашло себе внешний повод – этого самого монаха. Я решил, что моя тонкая поэтичная душа не понята им и он смеется надо мной без всякой причины, в силу своего характера.
Мысль о том, что ему может быть неприятно общество офицера оккупационной армии, меня даже не посетила. В то время бирманцы относились к нам хорошо, видя в нас освободителей от британского владычества. А может быть, просто считали нас новыми хозяевами и заискивали… В общем, я проскучал в одиночестве неделю, а потом монах пришел ко мне сам.
Я обрадовался его визиту. Ему нужен был йод, и он менял на него самогон из сахарного тростника. В ветреную мокрую погоду этот омерзительный напиток превращается в лекарство, поэтому в таком обмене не было ничего, выходящего за рамки военной необходимости. Я почувствовал, что моя обида уже прошла.
Монах пригласил меня в гости.
– Приходите. Вы не забыли наш последний разговор?
– Нет, – ответил я. – Вы обещали рассказать про вашу высшую практику.
– Высшую или нет, это мне неведомо, – засмеялся монах. – Но я расскажу вам про Бахию, в честь которого названа наша обитель.
На следующий день я навестил его – и даже не взял с собой флягу с самогоном. Я чувствовал, что услышу что-то интересное и важное.
– Вы говорили про какого-то Бахиро…
– Бахию, – поправил монах. – «Про Бахию» – это короткая сутра из Уданы. Так называется раздел Трех Корзин. Многие находят в этой сутре сходство с учением вашей секты.
– О чем она?
– Я могу прочесть ее целиком – или вы предпочитаете послушать мой пересказ с комментариями?
– Лучше коротко перескажите, – ответил я, – я плохо воспринимаю священные тексты в оригинале. Особенно когда они состоят из мнемонических блоков.
– Хорошо. В общем, во времена Будды на побережье Индии жил один… скажем так, подвижник по имени Бахия. В самой сутре про это не говорится, но, по сведениям из других частей канона, Бахия был моряком и поселился на берегу после того, как его корабль потерпел крушение. Ему поклонялись местные жители, носили еду, лекарства и так далее…
Монах поднял руку и указал на небольшую картину, висевшую на стене его кельи. Она изображала бородатого полуголого человека, вместо одежды обмотанного множеством ремней с одинаковыми коричневыми патронташами (такой была моя первая ассоциация).
Человек в патронташах стоял на деревенской улице рядом с Буддой. Деревня походила на современную бирманскую. Краски были яркими, вульгарными и неприятно резали глаз. Раньше я не обращал на картину особого внимания, полагая, что ее тема – проповедь Учения варварам.
– Почему Бахии поклонялись? – спросил я.
– Возможно, он обладал психическими силами. Кроме того, он одевался в древесную кору и отказывался носить нормальную одежду, хотя ему постоянно ее жертвовали.
– Так это кора, – сказал я, глядя на картину. – А я подумал… Почему он так одевался?
– Об этом спорят, – ответил бирманец. – Многие считают, что таким образом Бахия стремился поддержать интерес местных жителей. Индийский святой должен быть эксцентричен, иначе дела пойдут плохо.
– Любой святой, – засмеялся я.
– Да. Но, по заслуживающим доверия сведениям, Бахия одевался в кору по другой причине.
Это прозвучало загадочно.
– И по какой же?
– Бахия, – ответил монах, – был последователем Упанишад. Это священные индийские учения той эпохи. Некоторые их направления, например, Брихадраньяка-упанишада, отводят деревьям особую роль в мироздании. Древесная кора Бахии была частью обета, обычного в этой традиции.
– То есть он не был жуликом? – спросил я.
– Нет. Он был искренен в своем духовном поиске. Окружающие даже называли его архатом – то есть святым, дошедшим до самого конца пути. Слово повторяли так часто, что у Бахии возник вопрос – правда ли это? Архат ли он на самом деле? Тогда в сновидении его навестил дэва, бывший в прошлых жизнях близким ему человеком…
– Что такое дэва?
– Сверхъестественное существо вроде духа или мелкого бога. Этот дэва заявил, что Бахия еще не встал на путь, ведущий к окончательной реализации. Бахия спросил, кто может ему помочь, и дух направил его к Будде. Бахия отправился в путь и проделал длинную дорогу – практически половину Индии – за день и ночь, в чем многие видят свидетельство его магических сил.
– Да-да, – сказал я. – В прошлом жили одни чудотворцы.
Монах улыбнулся.
– Возможно, смысл этого отрывка в том, что Бахия очень спешил. Когда он нашел общину последователей Будды, оказалось, что сам Будда ушел собирать милостыню в город. Бахия не стал ждать его возвращения и кинулся следом. Догнав Будду на улице, он попросил немедленно дать ему спасительное высшее учение. Будда дважды отказался, говоря, что сейчас не время, но Бахия настаивал, повторяя, что нет способа узнать, где и когда нас встретит смерть.
Я вдруг вспомнил, что идет война, и мокрое затишье за окном может в любой момент превратиться в ревущий огнем ад.
– Будда согласился, – продолжал монах. – И тут же, прямо на улице, объяснил Бахии, в чем заключена высшая практика. Поскольку время и место не вполне подходили для передачи учения, Будда говорил совсем коротко, только самую суть. И вот что он сказал… Я постараюсь максимально точно передать смысл по-английски.
Бирманец закрыл глаза, вспоминая палийский текст перед тем как перевести его.
– Ты, Бахия, должен практиковать так. В увиденном будет только увиденное. В услышанном – только услышанное. В ощущаемом – только ощущаемое. В осознаваемом – только осознаваемое. Так и тренируйся, и если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде – ни здесь, ни там, ни где-либо между. Это, вот именно это, и есть конец страдания…
Монах замолчал, давая мне время погрузиться в смысл древних слов.
– Весьма походит на учение моей секты в том смысле, что ставит ум в тупик, – сказал я.
– Некоторые интерпретируют последнее предложение по-другому. «Тебя не будет ни здесь, ни в трансцендентном, ни где-либо еще…» Но это уже детали. Вы понимаете общий смысл наставления?
Я почувствовал себя уязвленным.
Это был, конечно, не обычный бирманец из джунглей, а бывший университетский профессор, образованный и умный человек, но мне не хотелось отказываться от идеи о превосходстве моей доктрины (чтобы не сказать – расы, но это я понял позже). С другой стороны, в том, что говорил монах, определенно была глубина. Но сразу объяснить смысл слов из сутры я не мог, хотя интуитивно его чувствовал.
– Попробую помочь, – сказал монах. – Вы когда-нибудь задумывались о том, каким способом существует человеческая личность? Только не говорите, что она пуста, это я понимаю. Мы, несомненно, имеем дело с иллюзией. Но как эта иллюзия появляется и исчезает?
Я молчал.
– Возьмите мираж, – продолжал монах. – Он нереален, конечно, но у него есть понятный способ возникновения: он появляется, когда из-за атмосферных явлений искривляются лучи света. А каков, по-вашему, механизм личности?
– Скажите вы, – ответил я.
Монах назидательно поднял палец.
– Личность всегда возникает как набор внутренних комментариев к прямому восприятию. Подумайте – разве это не так?
Я пожал плечами.
– Вот, например, вы едите местный рис. Вы ощущаете его вкус. Само непосредственное переживание будет одинаково для бирманца и японца. Но бирманец, скорей всего, задумается, где бы ему найти рис на завтра. А японец решит, что рис приготовлен неправильно. И вспомнит про обстоятельства, из-за которых он ест неправильно приготовленный рис в мокрых джунглях…
Мне опять показалось, что в словах монаха мелькнула острая как бритва издевка, но придраться было не к чему – он был прав. Примерно это со мной и происходило, когда я ел комковатую кашу из местного риса.
– Как только ум отказывается от комментариев, – продолжал монах, – остается лишь чистый вкус риса, и личность исчезает. А как только исчезает личность, естественным образом исчезает страдание, потому что оно – я говорю не о физическом неудобстве, а именно о страдании – тоже имеет природу внутреннего комментария к происходящему. Личность и страдание – это сестры-близняшки. Они сделаны из одного и того же материала. Расставаясь с одним, мы расстаемся с другим…
– Я в целом понимаю, – сказал я. – Не сумел бы так быстро сформулировать, но мысль точная. А на каком этапе подобной практики личность исчезает окончательно? Через сколько лет?
Монах засмеялся.
– Вот типичное заблуждение ума, привыкшего ковыряться в концепциях. Думать, что личность исчезнет в результате практики когда-то в будущем, означает признавать за ней устойчивую реальность. А личность на самом деле просто вредный эффект, возникающий каждый раз, когда вы морщитесь или улыбаетесь. Она исчезает, как только вы перестаете рефлексировать по поводу своих рефлексий. Это как запах подмышек. Он пропадает всякий раз, когда вы находите время помыться, а не через много лет после того, как вы начинаете священный путь к чистоте.
– В осознаваемом – только осознаваемое, – повторил я. – Но эти слова относятся и к мыслям тоже. Разве нет?
– Конечно. А что плохого в мыслях? Проблема не в спонтанно возникающей мысли. Проблема в том громоздком и длинном внутреннем комментарии, который она вызывает в омраченном рассудке. Одна тащит за собой другую, другая третью, и возникает лавина. Мысли размножаются как кролики. В языке пали есть даже специальное слово для такого процесса, «папанча».
– С мыслями надо бороться? – спросил я.
– Нет. Если в мысли будет только мысль, она исчезнет сразу после появления. Есть огромная разница между одной мыслью и трансом, где самоподдерживающиеся гирлянды мыслей комментируют друг друга и заставляют нас совершать ужасные вещи. Человеческая личность и есть этот транс.
– Понимаю, – сказал я. – Что же, вы совсем запрещаете уму комментировать происходящее?
– Нет, – ответил монах. – Вы ничего никому не запрещаете. Запрещать некому. Но если ваша практика успешна, внутренний комментарий высыхает и отпадает как корка. Это и есть прекращение страдания. Или прекращение личности.
– А как это соотносится с пустотой?
– Никак, – улыбнулся монах. – Практикуя как Бахия, вы не даете возникнуть ни «уму», ни «пустоте», ни «природе Будды», ни прочим игрушкам Махаяны. Философские концепции оказываются лишними. Разница между постижением пустоты и практикой Бахии в том, что вы не пытаетесь увидеть происходящее как «пустое». Вы сливаетесь с непосредственной реальностью момента. С тем, что проявляется прямо сейчас, чем бы оно ни было – увиденным, услышанным или подуманным. Вы больше не видите «ястреба», «дерево» или «тряпку», потому что все это лишь концепции.
– А что вы видите вместо этого? – спросил я.
– «Вот это» или «вот то». Но вы обходитесь даже без такого названия и комментария. Сначала вы приближаетесь к непосредственному опыту вплотную, сняв очки концепций и идей. А потом оказываетесь так близко, что полностью исчезаете как наблюдатель – остается только сам акт восприятия. Вы не говорите, что «реальность пуста». На ярлыки, предисловия и послесловия времени не остается.
– Но природа ума действительно пуста, – сказал я.
– Что вы сейчас сделали? – засмеялся монах. – Вы на ровном месте создали две концепции… нет, четыре – «природа», «ум», «действительность» и «пустота». А потом перекинули между ними абордажные мостики. Теперь вам необходим пират, который станет по ним бегать. Вы будете кормить его всю жизнь. Пират проживет ее вместо вас, а перед вашей смертью виновато разведет руками и скажет, что ничего не вышло. Вот, если коротко, обычный путь последователя Махаяны.
Он так и выразился – «boarding bridges». Я понял его только потому, что читал в детстве книги про пиратов.
– Хорошо, – сказал я. – Допустим. Но вы не ответили. Если вы больше не видите «ястреба» или «дерево», что вы видите вместо них?
– Вот тут самый раз было бы ударить ладонью в пол, – засмеялся монах. – Но мы договорились беседовать по-человечески… Вы видите то, что видите. Вернее, видите уже не вы. Видимое просто проявляется. Вы становитесь потоком быстро сменяющихся восприятий в той последовательности, в какой они происходят сами по себе. Вы не пристегиваете к ним воспринимающую личность, созданную из комментариев ума.
– А если комментарии все же возникают? – спросил я.
– Тогда это просто другая последовательность сменяющихся восприятий. Вы не делаете исключений ни для чего.
– Увидеть человека таким образом будет сложно, – сказал я. – Когда мы воспринимаем другого, он почти весь состоит из наших комментариев и оценок.
– Да, но я ведь говорю – примените тот же принцип. В комментариях, о Бахия, только комментарии. Вы можете присутствовать в каждой из этих мыслей точно так же, как в прямых восприятиях всего остального. Вернее, – он снова поднял палец, – не присутствовать, а полностью отсутствовать. Это и есть настоящее присутствие.
– С мыслями это сложно.
– Но возможно. Суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете. Вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность – скорее, вы перестаете из нее ежесекундно вывинчиваться. На прокладку из «я» просто не остается времени. Его не остается даже для вашей любимой пустоты.
– А если «я» все же возникает?
– Если вы поняли суть метода, когда «я» возникает, это просто «я».
– А обычное «я» разве не просто «я»?
– Вы должны почувствовать различие сами. Происходит то, что происходит, и вас в этом совсем нет – так можно сказать и про грешника в аду, и про архата в восьмой джане. Разница, однако, значительна.
Я кивнул.
– Будет лучше, – добавил монах, – если для начала вы станете тренироваться, опираясь не на мысли, а на звуки или ощущения тела.
Я догадывался, о чем он говорит. Когда я практиковал в молодости, частью моей медитации было дыхание через равновесную точку «хара» под пупком. Стараясь настроиться на нее, я отслеживал возникавшие там ощущения. Часто бывало, что они сменялись очень быстро, и, следя за ними, я терял контроль над происходящим. Чтобы восстановить его, я переходил к глубоким вдохам и мантрам. Бирманец предлагал, так сказать, уволить контролера. Но ведь практике необходим какой-то якорь, иначе…
Я вдруг увидел мысль про контролера просто как мысль, и она сразу исчезла. Осталось только слегка саднящее ощущение – словно лопнули схватившие меня перед этим за солнечное сплетение мягкие щупальца – но и оно тут же прошло. Тут я понял наконец, что бирманец имеет в виду и каким должен быть якорь.
Теперь мне казалось, что старый бирманец прекрасно выразил сокровенную суть Дзен, которую сам я видел прежде не до конца. Вернее, это сделал Будда, говоря с Бахией…
– Мы заперты здесь на время дождей, – сказал монах. – Если вас интересует практика учения, данного Буддой Бахии, приходите и занимайтесь вместе со мной.
– Я не всегда могу отлучиться из части.
– Тогда практикуйте у себя. Я дам вам необходимые наставления.
Из вежливости я выразил сомнение, что обладаю достаточной подготовкой – хотя, конечно, сам так не думал. Но монах отнесся к моим словам серьезно.
– Судя по вашим рассказам, – сказал он, – у вас есть все необходимые навыки. Вы много лет постигали учение Большой Колесницы, а значит, можете долго сидеть на полу скрестив ноги. Это в вашем случае главное.
Да, состязаться с этим человеком в язвительности было трудно. В первую очередь потому, что она могла существовать только в моем воображении, возникая как комментарий к услышанному и порождая мою уязвленную личность…
В услышанном должно быть только услышанное, вспомнил я и сказал:
– Почту за честь пройти эту тренировку, когда позволит служба.
На самом деле служба позволяла. Но я все еще сомневался в глубине души, стоит ли мне, японцу, учиться чему-то у этого старика.
На мое решение повлиял вроде бы никак не связанный с этим случай.
Рядом с нами упал английский «Харрикейн». Два истребителя обстреляли наши автомобили, стоявшие на деревенской улице без маскировки, а потом один из самолетов врезался в деревья. По нему даже не успели открыть огонь – пилот не справился с управлением, выходя из атаки.
Схватив винтовки, мы побежали в лес.
– Наконец-то будет кого допросить, – сказал один из наших.
Но надежда, увы, не оправдалась.
Самолет развалился на части – крылья сшибло стволами, но фюзеляж был цел. Пилот погиб от удара. Его молодое лицо с открытыми глазами, прижатое к стеклу кабины, казалось живым. Можно было подумать, что из свойственного англичанам высокомерия летчик просто не желает замечать направленных на него взглядов, делая вид, будто он в джунглях один.
Выглядело это очень живописно.
По причине этой самой живописности начальство запретило вытаскивать пилота из кабины – и мы выставили возле самолета караул. Ждали кинохронику из Рангуна, чтобы запечатлеть бесславный конец врага для поднятия духа нации, но дни шли, а киношники все не ехали.
Пилот между тем стал понемногу разлагаться. Я взял себе за привычку ходить к самолету перед закатом, наблюдая за трансформациями мертвого лица.
В первый день, когда я только увидел его, оно было удивительно спокойным и даже красивым (насколько это слово применимо к европейцам). Потом глаза мертвеца подернулись непрозрачной пленкой. Затем по лицу пошли буроватые пятна – как будто проступили синяки от удара.
Скоро лицо потеряло свою тонкую форму и разбухло. На нем появилась как бы пресыщенная гримаса… Еще через день в кабину нашли ход насекомые, и за стекло стало противно смотреть.
Сделалось ясно, что хронике этот парень уже не пригодится. Когда я в очередной раз пришел к самолету, кабина была открыта, а мертвец исчез. Его похоронили где-то в джунглях.
Наши говорили, что «Харрикейн» – паршивый самолет, сильно уступающий нашим «Оскарам» и тем более «Зеро». У американцев, однако, были машины лучше.
Когда я рассказал о мертвом летчике старому монаху, тот напомнил, что у древних буддистов была специальная практика – ходить на пустыри, куда выбрасывали мертвецов, чтобы наблюдать за трансформациями мертвых тел. Конечно, это наводило на раздумья.
Сутра Сердца не врет, думал я. Все мы иллюзорны и мимолетны, наши жизни пусты – это совершенно ясно. Но этой декларации недостаточно для того, чтобы избежать страдания. Восторженные прихожанки, повторяющие «пусто, все пусто, а ум подобен сияющей во мгле лампе…» смешили меня еще в Японии. Как будто это бормотание что-то меняло в идиотизме их жизней.
Но не был ли такой прихожанкой я сам?
Буддийскую премудрость легко превратить в божка вроде тех, что примитивные народы делают из глины и ракушек. Развитые культуры используют вместо ракушек слова и концепции – и лепят своих идолов из них. Разве слово «пустота» разрушает мглу, где мы скитаемся? Наоборот, она становится только чернее. Труп этого молодого англичанина оказался лучшим из моих наставников. Я понял, что за всю свою жизнь так и не научился ничему стоящему.
Я получил у монаха инструкции для медитации и начал практику. Прошло всего несколько дней, и я стал замечать удивительные вещи.
Я понял, что в обычном состоянии человек практически не видит происходящего на самом деле. Скорее, он похож на императора, во дворец которого присылают доклады о положении в стране. Слуги рисуют на основе этих сообщений картину, подносят ее сыну Неба в тронном зале, и тот погружается в созерцание.
Пока император смотрит на картину, она не меняется. Сын Неба водит по ней глазами, ему приходит в голову одно, потом другое… Он морщится, когда долетающий из внешнего мира звук отвлекает его. Глядя на картину, он мыслит… За это время во дворец поступают новые донесения. Слуги рисуют еще одну картину и приносят ее императору вместо прошлой. Тот опять начинает шарить по неподвижному образу глазами, забывая про все остальное…
Мой ум работал так же. Он не сканировал постоянно меняющуюся реальность, а получал некую статичную ее картину – иногда чаще, иногда реже – и цепенел над ней до тех пор, пока ему не присылали новую. Я жил в этих неподвижных репрезентациях, выдуманных замороженных мирах.
Я был обитателем фиктивных пространств, появляясь и исчезая вместе с ними. Такими же были и другие люди. И единственным результатом моей многолетней тренировки в секте Дзен было слово «пустота», намалеванное поверх моих миражей.
Я рассказал о своем переживании монаху. – Чтобы разрушить этот механизм, – ответил тот, – достаточно отвернуться от нарисованной умом картины и отслеживать сами феномены. Будда говорил Бахии, что это и есть конец страдания.
– Оно прекратится сразу же? – спросил я.
– Неудовлетворительность, безличная и тонкая, никуда не денется, потому что она неотделима от жизни. Но подобная практика уведет ее из числа ваших личных проблем. Хозяин и жертва этого «страдания» исчезнут полностью. Это невыразимое облегчение. Вы увидите жизнь как она есть – и перестанете слишком переживать по ее поводу.
Я уже понимал, о чем он говорит.
– Вы движетесь в правильном направлении, – добавил монах. – И гораздо быстрее, чем обычные медитаторы.
– Почему?
– Осмелюсь предположить, – улыбнулся он, – что это связано не с вашей предыдущей практикой, а с моим обществом. Мой ум хорошо знает похожие состояния и маршруты – рядом со мной вы видите, куда и как повернуть. Вы учитесь, не задавая вопросов. В физике это называют резонансом. Скоро мы с вами сможем перейти к действительно серьезным вещам…
Я получил новые инструкции и стал проводить вечера в наблюдении быстро сменяющих друг друга телесных переживаний.
Тело, если вглядываться в него подобным образом, превращается в целый космос. Вместо звезд и планет здесь были еле заметное покалывание, зуд, всплески тепла и холода, боли и удовольствия. Для многих телесных ощущений я даже не мог подобрать подходящего слова. Иногда я опирался на дыхание, находя быструю смену ощущений в нем, иногда – на звуки, иногда – на пятна света перед закрытыми глазами.
Следовало замечать каждый мимолетный объект, а после его исчезновения переходить к любому другому, за который цеплялось внимание. Все внутренние комментарии к происходящему надо было рассматривать в качестве таких же безличных феноменов, наблюдая не за их «смыслом», а за способом их появления и исчезновения. В этом и заключалось самое главное.
«В мысли – просто мысль…»
Императорская картина понемногу исчезала – вернее, рассыпалась на множество мгновенных сцен, существовавших крохотную долю секунды.
Через неделю интенсивной практики я погрузился в переживания весьма необычной природы. Думаю, человек другой эпохи подобрал бы иные сравнения – но вот что пришло в голову мне.
Мне стало казаться, будто реальность (я имею в виду себя, мир и все воспринимаемое) похожа на огромную комнату с кривыми зеркалами, куда падают сознающие лучи света. Игра отражений в зеркалах кажется жизнью, мирозданием, потоком событий и мыслей, но это просто дрожь и рябь света, не обладающая практически никакой длительностью. Анализировать эти блики – как ловить солнечный зайчик, желая устроить ему вскрытие…
Но главное оказалось даже не в этом.
Мои чувства – радость и печаль, отвращение и привязанность, надежда и страх – имели ту же внешнюю по отношению ко мне природу.
Они казались «моими» просто потому, что их преломления в зеркалах сопровождались как бы теплым приятным сиянием, утверждавшим их в этом качестве, но теплое приятное сияние тоже не было мной. «Я, мой, мое» – все это были оптические эффекты, навязанные мне неизвестностью…
Вернее, не мне. То, что я прежде полагал движениями своего духа, возникало непонятно где по неизвестной причине. Я целиком состоял из сигналов и зарниц, приходящих из неведомого, и мои рефлексии и прозрения – верные и неверные, умные и глупые – прибывали оттуда же. Все мои «решения» тоже.
Мое чувство «себя» не было ни истиной, ни заблуждением. Оно было наваждением, но не моим. Все это приходило из неизвестности, и у меня не было никакой власти над происходящим. Была лишь иллюзия контроля, которую делали в той же лавке.
Меня, как истребитель «Оскар», ежесекундно собирали из готовых деталей, доставленных на завод из секретной локации, и мое упорное непонимание этого обстоятельства входило в комплект поставки. Меня, можно сказать, имитировали вместе с моей свободной волей, с моей верой в то, что я есть делатель и думатель (заимствую эти слова у монаха-бирманца), и даже мои прозрения по этому поводу были такой же фабричной поставкой. Но обижаться я не мог: таков оказался единственный способ возникновения и существования в этом мире.
Все происходило само.
Я был, конечно, знаком с похожими воззрениями и прежде – во всяком случае, в их поэтическом аспекте. И примерял их к себе. Человек – просто кукла, танцующая на веревочках в лучах софитов, думал я в юности, понимать это и есть мудрость.
Но прежде я не видел, что само подобное понимание (плюс сопутствующее ему тонкое самодовольство) тоже рождается не во мне, а в создающих куклу прожекторах.
И даже теперь, когда я окончательно перестал принимать этот вихрь безличного света за «себя», причина опять была не во мне, а в источнике. Тень могла понять, что она тень, только если этого хотел свет…
Но что такое источник? Не есть ли это бог европейской культуры? Что это за материал, из которого сделана реальность? Кто ею управляет? Зачем и кому нужна иллюзия мира, населенного толпой галлюцинирующих фантомов?
Я, конечно, задал все эти вопросы монаху, чем сильно его развеселил.
– Уж кто-кто, – сказал он, – а вы должны знать, что Будда не отвечал на вопросы относительно источника мироздания и его цели. Он был практиком. Другими словами, его интересовало не то, откуда приходят эти, как вы говорите, зарницы и вспышки, а как, наблюдая за ними, прекратить страдание.
– Да, – согласился я, – конечно. Но были, наверно, и мудрецы, использовавшие это знание для каких-то иных целей.
Монах посмотрел на меня с любопытством.
– Верно, в древности они были. Но даже эти мудрецы не гадали о непостижимом. Они просто пользовались тем, что им удавалось подглядеть. Подобный прагматизм, кстати, существовал не только в Азии. Вы, я полагаю, знакомы с греческой философией?
– Почему вы так думаете?
– Говоря о приходящем из непонятного измерения свете, вы почти повторили «Пещеру» Платона.
– А что это такое? – спросил я. Монах засмеялся.
– Платон первым описал универсальное для всех культур и эпох прозрение в нашу природу, которое вы пережили. Но есть и более интересные параллели. Через пару столетий после Будды в Греции жил Пиррон из Элиса. Первый философ-скептик – в современном курсе философии ему уделяют всего несколько минут. Пиррон говорил так: «Я воздерживаюсь от любых оценок и суждений, ограничивая себя простым восприятием объектов и феноменов по мере их появления. Независимо от того, чем они являются на самом деле, так можно избежать душевного неустройства и обрести неколебимое спокойствие духа…» Похоже на подход Будды, не правда ли?
– Да, – согласился я. – Я не читал Платона, но знаю про него, конечно. А про второго философа не слышал. Это действительно оригинальная европейская мысль?
– Про Пиррона говорили, что он набрался мудрости в Индии, куда попал с солдатами Александра.
– Это маловероятно, – сказал я. – Индийские аскеты вряд ли сумели бы обучить греческого солдата тонкостям своих доктрин – английского языка тогда не было. Да и зачем?
Монах улыбнулся.
– Возможно, в древности такое понимание витало в воздухе.
После этого разговора я получил от монаха новые инструкции, изменил свою медитацию, и реальность повернулась ко мне еще одной неожиданной стороной…
Так повторялось несколько раз, но не буду обременять читателя деталями.
Примерно через месяц после начала интенсивной практики я проснулся дождливым утром с мыслью, что скоро умру.
Меня мучило эхо сновидения, важного и точного. Я знал, что моя судьба решена. Но само содержание сна начисто стерлось из памяти. Единственное, что я помнил – это слово «Гуаданканал».
Я знал, конечно, про захваченный нами остров недалеко от Новой Гвинеи. Кто-то говорил мне, что наши войска строят там аэродром.
Встретившись с монахом, я сказал, что чувствую близость смерти.
– Смерть – естественная граница телесного опыта, – ответил монах. – Вы умрете, как и все. Практика позволяет яснее ощутить приближение этого момента. Сейчас идет война. Смерть приплывает по воде и прилетает на крыльях…
Эти слова словно сдернули с моей памяти вуаль, и я вспомнил свой сон.
Мне снилось, что мы высаживаемся на заросший пальмами остров, а нас атакуют уродливые пузатые истребители. Это были уже не английские «Харрикейны», а что-то мне неизвестное. Самым страшным были не крупнокалиберные пули, режущие воду и человеческое мясо, а рисунки на бортах – голые женщины, оскаленные акулы, порочные пеликаны, какие-то нелепые обезьянки.
Когда самолеты проносились низко над пальмами, рисунки делались отчетливо видны. Это убивало магию боя, превращало войну, где мы отдавали жизни за страну и императора, в позорный балаган. У японского солдата отнимали последнее, что можно отнять – достоинство смерти. Герои духа дрались с мультфильмом для мещан… Понятно было, кто победит.
Сон этот имел особую патину достоверности. Дело в том, что я никогда не видел подобных изображений на самолетах. Мой мозг вряд ли сумел бы нарисовать такую картину сам.
С другой стороны, если мне снился Гуаданканал, было непонятно, почему мы высаживаемся на этот остров. Мы занимали его и так.
– Смерть от вражеской пули – то, что написано у вас на роду, – сказал монах, выслушав мой рассказ. – Вы много жизней были воином, убили уйму людей, и ваши расчеты с миром еще не завершены.
– Я не боюсь умереть.
– Дело не в том, боитесь вы или нет. Дело в том, чтобы сделать осознанный выбор.
– А он у меня есть?
– Да, – ответил монах. – Благодаря нашему знакомству, мой друг, он у вас есть. Вы можете ждать, пока вас убьет война. А еще вы можете встретить корову с теленком…
Похоже, он говорил со мной дзенскими коанами, как когда-то я с ним.
– Какую корову?
– Я не завершил историю про Бахию, – сказал монах. – А вы не поинтересовались тем, что случилось дальше.
– Я думал, – ответил я, – сутра кончается тем, что Бахия получил учение.
Монах засмеялся.
– Нет. Там есть продолжение, и довольно любопытное. Услышав слова Будды, Бахия немедленно освободился от всех загрязнений ума. А Будда продолжил свой путь по городу.
– То есть Бахия стал архатом? – спросил я. – Вполне ожидаемый конец.
– Это еще не конец. Сутра сообщает, что как только Будда ушел, Бахию убила корова с теленком. Возвращаясь домой, Будда увидел его труп. Он велел ученикам взять его, кремировать – и воздвигнуть над ним ступу. А когда ученики спросили, в каком направлении ушел Бахия и каково его будущее состояние, Будда сказал так: «Бахия, одетый в кору, был мудр. Он следовал Дхарме как надлежит и не досаждал мне расспросами об учении. Бахия, одетый в кору, теперь полностью свободен…»
– Да, – сказал я. – Понимаю. Не досаждал расспросами. Просто не успел. Будда был благодарен за передышку и посмертно произвел его в архаты.
– Не следует распространять циничные нравы нашего века на древность, – ответил монах. – Люди тогда были другими. Это все, что вам приходит в голову?
Я пожал плечами.
– Бородатый отшельник, одетый в куски коры, должно быть, выглядел жутко. Теленок испугался. А корова за него заступилась.
– Но почему это произошло сразу после встречи с Буддой? Вот просто немедленно? И почему Бахию не убили коровы, встреченные раньше? Коров в Индии много, а он ходил в коре много лет.
– Вы видите в этих словах какой-то другой смысл? – спросил я. – Символический или вроде того?
– Именно, – ответил монах. – Сутра говорит только это: «убит коровой с теленком». Разве не странно? Бахия умер после беседы с Буддой, во время которой окончательно прозрел. А перед этим, настаивая на немедленной передаче учения, он говорил с Буддой о скорой смерти.
– Он был ясновидящим? – спросил я. – Или у вас есть другое объяснение?
– Да, – сказал монах. – Я точно знаю, в чем было дело. Но вы, боюсь, не поверите.
– Расскажите.
– Во-первых, как вы знаете сами, нет ничего особенного в том, чтобы ощутить приближение смерти. На это способны люди, даже не обладающие психическими силами.
– Да, – согласился я, – во время войны так бывает часто.
– Бахия знал, что его срок в этом теле кончается, и хотел узнать главное. Он успел. А дальше произошло нечто такое, что древний хронист мог объяснить только аллегорически.
– Вы про корову?
– Про корову с теленком. Сутра не говорит, что Бахия был убит коровой. Там сказано, что Бахия был убит коровой с теленком. Будто теленок тоже участвовал в убийстве… Мало того, как утверждают комментарии, та же самая корова с теленком убила сразу несколько великих подвижников. Но ведь такого не может быть. Подумайте, что значат эти слова.
– Ну, корова с теленком – это… Что-то из индусского пантеона?
Монах отрицательно покачал головой.
– Постарайтесь понять метафору.
– Нечто порождающее и порождаемое?
– Вот, уже ближе.
– Причина и следствие? Взаимозависимое возникновение?
– Совсем близко.
Мне казалось, что я вот-вот угадаю. Но точные слова никак не приходили.
– Корова с теленком, – заговорил монах, – это шифр, понятный древним аскетам. Это практика, где вы создаете условия для своего появления в нужном образе и месте, а затем освобождаете ум от пут прежнего тела. Корова здесь – прежнее существование. Теленок – новое, возникающее с опорой на предыдущее. Когда сутра говорит, что Бахия был убит коровой с теленком, это значит, что сразу после того, как его ум прояснился, он отбыл из нашего мира в избранном им направлении, оставив здесь мертвое тело.
– А кто его этому научил?
– Будда.
– Когда?
– Во время их единственной беседы.
– Но Будда не говорил о перевоплощениях.
– Наш век плохо представляет людей того времени. Они обладали другими способностями. И учились совсем иначе, чем мы. Одно точное слово меняло все. И в жизни, и в смерти. Бахия не был обычным индийским шарлатаном.
– Откуда вам это известно? – спросил я.
– Знаете, что говорится в каноне о его предыдущей жизни? Он умер, подвижничая на горе, где несколько его товарищей по практике добились окончательного освобождения. А перед встречей с Буддой, хоть вы над этим и смеетесь, он перенесся через всю Индию за одну ночь. Ему поклонялись люди на побережье – в Индии, где святых больше, чем лягушек после дождя… Все это было не просто так. Ум Бахии уже был подобен отточенному мечу. Слова Будды лишь помогли вынуть его из ножен. Кроме того, связь с Упанишадами…
Монах махнул рукой и замолчал.
– Что? – спросил я.
– Боюсь, японцу трудно будет понять.
– Расскажите, – ответил я с досадой, – я попытаюсь.
– Ладно. Я говорил, что Бахия одевался в древесную кору, поскольку был последователем Брихадраньяка-упанишады. Будда, естественно, был знаком с Упанишадами, их языком и образностью. Особенностью Будды как учителя была его способность вписывать радикально новое учение в контекст современной ему мысли, искусно полемизируя с нею. Поняв по наряду из коры, кто перед ним, Будда дал Бахии инструкции в терминах знакомой тому духовной традиции… Вы успеваете за мной?
– Пока да, – сказал я.
– В Брихадраньяка-упанишаде говорится: «невидимый наблюдатель, неслышный слушатель, немыслимый мыслитель, неощутимый ощущатель… Нет наблюдателя, кроме него, нет слушателя, нет мыслителя. Это и есть твое «я», твой внутренний владыка, бессмертная сущность…»
Я вдруг поразился нереальности происходящего: старый бирманец рассказывает мне, японскому офицеру, об Упанишадах – на хорошем английском языке. И происходит это во время унылой мокрой войны в бирманских джунглях. Да, мир еще способен был меня удивить.
– А дальше, – продолжал монах, – там же сказано: «твоя бессмертная сущность и есть невидимый наблюдатель, неслышный слушатель, немыслимый мыслитель, неощутимый ощущатель… Кроме нее, некому наблюдать, мыслить…» и так далее.
– Откуда вы так хорошо знаете древнеиндийские тексты? – спросил я. – Я понимаю – буддийские сутры. Это ваша область. Но знать еще и Упанишады… Вы их изучали как философ?
Монах засмеялся.
– Я помню не все Упанишады, – сказал он. – Только то, что знал сам Бахия. Теперь вы понимаете, о чем на самом деле говорил Будда?
– Прошу вас, объясните.
– В Упанишадах, как и во всех древнеиндийских текстах, говорится об атмане, бессмертной внутренней сущности. Душе, если угодно. Именно она якобы является свидетелем человеческого опыта, трансцендентным наблюдателем. Теперь представьте Бахию. Он знает Упанишады наизусть и буквально пропитан их мудростью. И вдруг Будда говорит – в увиденном нет наблюдателя. В услышанном нет слушателя. Нет ни субъекта, ни объекта. Есть только непостижимые изменчивые феномены, озаренные собственным светом, и свет этот не отличается от самих феноменов…
– Что значит – собственным светом?
– Это значит, – ответил монах, – что они не появляются в сознании человека, как учит западная мысль, а сами есть сознание, полностью лишенное наблюдателя и хозяина – но способное порождать любые фантомы, любые вселенные, любых богов и героев. Концепция «субъекта восприятия» просто мелькает иногда между ними.
– А почему феномены непостижимы?
– Потому что в них нечего постигать, и некому. Попытка «постигнуть» волну на поверхности моря будет просто созданием другой волны. В этом главная оплошность западной мысли. Не будите во мне профессора философии, мой друг…
– Отчего же. Мне интересно, что он скажет по этому поводу.
– Западный мыслитель Кант, – ответил монах, – говорил про «вещь саму по себе» и «вещь для нас». Для него это были как бы разные аспекты объекта, к которому он назначал себя субъектом в ранге генерал-губернатора. Неудивительно – он жил в эпоху раннего капитализма. Должен же кто-то был философски обосновать эксплуатацию колоний, двойную бухгалтерию и изъятие прибавочной стоимости у пролетариата…
– Никогда не задумывался об этом в таком ключе, – сказал я.
– А зря. Будда жил в другой культуре, гораздо более свободной и светлой. Поэтому он говорил, что у вещей нет никакого «себя», а в нас нет никаких «нас». С этой высочайшей точки зрения «мы» вообще никогда не рождались в «этом мире». Слышанное осознается, и все – но, даже говоря так, мы рассекаем единую истину на две ложные части. Способ, каким слышанное возникает и исчезает, заключается просто в том, что оно то слышно, то нет.
– Кому? – спросил я.
– Кому смеркается? Кому рассветает? Этот «кто» – такое же волшебное наваждение, как и все остальное. Вы сами недавно рассказывали мне про огни, которые создают мир…
– Лучи, – сказал я. – Сознающие лучи.
– Лучи, огни, неважно. В образах этого мира нет ничего, о чем можно спорить. Все есть просто то, что оно есть в этот самый миг. Кстати, именно так древние евреи определяли бога. Мы тоже часть этой тайны.
– Понимаю, – сказал я.
– Будда говорил с заблуждающимся, но могучим магом. И невероятно изящным способом выбил из-под него фундамент его заблуждений. Бахия понял тайну сознания. После этого ему больше нечего было делать в этом мире. Он увидел перед собой путь, и… Выражаясь фигурально, на месте «атмана» возникла дыра, и он в нее шагнул.
– Куда?
– Сюда, – ответил монах.
– Простите?
Монах смерил меня взглядом.
– Бахия – это я.
Эти слова произвели оглушительное впечатление. Я не сомневался ни секунды, что он сказал правду. Это объясняло, откуда он так хорошо знает фрагменты Упанишад – нечто, крайне нетипичное для бирманского монаха, пусть даже с университетским прошлым.
– Я был Бахией, – повторил монах. – И многими другими людьми, например, Пирроном из Элиса, о котором я вам говорил.
– И профессором философии тоже?
– Тоже, – кивнул монах. – Изучать человеческие заблуждения – одна из моих слабостей. Вообще-то я редко становлюсь человеком, потому что не слишком люблю это состояние. Но это не важно. Важно другое. Я знаю, как пригласить сюда корову с теленком.
– Вы имеете в виду смерть? – спросил я.
– И новую жизнь. Бахия чувствовал, что его время подходит к концу. Сегодня нечто подобное ощутили вы сами. Вы можете дождаться своего срока и умереть от пули. А можете повстречать корову с теленком.
– Что это значит?
– Это значит, вы доведете свою практику до такого рубежа, когда станет возможным мгновенный переход в другую жизнь. Я могу научить вас.
– Мне, конечно, интересно. Но с какой стати вы будете меня обучать?
– Видите ли, – сказал монах, – когда я был Бахией… Вернее, Бахией в той его жизни, где он практиковал на горе и умер, вы были моим товарищем по затворничеству. И хоть вы остались весьма далеки от реализации, вы умерли вместе со мной, пытаясь меня спасти. Это мой неоплаченный долг.
– Хорошо, – сказал я. – Проверить ваши слова мне сложно. Я не вижу прошлых существований, да и не понимаю до конца, что именно перерождается.
– Пустота, – улыбнулся монах. – Пустота, забывшая, что ее нет. Это доктрина вашей собственной секты.
– Возможно… Но в нашей секте говорят – если вы задели кого-то локтем на улице, вы уже встречали этого человека в пятистах прошлых жизнях. Так что наша встреча, конечно, не случайна. Если вы можете обучить меня своей мудрости, я буду признателен.
– Я сделаю это, – ответил монах, – но с одним условием. Вам не разрешается передавать это знание никому. Оно не должно существовать в современном мире. Оно принадлежит иным циклам и эпохам, далеким временам – еще до прихода Будды. Возможно, оно вновь будет открыто в будущем. Но в наше время это умение не должно проявляться никак.
– Согласен, – ответил я.
– Тогда слушайте…
Объяснение было необычным. Монах часто замолкал, подыскивая слова. Я задавал вопросы, он отвечал – и постепенно в моем уме забрезжило понимание того, что такое эта «корова с теленком».
Это было не что иное, как путешествие между мирами. Даже, наверное, между разными измерениями. Речь шла не о перерождении в следующей жизни, а о прямом переносе сознания в другое существование.
Мне трудно было поверить в такую возможность.
– Но я не знаю о другом мире ничего, – сказал я. – Я что, буду учиться говорить на другом языке, жить в чужом теле, существовать в другой среде и так далее?
– Вам не придется ничему учиться, – ответил монах. – Когда вы проснетесь там, это будете вы сами. Вы и никто другой. Но ваша здешняя жизнь покажется вам сном. Надо испытать это, чтобы понять.
– Я проснусь? В каком смысле?
– Не в том, в каком пробудился Будда. Вы просто перенесетесь из одного сна в другой.
– Буду ли я помнить свой прошлый сон?
В смысле, жизнь в этом теле?
– Да, несомненно. Во всяком случае, некоторое время после трансмиграции. Но вам не придется учиться жить в новом мире, потому что вы окажетесь его частью. У вас будут глубокие корни в нем и свое законное прочное место… Вы вернетесь домой.
– Каким образом такое возможно?
– Я затрудняюсь истолковать это научно, – сказал монах. – Но могу попробовать объяснить в ваших собственных образах.
– Попробуйте.
– Вы говорили, что все сущее – просто вспышки и блики в зеркалах. В каждый момент вы представляете собой определенную конфигурацию этих вспышек и бликов.
– Да, – сказал я.
– Где-то во вселенной может возникнуть на миг полностью совпадающая с вами конфигурация световых узоров. Она будет подчиняться другой карме, поэтому в следующий момент изменится иначе, чем ваша. Но на миг два паттерна совпадут. А когда они совпадут, они будут одним и тем же, потому что в увиденном только увиденное, в услышанном только услышанное, и так далее…
– Кажется, понимаю, – сказал я.
– Секрет в том, что ваша корова может родить теленка в другом мире. Секундного тождества конфигурации феноменов достаточно. На миг возникнет дверь – и, шагнув в нее, вы станете жителем иного пространства. Судьба ваша сделается совсем другой.
– Но каким образом живой и сложный человек может так запросто стать кем-то еще?
– Живой и сложный человек, – сказал монах выразительно, – этого не может. Мы с вами не говорим о живых и сложных людях. Живые сложные люди торгуют всякой дрянью на блошином рынке в Рангуне или убивают друг друга на безумной войне. Мы говорим о тех, кто видит «я» просто как «я». Знаете, почему это так важно?
– Почему?
– Чувство «я» – клей. Тот самый корень, что прикрепляет вас к месту и времени, которое вам грезится. Если вы обрываете корень, вы способны исчезнуть без следа. Собственно, это и происходит на миг с любым медитатором в момент вхождения в поток. Секрет в том, что, исчезнув, вы можете заново собраться не здесь, а в другом мире.
– Вы все это вполне серьезно? – спросил я.
– Вспомните, что Будда сказал Бахии. «Так и тренируйся, и если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде – ни здесь, ни там, ни где-либо посередине…» Понимаете? Когда вас больше нет, вы равны нулю. А ноль в одном месте – это то же самое, что ноль в любом другом. Когда вы становитесь нулем, вы становитесь всем возможным. А возможное безгранично.
– Но любая комбинация феноменов слишком сложна, чтобы…
– Сложное для вас, – перебил монах, – просто для вечности. Представьте, что вы идете по улице и ваша тень на стене совпала с тенью другого прохожего. Если вы полностью отказались от себя, это уже не ваша тень. Поэтому в следующий момент она может продолжить путь в качестве тени другого прохожего. Так объяснил бы Платон.
– А моя прошлая жизнь?
– Ваша прошлая жизнь окажется чужим сном.
– Трудно поверить, – сказал я, – что моя тень полностью совпадает с чужой.
– Ошибаетесь. Таких совпадающих теней бесконечное число в любой момент. Вы можете выбирать между разными мирами и локами. Больше того, вы сами можете придумать практически что угодно, и это окажется реальностью. Корова способна родить какого угодно теленка.
– А что будет с моим телом? Я имею в виду, с этим телом?
– Для кого?
– Для меня.
– Вы его забудете через пару дней.
– А для моих солдат?
– Наверно, для них вы умрете. Приличия должны быть соблюдены… Но если честно, я не знаю, что случается с прошлым телом. Я вообще не уверен, что это правильная постановка вопроса – вы говорите про то, чего в реальности вашего сознания уже нет. Я бы на вашем месте поспешил получить окончательные инструкции, мой друг.
– Хорошо, – сказал я, – хорошо… Я помню про нашу общую карму, но все же зачем вы стремитесь мне помочь? Есть ли у вас еще какая-то цель?
Монах улыбнулся.
– Нет такого, что «я» помогаю «вам». Происходящее – просто часть общего плана мироздания. Грядет темный век, настолько чудовищный и смехотворный, что вы даже представить этого не можете. Вы принесете его обитателям пользу через много сотен лет, действуя тайными и непостижимыми методами.
– Это будет мой долг перед вами?
– Не передо мной, – ответил монах. – Перед вашим собственным будущим. Хотя никакого собственного будущего у вас, конечно же, нет. Да и пользу в этой Вселенной приносить некому.
Это объяснение устроило меня вполне. Хотя бы потому, что в нем присутствовал знакомый мне с детства дух «Большой Колесницы».
Поскольку я обещал монаху не раскрывать самой техники, ограничусь самым общим описанием.
Сначала следовало перейти в состояние скоростного просмотра, где вместо «я», возникающего как комментарий к фильму про реальность, оставались только быстро сменяющие друг друга феномены-кинокадры.
Следовало укорениться в этом надежно и устойчиво, так, что полностью исчезали эмоциональные реакции и сделанная из них личность, а оставался поток мгновенных трансформаций реальности, освещенный своим собственным светом.
Эта первая фаза медитации называлась «коровой» и служила фундаментом тайной техники.
Наблюдение феноменов ускорялось до максимально возможного предела. А потом – благодаря странному, не похожему на знакомые мне буддийские методы, но довольно простому перцептуальному трюку (освоенному мною за день) – наблюдение феноменов как бы делалось быстрее их возникновения, становясь предвосхищением. Или, как утверждал монах, созданием. В это время нельзя было терять высочайшей концентрации, что и оказалось для меня самым сложным, несмотря на весь мой прежний опыт.
Перед открытием следовало отчетливо представить себе конечную точку путешествия. Это бирманец называл английским словом «resolve». Во время медитации, естественно, думать об этой точке было невозможно – надо было определиться с пунктом назначения заранее.
Тогда ум мог шагнуть в новое пространство автоматически – вернее, даже не шагнуть, а вывалиться туда без всяких размышлений, как только мгновенная конфигурация феноменов делала это возможным. Медитатора как бы засасывало в новый мир из прежнего, а брошенное тело оставалось здесь…
Вернее, как я понял из объяснений монаха, все это «здесь» оказывалось сном, от которого практик пробуждался; если во сне вы были кошкой, тело кошки оставалось во сне, но где оставался сам сон со всеми своими физическими уравнениями, бухгалтерскими балансами и материальными незыблемостями? Да там же, где остальные сны.
Я сразу почувствовал в этой технике невероятную силу. За гранью, где кончалось известное, была смерть – и, может быть, новая жизнь. Но делать последний шаг следовало с осторожностью.
С точки зрения монаха, выбор маршрута был прост.
– Зачем вам становиться зверем? Зачем падать в ад или мир голодных духов? Человеком вы являетесь и так. Значит, вы можете стать либо асурой, либо богом. Это интересные путешествия. Пространства этих лок неизмеримы…
Кажется, монах не допускал мысли, что мне покажется привлекательной другая версия человеческого существования, и рассказывал в основном о том, как войти в пространство асуров.
– Самый легкий способ – это представить, как катишься вниз по бесконечному зеленому склону и клянешься больше не пить вина, – сказал он. – Звучит глупо. Но попробуйте настроиться на это восприятие, и вы сразу ощутите отклик с той стороны. Только не ошибитесь с визуализацией. Вообразите, что зеленый склон огромен, просто бескраен – а рядом катятся вниз ваши соплеменники. Происходящее должно казаться вам трагедией. Смеяться над этим ни в коем случае нельзя, иначе можно стать богом… Есть и другие методы, конечно, но этот самый древний и действенный. То, что подходит новичку.
Мир сражающихся демонов, однако, меня не привлекал. Когда монах спросил почему, я ответил, что военная служба похожа на него и так.
Монах был озадачен.
– Я думал, именно это и покажется вам интересным. Всякое там фехтование, и вообще…
– Вы сами бывали в мире асуров? – спросил я.
– Я переношусь в это измерение весьма часто, – сказал бирманец. – И проживаю там целые жизни.
– А потом?
– Потом возвращаюсь. Например, сюда.
– Но корова с теленком убивает на самом деле, разве не так?
– Да, – ответил монах. – Но если вы выберете вернуться в ту же точку, откуда отбыли, окружающие не заметят вообще ничего. Главное, чтобы оставался кармический ресурс существования в прежней форме.
– То есть вы хотите сказать, что каждый раз после вашего отбытия вы умираете, вас хоронят, прощаются с вами и так далее, а потом вы, прожив целую жизнь в другом месте, возвращаетесь назад и отменяете всю историю с похоронами?
– Вероятно, – сказал монах. – Повторяю, я не задумывался, что происходит после моего ухода. И происходит ли что-то вообще. Это вопрос настолько мутный, что на него не брался отвечать сам Будда. Поскольку я знаю, как вернуться в такое же точно место и в такое же точно тело, я возвращаюсь прямо туда, откуда отбыл. В следующий миг остается лишь память, еще через миг – память о прошлой памяти, и так далее. Безличные феномены, над которыми ни у кого нет контроля. Вы, как опытный медитатор, должны понимать.
– Я понимаю. Но ведь это значит, что вы можете перемещаться в пространстве и времени как вам угодно.
– А что вас удивляет? Бахия перенесся за ночь через всю Индию, чтобы поговорить с Буддой. Я просто воссоздал себя в другом месте. Такое в те дни умели многие – и это не считалось чем-то особенным. Будда лишь объяснил мне, что возможно большее.
– Но почему вы… Бахия умер сразу после встречи?
– Моя жизнь в одежде из коры подходила к концу, вот и все. Но Бахия мог вернуться в наш мир в другом облике. И он это сделал. Через двести лет я прошел всю Азию с солдатами царя Александра и почти возвратился домой.
– Верится с трудом, – сказал я. – Но хотелось бы, конечно, научиться подобному.
– Сложно стать опытным путешественником без тренировки, – ответил монах. – Лучший выход – переселиться в более спокойное место, где вы сможете продолжить практику. Это дело многих жизней, мой друг.
– Но идет война.
– Я говорю не об этом мире и не об этом времени, – ответил монах. – Я помогу вам совершить первый прыжок, а дальше вы должны тренироваться сами.
Я сказал, что мне нравится человеческое измерение, так как оно больше всего подходит для практики. Это говорил сам Будда.
– Верно, – вздохнул монах. – Больше здесь делать особо нечего.
– А можно ли, – спросил я, – перенестись в мир собственной конструкции?
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, придумать новый дом самому, а потом туда попасть. Кажется, вы упоминали такую возможность.
– Все, что можно вообразить, существует. Представьте себе пункт назначения, и наверняка это место найдется.
– А как узнать точно?
– Если такой мир есть и сформированное медитацией притяжение достаточно для прыжка, вы это ощутите. Если ваше воображение создаст невозможную конструкцию, вы тоже поймете. Это как простукивать стену. По звуку понятно, есть за ней пустая полость или нет.
– Простукивать стенку, – повторил я задумчиво.
– Не самое удачное сравнение, конечно. Но вы поймете, есть ли дверь, соответствующая вашему ментальному усилию… Если ее нет, теленок не родится.
– Я могу перенестись в качестве человека куда угодно?
– Да. В любое место, которое вы представили себе достаточно хорошо, чтобы сформировать притяжение. Можно стать человеком другой эпохи. Как прошлой, так и будущей.
– Прошлое? – изумился я. – Но ведь оно уже случилось.
– Из уважения к вам оно случится еще раз.
И окажется, что вы всегда были его частью.
Я еще не верил до конца, что подобное осуществимо. Но все равно стал думать по ночам – есть ли у меня мечта? Кажется, ответить несложно. Но я считал так потому, что никто не предлагал мне исполнить мою мечту.
Махаяна учит нас ставить выше всего благо других.
Освободить человечество… Кто в двадцатом веке не думал о подобном? Вникая в риторику революционных вождей и европейских политиков, я представлял себе источник мирового зла в фантастических и мрачных образах – наполовину людей, наполовину демонов ада. Я думал, что достойной участью было бы пожертвовать собой, чтобы найти и вырезать эту опухоль. Поразить ее сверкающим мечом справедливости и умереть.
Судьба героя казалось мне прекрасной. Выслушав меня, монах развеселился. Он предупредил, что подобные планы строить опасно – им свойственно сбываться даже после того, как мы про них забудем.
– Хотите победить владыку демонов и спасти человечество? – смеялся он. – Да сколько угодно. Ум создаст целый мир со своим добром и злом, где главный демон будет просто жуткой куклой, сотворенной вашим собственным воображением. А умирать придется по-настоящему.
Услышав слово «кукла», я понял, что он прав. Мне грезилось романтичное, но глупое приключение. Следовало стремиться к чему-то другому.
В целом я знал, какой сон мне хочется увидеть.
Его сюжет был так же прост, как невозможен.
Открыть глаза однажды утром и понять, что гнилые джунгли, куда нас пригнали умирать, коварные англичане, наивные американцы, идиотская война, да и вообще весь страшный двадцатый век с его ложью, кровью и мерзостью – просто привидевшийся мне кошмар, от которого я навсегда проснулся.
Это не означало умереть. Наоборот, это было полной противоположностью смерти. Умереть означало заснуть. А я хотел очнуться.
Пробудиться от мира – да, это было главное. Но куда?
Я размышлял об этом наполовину в шутку, как в детстве, когда воображаешь себя то морским волком, то дирижером, то летчиком. Мысли эти, зарождаясь веселыми пузырями, мгновенно набирали вес и превращались в надежду. Доктора называют такую работу мозга шизофренией. Но ведь любой человек, твердящий «вижу будду Амида» в надежде на западный рай, занят в точности тем же самым…
Меня не привлекали высшие миры чувственного наслаждения. Искуситель Будды Мара, как мы знаем, и есть господин одного из них. Я хотел остаться человеком и догадывался почему – лишь так могла сбыться моя мечта о творчестве. Единственной магии, в ценность которой я по-настоящему верил.
Я вспоминал свой восторг и ужас от вида куклы Тоетоми Хидэеси, сидящей на крохотном стуле. Хоть и сделанная с моей помощью, она была для меня так же жива, как родители или старый мастер-кукольник. Ничего сравнимого с этим упоением с тех пор я не переживал.
Я полагаю, что в способности к творчеству наша раса (я имею в виду людей, а не японцев) не уступает ни богам, ни асурам. Наоборот, мы их превосходим.
Человеческий удел горек. Искусство заставляет нас плакать, когда мы узнаем в чужих невзгодах свои (это называется «трагедией»). Еще мы умеем весело хохотать над чужими бедами (это называется «комедией»). В мире, где горя нет, такое невозможно.
Мало того, мы считаем себя способными меняться и верим в постепенное движение к совершенству. Поэтому наше искусство еще и назидательно.
Бронзовый будда из Камакуры, которого я почитал вершиной человеческого творения, указывал людям путь, ведущий к избавлению от скорби. Таким же был христианский канон с его культом божественных ран. Правда, Возрождение заменило высокую трагедию обещанием телесного наслаждения, замаскировав его под духовную притчу. Европейские нобили платили художникам за молоденьких Св. Себастьянов, как богатые азиаты – за возбуждающий порошок из кости носорога.
Да, думал я, мы мечемся между радостью и мукой, мы лукавы даже наедине с собой, но именно это и делает наш опыт несравненным. Наша боль отмерена ровно в той пропорции, чтобы мы всю жизнь на что-то надеялись – и, как моллюски, выделяли из себя перламутр, пытаясь запечатать им навсегда источник страдания. Так растет великий коралл искусства. Ради этого, верно, нас и создали высшие силы.
Миры, стоящие над нами, никогда не превзойдут людей в творчестве – их обитатели счастливы. А что может создать счастливое существо? Зачем ему высекать что-то в камне или браться за кисть?
Кажется, Лев Толстой писал в одной из своих сатир, что счастливые люди радостны одинаково, а у боли и неурядиц множество оттенков. Да, это так. Искусство счастливого мира будет просто довольным мычанием. В аду сил хватит только на стон. Лишь в точке баланса радости и горя возможно чудо истинного творчества.
Чтобы моя мечта осуществилась, следовало остаться человеком. Но было бы хорошо освободиться от связанных с телом невзгод. Я хотел уйти в счастливый сон, в реальность, где исчезает грань между действительностью и мечтой.
Я допускал, конечно, что у подобной утопии будут свои тайные шипы. Но думать о них мне не хотелось. Соблазн был слишком велик, и дождливыми ночами я стал понемногу воображать своего «теленка», настраивая окончательную медитацию.
Я создавал новый мир постепенно и тщательно, как когда-то в детстве – куклу самурая.
Я представлял себе место, где люди остаются людьми, но не зависят от своего животного каркаса. Где любовь совершенна и ее не оскорбляет телесное безобразие. Где человеческое тело – не обязательство умереть в муках, а всего лишь одна из возможных форм проявления, и смерть не нависает над каждым днем и часом, как красная луна над гравюрами безумного Цукиоки Еситоси.
Пусть моя жизнь здесь, в Бирме, станет просто одним из кошмаров, от которых просыпаешься в холодном поту, а потом хохочешь…
Впрочем, если честно, совсем просыпаться я не хотел. Скорее, я хотел видеть один за другим волшебные сны.
Мне представлялась последовательность погружений в новый опыт, где спящий знает, что спит, и может управлять своими видениями. У такого сновидца будут прекрасные любовники и любовницы. Он будет избавлен от телесных невзгод. В творчестве же его не превзойдет никто (правда, думая о творчестве, я до сих пор думал только о куклах). Если подобное существование возможно, не так уж важно, на каком фундаменте оно основано…
Поразительно, но такой мир, похоже, существовал. Это показывала моя практика. Я понял, что бирманец имел в виду, обещая, что «реальность ответит».
Чем точнее становился чертеж воображаемой вселенной, тем головокружительней (в самом прямом смысле) делалась моя медитация. За стеной, которую я простукивал, определенно скрывалась тайная комната.
Я мог в нее войти. Создаваемый мною «теленок» уже способен был подхватить меня, сделав мою прежнюю жизнь сном. Когда я сливался с потоком трансформаций, он подходил к грани, где кончалось все известное.
В одном мире я был японским офицером в бирманских джунглях, в другом мои природа и статус были пока не ясны. На самой границе притяжение этих пространств уравнивалось. Стоило пересечь ее, и…
Я думаю, что долго флиртовал бы с неизвестным, но помогла война.
Мой вещий сон продолжал сбываться. Скоро я увидел фотографии снившихся мне самолетов. Это были американские истребители «F4F-Wildcat». Дикие кошки. Про них говорили, что они хуже и медленнее наших «Зеро» в воздушном бою, но тяжелее, прочнее и могут пережить намного больше попаданий.
По виду этот «Вайлдкэт» напоминал разбухший на жаре труп нашего «Зеро» – тот же тупой нос с радиальным двигателем, но неприятно пузатый фюзеляж. Вид этой машины вызывал во мне инстинктивное отвращение и напоминал о мертвом английском летчике в джунглях. Армия летающих трупов против Империи Солнца…
В первых числах сентября я получил приказ о переводе на Соломоновы Острова. Там нужны были переводчики. На сборы давали три дня.
Гуаданканал. Этого слова в приказе не было, но все сразу стало ясно. Остров был уже захвачен врагом, и теперь мы пытались отбить его назад. Вот почему в моем вещем сне наши высаживались на полосу песка перед пальмами. Битва за остров разгоралась и становилась главным театром войны.
Сомнений больше не было – я действительно видел той июльской ночью свою смерть. Мало того, думал я, если бы я доложил о своем видении по инстанции, мы, возможно, сумели бы предотвратить августовскую высадку врага… Вот только вряд ли в Генштабе прислушались бы к моему докладу. Так что совесть меня не мучила.
Когда солдат получает предписание начальства, у него остается две возможности. Выполнить его или умереть. Смерть ждала по-любому. Я рассказал монаху о полученном приказе.
– Когда вы отбываете? – спросил он.
– Сегодня. Во всяком случае, я попробую это сделать.
Мы обменялись долгим взглядом. Монах улыбнулся. Мы понимали друг друга без слов.
– Вы полагаете, – спросил я, – что я приживусь на новом месте?
– Повторяю в какой уже раз, – ответил монах, – оно не будет для вас новым. Вы вернетесь домой… Мы всегда возвращаемся домой. Надеюсь лишь, что выбранное вами направление подойдет для продолжения практики. Вам еще многое нужно понять. Очень многое.
Я совершил перед ним тройной поклон, как перед статуей Будды в храме. Он помахал мне рукой, закрыл глаза и застыл в неподвижности.
Вернувшись к себе, я побрился, надел форму (не стал только натягивать сапоги, потому что в них сложно сесть в лотос) и велел вахтенному солдату никого не пускать. По его восторженному виду я догадался, о чем он подумал. Но делать харакири я не собирался.
Я планировал куда более глубокий разрез. – Корова с теленком, – прошептал я вместо обычной в начале медитации мантры, – я засыпаю здесь, чтобы проснуться там!
Каким окажется это «там», я точно еще не знал, но мне довольно было, что оно будет не таким, как «здесь».
Помню свои чувства в тот момент. Так, должно быть, ощущал себя нищий европеец, отправляясь на корабле в Америку со всем своим скарбом на спине…
За окном погромыхивало. Это упражнялась расквартированная неподалеку батарея. И хоть канонада не несла в себе прямой угрозы, голос судьбы был различим в ней ясно.
Война эта кончится для Империи плохо. И счастье, если наша нация вообще сохранится на Земле. Я хотел бы, конечно, возродиться японцем, но в другой, мирной и счастливой Японии… Если она будет в том странном сновидческом мире, который нарисовало мое воображение.
Более не колеблясь, я начал медитацию. Звуки далеких разрывов мешали, и через несколько минут мне пришлось встать, чтобы заткнуть уши хлопковой ватой. Дальше все развивалось по обычной схеме – но в этот раз, дойдя до точки неуверенного баланса на границе двух реальностей, я сосредоточился и решительно обрушил свой ум за край возможного.
Крохотному сохранившемуся от меня осколку стало страшно от необратимости того, что я сделал. А потом мне – вернее, тому же осколку – представился Будда Сакьямуни в добела выцветшей робе, с неровно обритой головой и горшком для подаяния в руке. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:
– In the mad cow, o Bahiya, only the mad cow…[1]
Меня не удивило, что Будда говорил по-английски.
Меня к этому моменту уже не было.
Кажется, я плавал в большой ванне с подогретой водой. Я не чувствовал тела. Моя голова, однако, была четко зафиксирована перед экраном, где возникали объемные цифры:
9… 8… 7…
Я подумал, что англичане взяли меня в плен – и теперь допрашивают по одной из тайных методик, о которых в войсках ходило столько жутких слухов. Вероятно, мне сделали специальный укол, и я не смогу сохранить ни одного секрета…
Впрочем, я не знал никаких особых секретов, кроме того, что Империя ввязалась в войну и хорошим это не кончится. Но англичане, скорей всего, были в курсе и так.
6… 5… 4…
Нет, это никакая не ванна. Я не мог отвернуться от мелькающих передо мной цифр. Мне казалось, что я мотаю головой из стороны в сторону, но цифры все равно оставались прямо перед моими лицом, смещаясь вместе с ним.
3… 2… 1… 0
Раздался зуммер – нежный, мелодичный, совсем не похожий на резкие военные звуки. И тогда мои глаза наконец открылись по-настоящему.
Я лежал на удобной кушетке в большом бледно-зеленом зале с занавешенными окнами. Зал напоминал додзо, где тренируются фехтовальщики и борцы. Вдоль стен на возвышениях стояли воины древности в грозных позах. Они выглядели живыми.
Но я знал, что это просто куклы.
Я знал, потому что сделал этих кукол сам. Это было мое искусство, мой заработок и моя роковая страсть. Самураи напоминали крохотных воинов-маса, которых я мастерил в детстве, но были устроены куда сложнее.
На одной из тумб стоял голый пластиковый эндоскелет с электромоторами. На другой – такой же скелет, обтянутый сеткой фальшивых вен и артерий… Эти каркасы были внутри у всех моих кукол. Благодаря им они сражались друг с другом, и я хорошо зарабатывал на их поединках.
Впрочем, нет – не у всех. На двух постаментах стояли одетые в матроски школьницы с мечами в руках. Их порочная красота напоминала, что некоторые из моих созданий были не механическими манекенами, а живыми существами – выращенными в специальной жидкости человеческими телами, лишенными думающего мозга… Такими же машинами, просто сделанными из костей и мяса.
Но кто я сам?
На мне была обтягивающая синяя пижама из незнакомого легкого материала. Я поднял руку и поднес ее к лицу.
Она вообще не походила на руку живого человека. Кожа выглядела слишком молодой и гладкой. На ней не было ни морщин, ни углублений, ни пор – ладонь казалась вырезанной из безупречно отполированного мрамора телесного цвета. У меня были тонкие изящные фаланги и голубоватые длинные ногти со сложной сиреневой росписью.
Я щелкнул пальцами и услышал положенный щелчок. Мои пальцы ощутили друг друга. Но у живого человека не могло быть таких рук.
Дверь открылась, и в зал вошли два незнакомца в наряде синтоистских жрецов-каннуси: просторные белые робы, массивные черные башмаки и черные шапочки. В руках, как и положено, они держали церемониальные деревянные жезлы. От настоящих священников их отличали только странные черные иероглифы на одежде.
Сперва эти иероглифы показались мне похожими на знаки корейского алфавита – а потом я понял, что это две латинские буквы, «T» и «H», наложенные друг на друга.
Жрецы остановились перед моей кушеткой и поклонились, выставив жезлы перед собой.
– Вы уже пришли в себя, – сказал один из них. – От имени «TRANSHUMANISM INC.» поздравляем вас с завершением Большого Путешествия, Сасаки-сан!
Имя «Сасаки» не удивило меня. Это было мое имя. Мое имя в этом мире… Я помнил его так же точно, как то, что был создателем стоящих у стен механизмов.
– Память будет возвращаться к вам постепенно, – сказал жрец. – Полностью процесс может занять несколько дней. Сейчас я коротко расскажу вам, что произошло, и вы вспомните главное.
– Вы жрецы Синто? – спросил я. – Каннуси?
– Нет, – ответил жрец с улыбкой. – Мы сотрудники «TRANSHUMANISM INC.» Этот наряд выражает уважение к вашей национальной культуре и идентичности. Вы – клиент третьего таера, вернувшийся из глубокого погружения.
Второй жрец молчал. Я подумал, что из двух навестивших меня кукол говорить умеет только одна. Видимо, экономия.
– Вы понимаете, о чем я? – спросил жрец.
– Пока не особо. Что за третий таер?
– Это ранг вашего бессмертия. Вы добились успеха в земной жизни и приобрели билет в вечность. «TRANSHUMANISM INC.» хранит ваш мозг. Вы, как выражаются на земле, баночник третьего таера. Ваше тело давным-давно умерло. Но мозг жив и позволяет вам существовать в особом измерении полной свободы. Где мы сейчас и находимся.
– А что это за глубокое погружение?
– Вы купили полный тур на «Сансаре», – ответил каннуси. – Так называемое Большое Путешествие. «Сансара» – один из самых дорогих и популярных баночных аттракционов. Им можно пользоваться множеством разных способов. Вы, например, решили заново пережить свою прошлую жизнь.
– Вы хотите сказать, это действительно было одно из моих рождений?
– Мы не можем дать такой гарантии, – сказал каннуси. – Это вопрос веры. У «TRANS- HUMANISM INC.» есть технологии, позволяющие испытать некий опыт, основанный на глубочайших откликах памяти. Это уже не физическая память, запечатленная в нейронных связях, а нечто другое, связанное с полями ауры вашего мозга. Научных доказательств достоверности такого опыта не существует. Но переживания, возникающие при глубоком погружении, настолько необычны и правдоподобны, что многие клиенты, особенно с высоких таеров, повторяют этот опыт несколько раз, спускаясь все глубже и глубже… Больше того, утверждают, что так можно переместиться и в следующее возможное рождение. Многие баночные гуру удостоверяют подлинность такого опыта. Вы довольны?
– Все было как в жизни, – сказал я. – Вернее… Все это было жизнью. Моей жизнью. Другой я пока не помню.
– Прекрасно, – ответил каннуси. – Радость клиента – высшая награда для «TRANSHUMANISM INC.» Сейчас мы вас покинем, а вы увидите записанный перед погружением меморолик…
После этих слов оба каннуси просто исчезли. Только тут я сообразил, что они даже не куклы. Они не обладали никакой материальностью вообще и мало отличались от мелькавших передо мной при пробуждении цифр.
На месте жрецов возник юноша с чрезвычайно смазливым лицом, одетый в желтое шелковое кимоно. Он был настолько совершенен и красив, что его трудно было назвать человеком – он походил на ожившую фарфоровую куклу.
– Здравствуй, Сасаки, – сказал юноша, улыбаясь. – Как мне объяснили, несколько дней ты ничего не будешь помнить о том, кем ты был до своего путешествия – временное забвение защищает мозг от перегрузки. Если все получилось, как я хотел, ты видел свою прошлую жизнь. После нее ты стал сначала вот таким…
Юноша превратился в мужчину с седыми висками и решительным суровым лицом. На нем была одежда для фехтования, а в руке он держал решетчатый шлем.
– А потом – вот таким, – сказал фехтовальщик и снова стал фарфоровым юношей. – Но последнее изменение не было перерождением в обычном смысле. Твой мозг просто переехал в банку. Ты потерял пол, возраст и все связанные с ними проблемы. Но это не значит, что проблем у тебя больше нет.
Фарфоровый юноша усмехнулся.
– Они есть, но другого рода, чем прежде… Говорят, ты будешь хорошо помнить прошлую жизнь три или четыре дня. Поэтому надежно зафиксируй все случившееся прямо сейчас – пока оно живо в твоей памяти. Используй кисть и стопку рисовой бумаги. Здесь она тоже есть, хотя сделана не из риса, а даже не знаю из чего… Из мозгового электричества, наверное. Напиши отчет о том, что ты пережил. Придай ему форму литературного произведения. Таким образом ты развлечешь наших подружек и получишь небольшую передышку в своем тяжком ежедневном труде…
Юноша засмеялся и исчез.
Каких подружек, подумал я со странной тревогой, каких таких подружек…
Лицо юноши казалось смутно знакомым – и мне захотелось посмотреть на собственное отражение.
Прежде чем я сообразил, что происходит, моя воля содрогнулась в легком спазме (это было привычное, наизусть знакомое движение духа, выполненное машинально) и прямо передо мной возникла зеркальная плоскость. Я увидел лицо фарфорового юноши.
Это был я. Новый я. Или, вернее, прежний. Я вспомнил, что в этом мире нет и не может быть настоящих зеркал, поскольку здесь нет ничего, способного отражаться. Зеркала здесь похожи на проекторы, показывающие закрепленный за человеком образ. То есть они все-таки есть, но…
Я был прежде художником, делавшим фехтующие друг с другом куклы – и одновременно мастером фехтования. Но это было еще до банки. А потом Сасаки (то есть я) попал в банку третьего таера и стал говорящей куклой сам. Кажется, мне это даже нравилось.
В дверь постучали опять.
Я вспомнил, что жрецы Синто появились в зале после щелчка моих пальцев. Подняв руку, я щелкнул ими опять.
Дверь раскрылась, и в зал вошла девушка. Очень красивая и совсем молодая, в короткой красной юбке и полупрозрачной белой кофточке.
Она не была человеком в обычном смысле слова. Похоже, она относилась к той же кукольно-фарфоровой расе, что и я сам. На ее милом личике с огромными фиолетовыми глазами и острыми как у сказочного оборотня ушами не было ни одной морщинки. Тонкая талия, длинные ноги, идеальной формы грудь (может быть, слишком крупная для такого юного существа) – и ни малейшего следа обычных недостатков человеческой телесности.
Девушка помахала мне ладошкой и спросила:
– Сасаки, ты меня узнаешь?
У нее был нежный мелодичный голос, такой же фарфоровый, как она сама. Услышав его, я вспомнил, кто она такая.
– Да, оябун… То есть… Да, Кира. Конечно, я тебя помню. Как можно тебя забыть.
– Если ты еще раз назовешь меня словом «оябун», Сасаки, – нежно прошептала Кира, – я отвезу тебя за город в старую авторемонтную мастерскую, зажму твои яйца в тиски, дам тебе пилу и подожгу дом.
– Я просто не поеду с тобой за город, Кира, – сказал я. – Спасибо, что предупредила.
Кира засмеялась.
Когда я жил на земле, я знал это существо как баночного якудзу – он был известен в Токио как оябун Нарита. А когда с помощью Нариты и других якудз я переехал в банку сам, грозные и неумолимые баночные якудзы оказались… девочками из манги.
Кира объяснила, что это был своего рода лечебный косплей, разработанный для якудз лучшими баночными психотерапевтами. Он стал любимым способом бывших гангстеров уйти от последствий своего жестокого прошлого.
Женские гормоны оказались эффективнее любых транквилизаторов, а память о пролитой крови сделалась просто воспоминанием об обычном женском недомогании (как говорили терапевты, подсознательный архив памяти нельзя стереть, не разрушив личность, но можно переместить в шкаф с другой биркой).
Хитрый способ обмануть судьбу и карму. Стать стрекозой и освободиться от ответственности за совершенные личинкой убийства.
Якудзы помогли мне накопить денег на банку, и теперь из верности клану я стал их дружком. Поскольку в прошлом я не был жестоким убийцей, я мог остаться мальчиком и в новом счастливом мире. Но это оказалось довольно утомительной работой, потому что девочек-якудз в нашем клане было много, а мальчик один.
Кира была доброй и покладистой девочкой – всерьез она обижалась только на слово «оябун». Но во всем, что касалось земных дел, она осталась прежним гангстером, и описанная ею поездка в автомастерскую относилась к категории «business as usual». Просто этот бизнес стал теперь игрой.
– Как прошло твое путешествие, Сасаки? – спросила Кира. – Мы с девчонками думаем, может, нам тоже попробовать?
– Это отдельный долгий разговор, – сказал я.
– Он обязательно у нас будет, – улыбнулась Кира. – Ты все-все нам расскажешь, Сасаки. А сегодня приглашаем тебя на ужин в честь твоего возвращения. Мы очень соскучились…
Ее рука опустилась на мой живот и поползла ниже. Я вздрогнул и сел.
Кира звонко засмеялась.
– Ты совсем от нас отвык.
– Нет, – сказал я, – ничего подобного. Просто…
– Что?
– Просто я буду помнить свое путешествие в подробностях всего пару дней. И я хотел бы успеть записать его на память. Как только закончу, я…
– Ты дашь нам все прочесть, – сказала Кира, убирая руку, и на ее переносице на секунду возникла грустная морщинка. – Ты нашел то, что искал?
– А что я искал?
– Я не знаю, – ответила Кира. – Ты в последнее время стал тревожиться, что упустил в жизни самое главное. Или оставил его где-то в прошлых рождениях. Я хотела узнать, нашел ты это главное или нет?
– Я запишу все, что помню, – сказал я, – и тогда вы решите сами, оябун… То есть Кира. А где я могу найти рисовую бумагу?
Кира захихикала.
– Ты правда забыл? Да где хочешь. Надо захотеть, чтобы она там нашлась. То же касается твоей комнаты, одежды и еды – ты можешь сделать все это каким угодно.
Она была права. Блокнот из рисовой бумаги и фломастер-кисточка уже лежали на полу.
Кира погрозила мне фарфоровым пальчиком.
– У тебя три дня, Сасаки. Ровно три дня. Послав мне воздушный поцелуй, она вышла из комнаты.
Я открыл блокнот, снял с фломастера колпачок, закрыл на миг глаза, вспоминая себя-офицера – и вывел:
«В наш грозный двадцатый век с его верой в могущество разума…»
Отчет написан, и нейросеть уже подобрала для него уместный эпиграф из карбоновой классики.
Мой рассказ кончается теми же словами, какими начинается, а этот постепенно дописываемый аппендикс я не покажу ни оябуну, ни другим якудзам.
Теперь я полностью вспомнил свою токийскую жизнь, где делал боевых кукол для развлечения баночных якудз. В ее конце я совершил харакири семейным мечом, но убил только тело.
Вместо смерти я обрел новую жизнь в банке.
Вполне допускаю, что во время сеанса на аттракционе «Сансара» я действительно вспомнил свою прежнюю жизнь в Бирме. В реальном времени весь опыт занял несколько секунд. Никакой мистики, это популярное на третьем таере развлечение.
Многие верят, что таким образом действительно можно вспомнить прошлую жизнь. Другие считают, что сценарий путешествия составляют скрипт-боты «TRANSHUMANISM INC.», анализируя глубокий профайл клиента – и это всего лишь идеально выстроенное наваждение. Сон, точно подогнанный под ум и душу.
В молодости монахи говорили, что в прошлой жизни я был дзенским послушником, а затем служил в Бирме. Считать это совпадением трудно (хотя скрипт-машина, конечно, могла попросту вытянуть эти данные из моей памяти).
Принять существование живого Бахии в нашем мире еще труднее. Возможно, в прошлой жизни я действительно говорил с бирманскими монахами в джунглях, и даже медитировал вместе с ними – но путешествовать таким образом между мирами?
Если верить моему сну, я прыгнул из Бирмы сороковых годов двадцатого века прямо в выдуманный мною мир, весьма похожий на тот, что рисовало мое воображение. Если так, то вся моя токийская жизнь в качестве изготовителя кукол, мастера меча и подручного баночных якудз – просто фиктивная прокладка, соединительный мостик между реальностями, те самые «корни», о которых говорил старый монах.
«После прыжка у вас будет свое место в новом мире, законное прочное место…»
Оно действительно нашлось. Мало того, в этом новом мире я купил билет на аттракцион «Сансара» и самым чудесным образом прокатился на нем в прошлую жизнь, сумев таким образом ее вспомнить, как и обещал старый монах. Стык двух существований был оформлен безупречно.
Я мог прибыть в свое настоящее двумя маршрутами – через смерть в Бирме или через смерть своего тела в Токио много столетий спустя. Мало того, я мог приехать сюда по множеству других маршрутов, которых даже не представлял. Старый монах, называвший себя Бахией, говорил, что путешествует в миры богов и асуров, а потом возвращается в ту же точку, откуда отбыл.
Но так ли важно, что случилось прежде, если настоящий момент остается тем же самым? Не совершаем ли мы все бесчисленное количество подобных путешествий каждую секунду? И было ли действительно хоть что-нибудь определенное прежде того, что есть прямо сейчас?
Вот это настоящий вопрос. Но нынешние шекспиры его не задают.
С творчеством, о котором я мечтал, мне повезло не слишком – в этом мире (или сне) я по-прежнему занимался куклами. Только, конечно, уже серьезно и по-взрослому. Когда я жил на земле, якудзы смотрели бои моих механических воинов, и именно в результате их щедрот я в конце концов накопил на банку.
А потом я и сам стал фарфоровой куклой, живущей среди таких же кукол – бессмысленных, веселых и прекрасных, наслаждающихся своей и чужой красотой. Видимо, этого в глубине души мне и хотелось… Как-то мелковато, пожалуй, но все лучше, чем гнить на войне в джунглях.
Как тут не поверить в карму?
Теперь я попытаюсь ответить на вопрос Киры хотя бы самому себе.
Нашел ли я то, что искал? Думаю, да.
И вот чем это оказалось: Будда с коротким ежиком на голове, в выцветшей робе, с горшком для подаяния в руке, говорящий на утренней улице одетому в кору человеку:
– В увиденном, Бахия, только увиденное. В услышанном – только услышанное. В ощущаемом – только ощущаемое. В осознаваемом – только осознаваемое. Так и тренируйся, и если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде – ни здесь, ни там, ни где-либо посередине. Это, вот именно это, и есть конец страдания…
Теперь, после своего путешествия, я понимаю смысл этих слов поистине глубоко. Это действительно конец страдания. Но еще и начало счастья: спокойного и легкого, не боящегося за себя и не стремящегося ни к чему.
И еще я понял, насколько бессмыслен спор между сектами о том, какое из учений выше.
Есть озарение, свобода и счастье, к которым приходят через практику Большой Колесницы. Есть озарение, свобода и счастье, достигаемые через практику Малой. Как можно ставить одно выше другого? Дерево, выросшее из посаженного Буддой семени, огромно. Крона его не похожа на корни. Но это одно дерево, и целебный для нас плод может оказаться на любой его ветке.
Нет двух колесниц. Есть два колеса. Но, чтобы убедиться в этом, надо хоть немного проехать в экипаже Победоносных самому, а не просто шлепать губами, разглядывая его со стороны.
Мне хватило бы слов, сказанных Буддой Бахии. Но я помню и все остальное, чему учил меня старый монах. И еще я помню его слова про грядущий темный век. Похоже, он уже наступил – хотя выглядит не так, как предполагали.
Посмотрим, смогу ли я сделать в этом мире что-нибудь стоящее.
Можно ли перенести древнюю мудрость Бахии в наше выродившееся время? Как сделать ее понятной другим? Самое главное, как вспомнить ее в будущей жизни самому, чтобы продолжить практику?
Я больше не могу перемещаться между мирами и эонами, как бирманский монах. Теперь у меня нет тела с прежними энергетическими каналами – и что-то в моей медитации нарушилось. Но кое-чему я все же научился. Я знаю, как родиться заново по своему выбору.
Я планирую новое рождение в человеческом теле. Это интереснее, чем с утра до вечера обслуживать банду трансгендерных якудз, хотя мои киски, конечно, удивительные милочки.
Надеюсь, после моего ухода они будут страдать, как им положено по карме. Но перед тем, как бросить прежнее тело вместе со всей его обширной клиентурой (мозг ведь тоже просто тело, а наши так называемые убеждения и идеалы – лишь ползающие по нему электрические вши), я создам маяк.
Это будет сетевой робот, способный выйти на связь с моим новым воплощением и напомнить ему то, что я постиг в прошлых жизнях. Духовный линк между двумя рождениями, опирающийся на современные технологии. Это не особо сложно технически – в моем новом теле, несомненно, будет стоять мозговой имплант. Маяк нужен, поскольку вспомнить прежнюю жизнь сам я вряд ли смогу.
Учение утверждает, что в будущем умы людей погрузятся во тьму и практика будет невозможна или крайне затруднена – поэтому я настрою маяк таким образом, чтобы до моего нового бытия долетел хоть какой-то отблеск истины. Я попытаюсь продолжить практику.
Перед окончательным прыжком, кстати, было бы полезно смоделировать свою будущую жизнь на баночной «Сансаре», уже подарившей мне погружение в военную Бирму. Кататься можно в обе стороны – в прошлое и будущее, нейросети предсказывают его с высокой точностью. Денег еще на один трип хватит, а зачем они потом?
Но я не уверен, что хватит сил и времени. Само путешествие длится всего несколько секунд, но приходить в себя придется долго.
Да и захочу ли я в будущее, если смогу его увидеть?
Я уже определился со своим новым воплощением и настройкой маяка. Это оказалось проще, чем я думал. Помогла случайность – если, конечно, допустить, что они бывают.
Когда у меня было тело, якудзы подарили мне одну дорогую игрушку. Сакудо, или канатная дорога. Две стальные пилюли, соединенные проводом.
Достаточно вставить одну пилюлю в свое ухо, а другую в чужое, и становятся доступны телесные переживания и даже эмоции другого человека. Эти игрушки в ходу у любовников и шпионов. Ирония, однако, заключалась в том, что сакудо работает только вместе с имплантом, а у меня в земной жизни импланта не было.
В чем тогда был смысл подарка?
Кира объяснила, что провод между пилюлями очень прочен, и этой бесценной электронной безделушкой можно пользоваться как удавкой. Мне такое даже в голову не пришло, но гангстеры любят использовать экстравагантно дорогие вещи для простых кинетических решений. Размозжить голову античной статуэткой. Заколоть бриллиантовой ручкой. Задушить канаткой.
После смерти тела мое имущество было распродано, чтобы покрыть долг за последнюю партию биороботов – тех самых школьниц в матросках, которых я заставлял драться на мечах. Должен сказать, что при жизни эти безмозглые девы все же волновали меня. Не столько своей юной телесностью, сколько сплавом красоты и смерти, так что не удивлюсь, если увижу что-то похожее в следующем рождении. Таков закон кармы.
Вместе с остальными принадлежавшими мне вещами продали и мою сакудо. Это электронная система с массой функций – я смог отследить ее прямо из банки и нашел новых хозяев. Они пользовались моей канаткой по прямому назначению.
Я увидел молодую русскую пару, занимающуюся любовью на чертовом колесе в одном из московских парков. Колесо это пользовалось бешеной популярностью среди местной молодежи. Сеанса как раз хватало на полную культурную программу – покурить и перепихнуться.
Меня поразило, что аттракцион тоже назывался «Сансара» (духовного смысла в русской версии не было, только декоративный – маршрут включал шесть зон подсветки, как на старых буддийских иконах, и кабинки ненадолго зависали в каждой из них).
Я дал русской парочке ощутить свое присутствие через сакудо, проделав одно из духовных упражнений своей секты прямо в поле их слипшегося внимания. Я уверен, что они это почувствовали. Потом я установил связь с их имплантами – помогли баночные хакеры.
А через несколько дней я увидел, что девушка, завладевшая моей канаткой, беременна. Все произошло во время того самого сеанса, свидетелем которого я оказался.
Это было несомненным знаком.
Медитация показала, что я могу родиться в качестве их сына (или дочери – у девушки была двойня), прыгнув в оформляющееся тело по методике, кое-как изученной мною в бирманских джунглях. Но это будет не мгновенная трансмиграция, а обычное человеческое рождение.
Все придется начинать с нуля.
Я решился. Я опять стану мужчиной.
Надеюсь, что в новой жизни сбудется наконец моя мечта об истинном творчестве. Старый монах называл это словом «resolve»: определиться с целью заранее. Я попытаюсь реализовать себя в самом новом, самом современном и актуальном виде искусства.
И еще, конечно, я постараюсь посвятить новую жизнь практике – надеюсь, что смогу вспомнить хоть что-то из услышанного в бирманских джунглях. Тут тоже должен помочь маяк.
Если я действительно собираюсь родиться у этой пары, отправляться следует очень скоро. А я еще не закончил работу над маяком.
Надо спешить.
Или все-таки прокатиться еще раз на «Сансаре»?
The Late Man. KGBT+
Я покрыт позором. Я лучусь им, как гнилушка зеленым болотным светом.
Формально упрекнуть меня не в чем. Но я знаю, что это я, лично я виновен в бедах, постигших моих сограждан. Я даже не пытаюсь спихнуть вину на кого-то другого. Мне нет прощения. То, что я был обманут – не оправдание.
Так мне объясняли восемьдесят два тюремных года, и сегодня это моя официальная позиция. В том числе и по поводу стоящего на мне рептильного штампа.
Я – тот самый KGBT+.
Перед вами мои воспоминания и размышления, издаваемые по случаю юбилея. Я хочу честно вспомнить свою жизнь и время.
Попутно, чтобы сделать эту книгу полезной для самого широкого круга потребителей (мой труд позиционируется не только как публичное покаяние на коленях, но и как практическое пособие по жизненному успеху), я постараюсь изложить главное, что понял за время своей карьеры. Если юный читатель захочет пойти по моему пути, лучшего руководства он не найдет (к сожалению, по независящим от автора обстоятельствам возрастной ценз этой книги «28+»).
Про свои труды и дни рассказать просто. Про время сложнее. Особенно про наше время. Почему это так?
В карбоне жило много разных умников, размышлявших о будущем. Неудивительно – о собственной эпохе люди тогда знали мало. Все важное рассекречивалось в среднем лет через сто, и открывалось много интересного про великие танковые победы, убийства президентов, лунные высадки, контакты с рептилоидами и так далее.
Но, хоть люди жили во мгле, кое-что про свое настоящее и прошлое они знали. Например, что некое великое танковое сражение действительно произошло такого-то числа в таком-то месте. Или что такого-то президента действительно убили в таком-то городе.
Рудименты свободы у тогдашних людей тоже оставались. Спорить друг с другом и даже с официозом еще получалось, хоть это было связано с массой рисков.
А про будущее можно было болтать что угодно – оттуда валенком не пнут. Поэтому в карбоне постоянно писали статьи и романы о грядущих эпохах. Мол, то у них будет так, а это эдак.
Ну вот мы и приехали в будущее. И выясняется, что даже с самыми наивными предсказаниями наших предков нам сложно спорить.
Потому что сегодня мы не знаем про мир ничего. Ну вообще. Но говорить про это нельзя – сама вера в существование «секретов» строго карается и называется «конспирологией» (да, я намекаю на свою известнейшую вбойку, но о ней потом).
Список того, что нам известно доподлинно, очень короток. Можете посчитать на пальцах вместе со мной. Хватит одной руки.
1) Добрым Государством (бывшей Россией) правят сердобол-большевики во главе с Дядей Отечества – баночным генералом Судоплатоновым (такова официальная позиция, но все знают, что Судоплатонов умер, а правит генерал Шкуро, хотя сомнения есть и в этом). В Европе демократический ислам, Америка скрыта за атлантическим файерволом. За степями Курган-Сарая – великая азиатская империя Да Фа Го (если не путаю орфографию), про которую мы знаем и того меньше. На планете гуманная зеленая эра на ветряках и лошадиной тяге.
2) Все богатые люди давно отъехали в банки. Их мозги хранятся под землей в специальных цереброконтейнерах, и у них своя иерархия – целых десять таеров.
3) Заправляют нашим экологическим раем «TRANSHUMANISM INC.» и «Открытый Мозг». Что по сути одно и то же, просто трансгуманисты специализируются по подземным мозгам в банках, а «Открытый Мозг» – по мозгам живых людей (нулевой таер).
4) Владеет всеми таерами, кроме нулевого, Прекрасный Гольденштерн (он же Гоша, если не боитесь минусов в карму) – личность легендарная и, скорей всего, мифическая: эдакий корпоративный хай-тек-Санта-Клаус. Говорить про него вслух без крайней необходимости не рекомендуется. С ним связано сразу несколько баночных культов, а что бывает за оскорбление технорелигиозных чувств, вы знаете без меня.
5) Оставшихся на поверхности земли гомиков (от «homo sapiens») держат на электронных ошейниках-кукухах как собак на цепи – разумеется, для нашего же удобства. В Добросуде нас контролируют одновременно сердоболы и «Открытый Мозг», враждующие между собой – чтобы понять, как такое возможно, надо здесь немного пожить. В голове у каждого гомика стоит работающий вместе с кукухой имплант, разворачивающий консумерические, политические и прочие предпочтения в пользу властей, «Открытого Мозга» или тех, кто за это платит (это деликатно называется «подсветкой»).
Все. Нет, правда – все.
Думали, будет больше? Проверьте сами.
На остальные вопросы, которыми задавались наши пытливые предки: мыслят ли машины, каковы пределы технологического роста, у кого реальная власть над миром и Облаком, как выглядит точная политическая карта пространства и кто здесь бенефициар – ответа мы не знаем.
Но не потому, что от людей что-то скрыто.
Сейчас ничего не нужно скрывать.
Кукуха с имплантом не подсвечивают слишком далекие экспедиции человеческого любопытства. Мы даже не знаем, что у нас за экономический строй – феодализм? Капитализм? Пост-капитализм? Мета-социализм? Может, вообще клепто-корпоративный коммунизм? Я лично пытался выяснить это для одной своей вбойки и не смог.
Вопросы больше так не стоят.
Они теперь вообще никак не стоят потому что их перестали ставить.
Вот твоя лошадь, вот твоя усадьба, вот твоя фема, вот твоя контора. Суди, дружок, не выше сапога, а конкретно – крокодилового голенища генерала Судоплатонова, на которое так любят плевать в криптолиберальных кругах. Хотя какие, если вдуматься, у того могут быть сапоги, если его мозг уже второй или третий век плавает в банке под Лондоном (по официальной версии, хотя все знают, что на самом деле его слили).
Любому элементу реальности сегодня разрешено проникать в человеческое сознание только в том случае, если это диктуется политической необходимостью или коммерческой выгодой. Вы начинаете видеть новые кусочки пазла, когда вам положено по чину – или когда пазл пытаются вам продать. Целиком ситуацию не понимает никто.
Своего рода исключением здесь являются творческие люди. Особенно вбойщики нулевого таера.
Партия сердобол-большевиков, «Открытый Мозг», «TRANSHUMANISM INC.» и прочие рептилоиды доверяют нам мыслить максимально свободным образом, иначе мы не смогли бы творить. Да, мы видим смутно и гадательно, но иногда интуичим всю панораму целиком. Поэтому автобиография вбойщика – всегда интересное чтение.
А уж когда она совмещена с селф-хелпинструкцией и практическим мемо-пособием о том, как прийти к окончательному финансово-творческому успеху оптимальным путем, продукт становится и вовсе уникальным.
Именно его, читатель, ты и держишь сейчас в руках.
Я стараюсь помочь тебе стать вбойщиком – поэтому с самого начала обращаюсь к тебе как к одному из нас.
Мема 1Вбойщик!
Книги о пути к успеху обычно пишут люди, чей главный жизненный успех – нормально продать книгу о пути к успеху. Если ты не планируешь писать подобных книг сам, читай только тех, кто чего-то реально достиг. От них ты узнаешь об успехе больше, даже если само это слово не всплывет ни разу.
Про титана вбойки под ником «KGBT+» читатель, конечно, знает, так что в дополнительной рекламе мой продукт не нуждается.
Я видел много смешных и диких спекуляций на тему того, как были созданы мои «Катастрофа» и «Летитбизм», а особенно – мой огромный тюремный цикл. Теперь пришла пора рассказать об этом правду.
Конечно, я расскажу про барона Ротшильда и его роль в моей судьбе, а то вокруг развели столько лжи и слэша, что противно.
Самое же главное, я изложу стратегические принципы успеха в нашем тесном и злом бизнесе. Гарантирую, что любой, кто применит мою мемо-мудрость на практике, окажется на две головы впереди конкурентов. Если, конечно, конкуренты не прочтут тот же самый мануал.
Эта книга может оказаться самой важной в твоей жизни – если ты из тех, кому адресовано ее послание. Она может оказаться и простой развлекухой на пару вечеров, что тоже неплохо по нашим мрачным временам.
В общем, все зависит от твоих потребностей в настоящий момент, милый читатель, читательница и читательницо.
Сразу прошу извинить меня за нежелание перегружать текст морзянкой добродетели. Я буду обращаться к читателю на «ты», в каком-нибудь одном роде, не перечисляя каждый раз всех возможных местоимений. Кто бы ты ни был гендерно или вендорно, мой далекий друг, это не значит, что я твоефоб. Я люблю тебя. Правда. Но еще я люблю деревья, из которых делают бумагу и ветер.
Теперь о моих политических и социальных взглядах. У меня их нет. Какие-то были перед тюрьмой, но сейчас я их не помню.
Еще один важный момент. Во всех биографиях вбойщиков Зеленой Эры есть обязательные мотивы, детали и сюжетные повороты – их требуют маркетологи. Если убрать их, читатель ощутит себя обманутым. Даже в том случае, если ему предложат подлинный мемуар вместо обычной нейросетевой подделки (а я пишу эту книгу сам, разве что чуть помогают контент-бустеры).
Поэтому я не стану избегать обязательных для жанра тем, подсказываемых нейросетью, но честно предупреждаю, что буду отрабатывать их экономно и быстро, чтобы поговорить о том, что кажется мне более важным.
Нейросеть уже намекает, что начать следует с первого детского воспоминания – так делают все.
Засим погнали.
Мне четыре года. Вокруг двор нашей подмосковной фазенды. Улыбающаяся мама держит меня на руках. От нее исходят тепло и любовь. Рядом стоит папа, и от него разит уже хорошо знакомым мне к этому возрасту гневным электричеством.
Родители о чем-то спорят. Постепенно мать тоже пропитывается грозой – улыбка исчезает с ее лица, она сажает меня на траву, и они с отцом уходят в дом.
Я обижен, испуган, но и обрадован тоже. Я могу самостоятельно исследовать мир. Я уже умею ходить, но сейчас мне хочется ползать (отчасти чтобы отомстить маме, заставив ее стирать лишний раз мои тряпки) – и я ползу в направлении хлева по влажной земле со следами тележных шин.
Дальше в моей памяти пробел. Следующее, что я помню – я в хлеву. Я прячусь в углу и с веселым ужасом гляжу на идущего по проходу хелпера-биоробота. Это битюг в грязной марлевой маске и рваной сермяге. Во время ходьбы он раскачивается всем торсом, словно набирая кинетическую энергию для нового шага. В руках у него керосиновая лампа.
Дойдя до стены, он вешает лампу на высокий крюк, складывает огромные исцарапанные руки на груди и замирает, вглядываясь в огонек.
Я перевожу взгляд на белое керосиновое пламя. И вдруг что-то происходит. Мне кажется, хлев куда-то исчез, мое тело тоже, и я стал просто восприятием, чистым зрением, глядящим на висящую в пространстве яркую звезду. Я знаю, что там мой настоящий дом, и хочу вернуться к этой звезде, попасть туда, откуда начался мой путь. Но тут же понимаю, что это невозможно. Я живой свет, сорвавшийся с ее поверхности. Я протянутое в бесконечность щупальце. Мне некуда возвращаться, потому что я и есть эта звезда – ее дотянувшийся до места моей высадки луч, ни на миг не перестававший быть ею…
Когда я излагаю свой опыт в словах, кажется, что это сложные взрослые мысли. Вернее, они становятся такими при попытке их сформулировать, но само переживание было простым, даже базовым, как запах сена или вечерняя прохлада. И оно было настолько непохожим на все, знакомое мне прежде, что я заревел.
Этим и кончилось. Я напугал хелпера – до этого он не подозревал, что я прячусь рядом. Дальше он действовал по программе: вышел из хлева и нажал на гашетку сигнальной сирены.
Мать нашла меня, слегка отшлепала и сделала мне горячую ванну. Ей казалось, что я продрог. Но на самом деле меня трясло от нового опыта.
Через много лет мне объяснили, что это могло быть телепатической наводкой от хелперского импланта – так случается иногда с нечипованными маленькими детьми.
Еще, конечно, таким могло быть первое включение маяка господина Сасаки, но об этой странной теме, то и дело мелькавшей в моей судьбе, я расскажу позже.
Сверкнувшая из лампы звезда запомнилась мне навсегда.
Что у нас вторым обязательным для автобиографий пунктом, дорогая нейросеть?
Читательницу интересует, был ли в моем детстве сексуальный абьюз. Да, милочка, само собой – и вообще мое детство было ужасным.
YoASS, TREX, PSRT и другие титаны вбойки уже пожаловались человечеству в мемуарах на свою препубертатную боль. Пора и мне расстегнуть на душе все пуговки, чтобы предъявить общественности уходящий глубоко в трусы незаживающий шрам.
Когда мне было десять лет, меня поймала на деревенском сеновале пьяная фема-корма (это случилось уже не под Москвой, а в Сибири). Она заперла ворота и заставила меня трогать себя за нейрострапон, а потом начала мазать его черничным вареньем, чтобы я его слизывал, и скормила мне таким образом почти две банки. Не скажу, чтобы я вообще не понимал, что происходит. Я догадывался, но особого ужаса не испытывал. Одинокие фемы в сибирских деревнях часто абьюзят таким образом детишек, которые, если честно, очень это любят. Фемы победнее мажут страпон сгущенкой, те, что побогаче – медом. Официально эта девиация называется «кормосексуализм» или «кормофилия», но не от слова «карма», как думают многие, а от глагола «кормить».
Конспирологи с «Ватинформа», естественно, обвиняют во всем «Открытый Мозг» – якобы так проявляет себя изувеченный имплантом материнский инстинкт. Некоторые вуманистки борются за легализацию подобных практик (хотя при нынешнем режиме это вряд ли произойдет).
Что я могу сказать, как выживший? Варенье было вкусным, тетка показалась мне доброй, несчастной и одинокой, ее нейрострапон был отстегнут – да и держала она его скорее как ложку. В общем, тогда я не слишком рефлексировал по этому поводу. Но со временем я понял, конечно, какую незаживающую рану мне нанесли.
Ее прибор («FEMA++», такие здоровые елдаки не рассчитаны на мужчин, так что это была, скорей всего, нейролесбиянка) работал в сухом интернет-режиме, из чего следовало, что меня абьюзят еще и дистанционно, снимая через ее кукуху иммерсивный клип. Его я потом нашел в даркнете. Мало того, из клипа сделали дарк-промо для варенья, которое я с удовольствием уплетал – недаром она все время держала банку в кадре.
А значит, на моем детстве оттоптались грязные подошвы не только тех, кто смотрел и смотрит этот клип, но и всех тех, кто ест это варенье (бренд не называю по досудебному соглашению с производителем).
Не буду приводить другие подробности. Читатель хорошо знает, где такие клипы висят в даркнете. Просто зайдите в эту клоаку, сделайте поиск по «KGBT+ABUSEJAM002», заплатите за просмотр, и сами все увидите.
Хейтеры, утверждающие, что это нейрогенерация с моим программно омоложенным дублем и унылый маркетинговый ход, повторяемый в каждой музыкальной биографии (последнее, увы, правда), просто не понимают, через какое унижение и боль мне пришлось пройти. А что касается распространенности подобных сюжетов, то шеймить лично меня по этому поводу не надо. Видимо, есть глубинная связь между жизненным успехом и детской сексуальной травмой.
Нейросеть говорит, что засим тема абьюза тоже закрыта. Теперь, успокоившись и смахнув слезы сострадания, читательница может ознакомиться с остальными фактами моего мрачного детства.
Отец думал назвать меня Иваном, а мама – Няшем: оба хотели подарить мне свои имена. Но договориться они не смогли и после серьезной ссоры решили, что дадут мне первое мужское имя, которое услышат в новостях.
А там, естественно, начали рассказывать о баночном террористе Салавате Страшном. Это был один из нулевых лейтенантов баночного вождя Средних тартаренов шейха Ахмада. Так я стал Салаватом, хоть по происхождению и взглядам мои родители ничуть не тартарены.
Салават – древнее и славное имя. Наши предки давали его повстанцам и футболистам. Оно оказалось обоюдоострым в том смысле, что одновременно выбешивало своими семантическими полями и папу, и маму. Дело в том, что оно как бы состояло из двух слов: «сало» и «вата».
Отец, человек прогрессивных взглядов и член секты «Свидетелей Прекрасного», любил сало – как и все, ассоциативно связанное с волшебным светом Европы. Но ему не слишком нравилось слово «вата», как на Руси когда-то звали обскурантов, ненавидящих либеральную повестку.
Мама же была в молодости сердомолкой, зачитывалась Шарабан-Мухлюевым (эту привычку, кстати, у нее перенял и я), и с ней все обстояло наоборот. Слово «вата» она с охотой примеряла на себя. А вот «сало» было для нее ругательством.
Интересно, что у каждого из родителей оставалась возможность полюбить мое тартаренское имя хотя бы на пятьдесят процентов – тем более что они дали мне его сами. Но мама с папой предпочитали на пятьдесят процентов им раздражаться. В остальном они жили дружно, поскольку у них полностью совпадали профайлы во всем, что касалось еды и секса.
Оба были старомодных фрумерских вкусов. Мама терпеть не могла нейрострапоны. Папа тоже – он клялся, что ни разу в жизни так и не лег под кнут. Поэтому они были счастливой парой. Часто они специально начинали спор о политике, чтобы между ними разгорелся доходящий почти до драки конфликт – а потом все разрешалось через бурный, долгий и шумный секс.
Когда я был мал, я не до конца понимал, что в это время происходит. Мне казалось, они дерутся до полного изнеможения. Это была особая и крайне неприличная взрослая драка, доходившая до выковыривания внутренностей. Еще мне казалось, что похожее случается в природе во время грозы.
Отец говорил, что они с мамой зачали меня на самом первом свидании в Парке Культуры, катаясь на колесе «Сансара» (названном так в честь знаменитого баночного аттракциона: нулевому таеру такое льстило). Мама, когда я спрашивал ее об этом, только улыбалась.
Один раз она сказала, что в день моего зачатия лично видела закат Гольденштерна, причем впервые в жизни.
По приметам из сонников это значило, что я попаду в банку. Но мама добавила, что все случилось не во сне, а наяву. Сначала я решил, что она хочет зарядить меня оптимизмом. А став старше, понял настоящий смысл ее слов. Я был зачат по укурке туманом – иначе Прекрасного Гольденштерна на нулевом таере не увидеть.
Ах мама, мама…
Напившись один раз, папа привел дополнительные подробности: мама хотела детей и наврала ему, что на таблетке. Узнав, что она беременна, он смирился, подставив выю под семейное ярмо. А зря, как он часто повторял, зря.
Родив двойню, мама замкнулась и стала быстро увядать.
Причина была не в родах или семейных тяготах. Ее отца арестовали в Сибири по делу пивной оппозиции. А потом в жандармерию поступил донос, что в его загородном имении собираются поэты-метасимволисты, которых к тому времени уже запретили. Случилось это после падения бро кукуратора и воцарения Дяди Отечества – баночного генерала Судоплатонова.
Удар судьбы оказался для мамы слишком тяжелым.
Из убежденной сердоболки она за день превратилась в дочь предателя. Дедушка сгинул в лагерях (шептались, что мозги умерших зэков продают трансгуманистам для опытов), и мама растеряла весь свой задор.
Оптимизм был его частью: перестав улыбаться, она постарела на десять лет. Они с отцом все чаще курили вдвоем и прямо из спальни смотрели на невидимый мне закат Гольденштерна, соединив руки в бугрящийся венами двойной кулак.
У Свидетелей Прекрасного эта практика так и называется – «взяться за руки». Они обожают втягивать окружающих в свой глюк, а сцепка пальцев дает усиление эффекта. Родители в это время выглядели жутковато, прямо как изваяния на каком-то древнем саркофаге.
Мою сестру назвали Няшей. У родителей хватило ума обойтись без гадания по новостям хотя бы с ней, а то быть бы ей какой-нибудь взрывающейся Зульфией.
Несколько лет мы с Няшей Няшевной раздирали маму на части (у нас и правда была такая привычка – тянуть ее за руки в разные стороны во время прогулок), а потом мама поехала за дровами, попала под лошадь и умерла. Это был несчастный случай, хоть у жандармерии возникли и другие подозрения. Но мама любила нас с сестрой и вряд ли бросила бы на этой негостеприимной планете. Хотя, конечно, как знать…
Отец судился с городскими властями, утверждая, что у сбившей маму лошади был неправильно запрограммирован имплант, но доказать ничего не сумел, и дело замяли. После этого он стал пить.
Дело было не только в том, что он не смог пережить разлуку с мамой.
Во время судебных скандалов и разбирательств он часто терял терпение и публично произносил ГШ-слово в неподобающих контекстах. Проще сказать, крыл факом по Гоше что твой скоморох. Поэтому его кармический индекс упал так низко, что его отлучили от Свидетельства – то есть лишили прежней идентичности.
Принудительно поменялась имплант-подсветка, и весь эмоциональный каркас его личности стал рассыпаться. Не то чтобы у отца отобрали надежду на банку – ее не было и прежде. Его лишили надежды на надежду. Но такие нюансы я начал понимать только через много лет.
Из-за пьянства отец потерял работу в конно-трамвайном депо, стал пить еще больше, до изнеможения курил туман, не стесняясь нас с сестрой, а потом Няша нашла его висящим на потолочной балке. Ему было всего тридцать семь.
В записке он написал, что верит в Прекрасного как в Невыразимого несмотря на случившееся – и надеется, что телесный мрак развеется навсегда, освободив скрытый свет истины.
При его жизни никакого света я не замечал. Он считал нас с Няшей глупым недоразумением, а оказалось, что недоразумением для этого мира был он сам. Надеюсь, что он, как обещала его вера, пришел в себя на третьем таере в ниспосланной ему банке и созерцает теперь славу и истину Прекрасного, которую показывал когда-то нашей доверчивой и доброй маме высоко над закатной Москвой.
Няшу забрала сибирская родня матери (с тех пор я ее не видел и даже про нее не слышал). Меня отдали в интернат при училище Претория, когда мне было пятнадцать лет.
Преторианцев, как известно, лучше всего строгать из сирот.
У нас в училище открыто брали за образец янычарский корпус, существовавший когда-то в Турции.
Разница была в том, что турки отдавали христианских детей на воспитание в мусульманские семьи, а в Претории предпочитали ребят, конфискованных у неблагополучных родителей ювенальной юстицией. Таких для набора хватало – в какой семье нет проблем, если хорошенько поискать?
В пятнадцать лет мне поставили в череп социальный имплант. Раньше это происходило в более зрелом возрасте, но медики научились делать втулку пластичной – она теперь растет вместе с черепом. Этот день, собственно говоря, я и считаю датой своего настоящего рождения.
Все, что я знал о мире, все мои эмоции и мысли находились прежде в состоянии полного хаоса. А как только в моем черепе просверлили дырку, сквозь нее словно упал свет – и то, что пылилось в лабиринтах извилин, сразу построилось в идеальный как на плацу порядок.
Лучшая аналогия, приходящая мне в голову, – это известный опыт из курса естествознания. На лист бумаги высыпают железные опилки, а потом подносят снизу магнит. Опилки выстраиваются вдоль линий магнитного поля, образуя красивые и четкие узоры вокруг двух полюсов.
Вот то же самое произошло с моей душой после начала имплант-подсветки. Все в ней выстроилось по четким и ровным линиям между полюсами. Полюсов было два, и я с изумлением понял, что они очень напоминают… маму с папой.
Маминым полюсом была сердечная привязанность к тому месту, где меня зачали (я имею в виду не колесо «Сансара», а Россию, или Доброе Государство – как ни назови).
У меня была Родина, и это было важно. Родина была большой, хорошей и справедливой, но немного неуклюжей и простоватой, из-за чего врагам век за веком удавалось возводить на нас клевету. Вокруг нашей Родины простиралась вражеская земля, откуда приходили убивать и грабить, а в промежутках между завоевательными походами вливали в наши души смуту и яд.
Я любил свою землю и живущих на ней людей, не задумываясь, заслуживают они этого или нет. Мое сердце радовалось их успехам и горевало о неудачах, ненавидело наших клеветников…
В общем, этот полюс был похож на маму – во всяком случае, до дела пивной оппозиции (сам я был тогда слишком мал и сужу по рассказам отца).
А вот с отцовского полюса было видно, что я живу в жестокой и несправедливой диктатуре, где власть вместе с собственностью по непонятной причине принадлежит кучке спрятавшихся в банки узурпаторов, и все мы – что-то среднее между их рабочим скотом и картежными фишками.
Еще оттуда казалось, что вокруг нашего острова неправды цветет большой и умный мир, живущий по гуманным и мягким правилам, и именно оттуда к нам приходит свет справедливости и добра.
Как только включилась имплант-подсветка, каждая крохотная частичка моего ума развернулась вдоль новых силовых линий и стала крохотным магнитом сама. И у всякой моей мысли и эмоции появились теперь два тех же самых полюса.
Даже в имени «Салават» присутствовала эта заколдованная двойственность. Папино сало, воткнувшееся в мамину вату. С точки зрения сала злом была вата, с точки зрения ваты злом было сало.
И я не просто совмещал каким-то образом эти полярности. Я был этим противоречием сам. В общем, именно в импланте пряталась когтистая лапа Сатаны (как сказала бы мама), или сложное сердце современной политики, экономики и культуры (как сказал бы папа).
Мой преторианский ум говорил то и другое с одинаковой громкостью.
Что-то похожее происходит со всеми мальчишками и девчонками, когда им вживляют имплант, но в куда более мягкой форме. Подобной полярной расщепленности они не испытывают. Такое случается только с нами, курсантами Претория, и дело здесь в особенностях нашей подсветки.
Для большинства очипованных граждан роковая двойственность русского ума не слишком даже заметна, потому что оба нарратива скрыты под густым потоком имплант-рекламы. А на курсантов Претория рекламу практически не транслируют. Взять с нас нечего – наша покупательная способность равна нулю. Мы едим и спим в казарме, а форму нам выдают.
Мы не сердобольская гвардия, и с уланбаторами нас сравнивать нельзя. Мы не присягали ни бро кукуратору, ни Дяде Отечества. Преторианцы – как бы всемирная полиция, которую баночная олигархия планеты использует совместно, несмотря на свои внутренние противоречия и дрязги. Никто не говорит этого вслух, но на самом деле мы солдаты «TRANSHUMANISM INC.»
В России подсветка делит наши мозги на две строго одинаковые половинки, либеральную и охранительную. Нас можно использовать как угодно, мы универсальны и при необходимости способны поддержать немягкой силой любой актуальный нарратив.
Поэтому все мы немного шизофреники.
Отсюда и высокий процент самоубийств в наших рядах. Не всякий такое выдержит.
Я выдержал. Мало того, именно эта симметричная расщепленность души в конечном счете и сделала меня тем, кем я стал: вбойщиком с ником из четырех букв, известных каждому (это один из моих любимых пиар-врезов – меня, может, знают сегодня уже не все, но каждую из букв знают точно; дело тут в формулировке).
Видели? Помните?
Первая буква всегда синяя, последняя всегда красная. Две остальные окрашивали за время моей карьеры по-разному.
Проверьте себя – знаете ли вы, как расшифровывается мой ник? Сам я давно забыл. Вернее, вариантов столько, что я уже не помню, какой настоящий. Если такой был вообще.
Дальше мне трудно будет рассказывать о себе, не сказав пару слов о времени.
Эпоха было тревожной и грозной.
С тех пор минуло много лет, поэтому мне придется напомнить читателю, что тогда происходило. Вернее, какие конспирологические теории по поводу происходящего были тогда популярны, потому что доподлинно мы не знаем ничего и поныне.
Смена власти в России – всегда опасное время.
Многие, правда, говорят, что никакой смены власти у нас не бывает, а меняется только караул, то есть одна и та же трансфизическая сущность, которую поэты оптимистично называют небом, а лагерные духовидцы национальным логосом, поворачивается к русскому человеку то жопой, то рылом. Так что система у нас тоже в известном роде двухпартийная.
Возможно, так и есть. Но пока караул меняется, за бардак никто не отвечает, и все, что прошлые полвека собирали колосок к колоску (десять лет за колосок, бро), вдруг куда-то исчезает. Gone with the wind of changes[2], и власть как бы ни при чем. Ну, максимум родственники и школьные друзья, уж это-то святое. А потом опять колосок к колоску и десять лет за право переписки.
Только не подумайте, что я осуждаю подобную динамику русской жизни. Еще в позднем карбоне Г. А. Шарабан-Мухлюев написал, что российский авторитаризм отличается от западной демократии тем, что в России люди точно знают, кто имеет их сзади, а на Западе населению не сообщают даже этого, показывая каких-то роняющих микрофон негров и играющих в гольф блондинов.
Но есть одно обстоятельство, которого классик не упомянул. В России и близких ей по вектору евразийских смыслократиях каждая серьезная смена караула сопровождается конфискацией сбережений.
Когда на смену бро кукуратору, правившему из банки больше века, пришел генерал Судоплатонов, все развивалось по обычной схеме. Из тюрем отпустили пожилых нетерпил, расстреляли за воровство нескольких провинциальных бонз, а потом устроили великий разворот сибирских финпотоков. Бедным людям бояться было нечего – только хлеб немного подорожал, и картошка тоже. А в банках, там да. Многие серьезно расстроились.
Память бро кукуратора увековечили. О том, что с ним случилось, официально не сообщали, но прошел слух, что он стал Гольденштерном.
Это было очень интересно и необычно: власть впервые заговорила с народом на языке секты Свидетелей Прекрасного (так называется религия нулевого таера, верящая в Гольденштерна как в бога). Для Свидетелей стать Гольденштерном – высшая степень духовной реализации, примерно как нирвана для буддистов (и точно так же никто не понимает, что это значит).
В общем, народу дали понять, что бро кукуратор ушел на покой, а в дамках теперь генерал Судоплатонов, которому немедленно выписали в Думе титул Дяди Отечества.
На самом деле многие догадывались, почему бро кукуратора убрали. «Открытый Мозг» сковырнул его за то, что тот решил изменить расценки на имплант-рекламу.
Все знают, конечно, про пресловутое «Соглашение о Разделе Мозга». В соответствии с ним через импланты граждан Доброго Государства качают два полярных нарратива – враждебный и наш.
Ребята из «Открытого Мозга» программируют русского человека на смуту, потому что мечтают развалить нашу страну. Но их тоже можно понять. Во-первых, сердоболы до сих пор теоретически способны уничтожить весь мир, что не нравится трансгуманистам. Во-вторых, «Открытому Мозгу» приходится платить сердоболам серьезный налог за имплант-рекламу, что стерпеть еще труднее.
Имплант-реклама – основной заработок «Открытого Мозга». Но, чтобы получить лицензию в России, им приходится транслировать сердобольскую версию реальности тоже.
Договориться с «Открытым Мозгом» оказалось не так сложно. Услышав тихое покашливание партнеров, Судоплатонов оставил тарифы прежними. Доброе Государство отошло от края пропасти, и началось обычное для нового правления раскручивание гаек.
Но в этот раз раскручивали не особо.
При бро кукураторе почти все мощности социального импланта отдали врагу под рекламу, чтобы наполнить бюджет. Поэтому, собственно, вождя и сковырнули с такой позорной легкостью – за него не вписалась ни одна русская извилина. А вот при Судоплатонове в мозги вернулся порядок, хоть жить, конечно, мы стали беднее. Судоплатонов не боялся конфликтов с партнерами. Он напомнил трансгуманистам, у кого в руках рубильник (как это слово ни понимай). Да и новые вооружения помогли – спасибо бро кукуратору.
Судоплатонов начал понемногу входить во вкус большой игры. Он обратил внимание на то, что европейцы уже несколько сотен лет требуют платить им пошлины за карбоновые эмиссии, ссылаясь на свою климатическую науку. А в Соединенных Местечках отдельная климатическая наука и вообще была у каждой из трех партий.
Судоплатонов решил, что Доброму Государству негоже отставать в этом важном вопросе, и перед Тайным советом поставили задачу достичь полного климатического суверенитета. Прошла всего пара лет, и в России появилась своя климатическая школа.
В утюге стали показывать очкастых людей в белых халатах, тычущих указками в разноцветные графики. Сердобольская пресса запестрела рассчитанными на глубинный народ заголовками вроде «Наша наука – наука побеждать» или «Расчеты показывают, кто где срал». А затем наши климатические ученые объявили об эпохальном открытии – а именно, что все главные мировые ветра так или иначе зарождаются над необъятным простором Сибири.
Остальные взгляды были объявлены ненаучными, а работающим на ветряной энергии странам было предложено отныне покупать у Доброго Государства квоты на ветер. Вырученные средства предполагалось расходовать на поддержание экологического баланса, делающего возможным дальнейший ветрогенезис над бескрайней сибирской тайгой.











