Читать онлайн Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса
- Автор: Ирина Пивоварова
- Жанр: Детская проза, Детские приключения
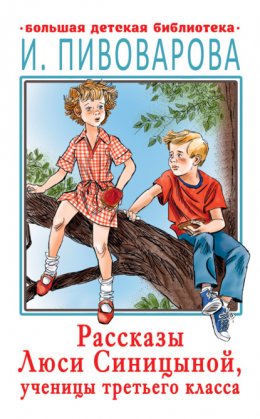
© Пивоварова И.М., насл., 2021
© Шевченко А.А., ил., 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
О ЧЁМ ДУМАЕТ МОЯ ГОЛОВА
Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса
Двор у нас был большой. В нашем дворе гуляло много всяких детей – и мальчишек и девчонок. Но больше всех я любила Люську. Она была моей подругой. Мы с ней жили в соседних квартирах, а в школе сидели за одной партой.
У моей подруги Люськи были прямые жёлтые волосы. А глаза у неё были!.. Вы, наверное, не поверите, какие у неё были глаза. Один глаз зелёный, как трава. А другой – совсем жёлтый, с коричневыми пятнышками!
А у меня глаза были какие-то серые. Ну, просто серые, и всё. Совсем неинтересные глаза! И волосы у меня были дурацкие – кудрявые и короткие. И огромные веснушки на носу. И вообще всё у Люськи было лучше, чем у меня. Вот только ростом я была выше.
Я ужасно этим гордилась. Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали «Люська большая» и «Люська маленькая».
И вдруг Люська выросла. И стало непонятно, кто из нас большая, а кто маленькая.
А потом она выросла ещё на полголовы.
Ну, это было уже слишком! Я на неё обиделась, и мы перестали гулять вместе во дворе. В школе я не смотрела в её сторону, а она не смотрела в мою, и все очень удивлялись и говорили: «Между Люськами чёрная кошка пробежала», и приставали к нам, почему мы поссорились.
После школы я теперь не выходила во двор. Мне там нечего было делать.
Я слонялась по дому и не находила себе места. Чтобы не было так скучно, я украдкой, из-за занавески, смотрела, как Люська играет в лапту с Павликом, Петькой и братьями Кармановыми.
За обедом и за ужином я теперь просила добавки. Давилась, а всё съедала… Каждый день я прижималась затылком к стене и отмечала на ней красным карандашом свой рост. Но странное дело! Выходило, что я не только не расту, но даже наоборот, уменьшилась почти на два миллиметра!
А потом настало лето, и я поехала в пионерский лагерь.
В лагере я всё время вспоминала Люську и скучала по ней.
И я написала ей письмо.
Здравствуй, Люся!
Как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. У нас в лагере очень весело. У нас рядом течёт речка Воря. В ней вода голубая-голубая! А на берегу есть ракушки. Я нашла для тебя очень красивую ракушку. Она кругленькая и с полосками. Наверное, она тебе пригодится. Люсь, если хочешь, давай дружить снова. Пусть тебя теперь называют большой, а меня маленькой. Я всё равно согласна. Напиши мне, пожалуйста, ответ.
С пионерским приветом!
Люся Синицына.
Я целую неделю ждала ответа. Я всё думала: а вдруг она мне не напишет! Вдруг она больше никогда не захочет со мной дружить!.. И когда от Люськи наконец пришло письмо, я так обрадовалась, что у меня даже руки немножечко дрожали.
В письме было написано вот что:
Здравствуй, Люся!
Спасибо, я поживаю хорошо! Вчера мне мама купила замечательные тапочки с белым кантиком. Ещё у меня есть новый большой мяч, прямо закачаешься! Скорее приезжай, а то Павлик с Петькой такие дураки, с ними неинтересно! Ракушку ты смотри не потеряй.
С пионерским салютом!
Люся Косицына.
В этот день я до вечера таскала с собой голубой Люськин конвертик.
Я всем рассказывала, какая у меня есть в Москве замечательная подруга Люська.
А когда я возвращалась из лагеря, Люська вместе с моими родителями встречала меня на вокзале. Мы с ней бросились обниматься… И тут оказалось, что я переросла Люську на целую голову.
Вы умеете делать «секретики»?
Если не умеете, я вас научу.
Возьмите чистое стёклышко и выройте в земле ямку. Положите в ямку фантик, а на фантик – всё, что у вас есть красивого.
Можно класть камень,
осколок от тарелки,
бусину,
птичье пёрышко,
шарик (можно стеклянный, можно металлический).
Можно жёлудь или шапочку от жёлудя.
Можно разноцветный лоскуток.
Можно цветок, листик, а можно даже просто траву.
Можно настоящую конфету.
Можно бузину,
сухого жука.
Можно даже ластик, если он красивый.
Да, можно ещё пуговицу, если она блестящая.
Ну вот. Положили?
А теперь прикройте всё это стёклышком и засыпьте землёй. А потом потихоньку пальцем расчищайте от земли и смотрите в дырочку… Знаете, как красиво будет!
Я сделала «секретик», запомнила место и ушла.
Назавтра моего «секретика» не стало. Кто-то его вырыл. Какой-то хулиган.
Я сделала «секретик» в другом месте.
И опять его вырыли!
Тогда я решила выследить, кто этим делом занимается… И конечно же, этим человеком оказался Павлик Иванов, кто же ещё?!
Тогда я снова сделала «секретик» и положила в него записку: «Павлик Иванов, ты дурак и хулиган».
Через час записки не стало. Павлик не смотрел мне в глаза.
– Ну как, прочёл? – спросила я у Павлика.
– Ничего я не читал, – сказал Павлик. – Сама ты дура.
Однажды нам велели написать в классе сочинение на тему «Я помогаю маме».
Я взяла ручку и стала писать:
«Я всегда помогаю маме. Я подметаю пол и мою посуду. Иногда я стираю носовые платки».
Больше я не знала, что писать. Я посмотрела на Люську. Она так и строчила в тетрадке.
Тут я вспомнила, что один раз постирала свои чулки, и написала:
«Ещё я стираю чулки и носки».
Больше я уж совсем не знала, что писать. Но нельзя же сдавать такое короткое сочинение!
Тогда я написала:
«Ещё я стираю майки, рубашки и трусы».
Я посмотрела вокруг. Все писали и писали. Интересно, о чём они пишут? Можно подумать, что они с утра до ночи помогают маме!
А урок всё не кончался. И мне пришлось продолжать:
«Ещё я стираю платья, своё и мамино, салфетки и покрывало».
А урок всё не кончался и не кончался. И я написала:
«А ещё я люблю стирать занавески и скатерти».
И тут наконец зазвенел звонок!
…Мне поставили «пять». Учительница читала моё сочинение вслух. Она сказала, что моё сочинение ей понравилось больше всех. И что она прочтёт его на родительском собрании.
Я очень просила маму не ходить на родительское собрание. Я сказала, что у меня болит горло. Но мама велела папе дать мне горячего молока с мёдом и ушла в школу.
Наутро за завтраком состоялся такой разговор.
М а м а. А ты знаешь, Сёма, оказывается, наша дочь замечательно пишет сочинения!
П а п а. Меня это не удивляет. Сочинять она всегда умела здорово.
М а м а. Нет, в самом деле! Я не шучу! Вера Евстигнеевна её хвалит. Её очень порадовало, что наша дочь любит стирать занавески и скатерти.
П а п а. Что-о?!
М а м а. Правда, Сёма, это прекрасно? – Обращаясь ко мне: – Почему же ты мне раньше никогда в этом не признавалась?
– А я стеснялась, – сказала я. – Я думала, ты мне не разрешишь.
– Ну что ты! – сказала мама. – Не стесняйся, пожалуйста! Сегодня же постирай наши занавески. Вот хорошо, что мне не придётся тащить их в прачечную!
Я вытаращила глаза. Занавески были огромные. Десять раз я могла в них завернуться! Но отступать было поздно.
Я мылила занавески по кусочкам. Пока я намыливала один кусочек, другой совсем размыливался. Я просто измучилась с этими кусочками! Потом я по кусочкам полоскала занавески в ванной. Когда я кончала выжимать один кусочек, в него снова заливалась вода из соседних кусочков.
Потом я залезла на табуретку и стала вешать занавески на верёвку.
Ну, это было хуже всего! Пока я натягивала на верёвку один кусок занавески, другой сваливался на пол. И в конце концов вся занавеска упала на пол, а я упала на неё с табуретки.
Я стала совсем мокрая – хоть выжимай!
Занавеску пришлось снова тащить в ванную. Зато пол на кухне заблестел как новенький.
Целый день из занавесок лилась вода.
Я поставила под занавески все кастрюли и сковородки, какие у нас были. Потом поставила на пол чайник, три бутылки и все чашки с блюдцами. Но вода всё равно заливала кухню.
Как ни странно, мама осталась довольна.
– Ты замечательно выстирала занавески! – сказала мама, расхаживая по кухне в галошах. – Я и не знала, что ты такая способная! Завтра ты будешь стирать скатерть…
Павлик с Петькой всегда спорят. Прямо смех на них смотреть!
Вчера Павлик спрашивает у Петьки:
– Смотрел «Кавказскую пленницу»?
– Смотрел, – отвечает Петька, а сам уже насторожился.
– А правда, – говорит тогда Павлик, – Никулин самый лучший в мире киноактёр?
– Ничего подобного! – говорит Петька. – Не Никулин, а Моргунов!
– Ещё чего! – начал злиться Павлик. – Твой Моргунов толстый, как бочка!
– Ну и что?! – закричал Петька. – А зато твой Никулин тощий, как скелет!
– Это Никулин скелет?! – заорал Павлик. – Я тебе покажу сейчас, какой Никулин скелет!
И он уже полез с кулаками на Петьку, но тут произошло одно странное событие.
Из шестого подъезда выскочил какой-то длинный белобрысый мальчишка и направился к нам. Подошёл, посмотрел на нас и вдруг ни с того ни с сего говорит:
– Здравствуйте.
Мы, конечно, удивились. Подумаешь, вежливый нашёлся!
Павлик с Петькой даже спорить перестали.
– Ходят тут всякие, – сказал Павлик. – Пошли, Петь, в стукалочку сыгранём.
И они ушли. А этот мальчик говорит:
– Я теперь у вас во дворе буду жить. Вот в этом доме.
Подумаешь, пускай живёт, нам не жалко!
– Будешь в пряталки играть? – спрашиваю у него.
– Буду.
– А кто водить будет? Чур, не я!
И Люська сразу:
– Чур, не я!
И мы ему сразу:
– Тебе водить.
– Вот и хорошо. Я люблю водить.
И уже глаза руками закрывает.
Я кричу:
– Нет, так неинтересно! Чего это вдруг ты водить будешь? Водить каждый дурак любит! Давай лучше считаться.
И мы стали считаться:
- Шла кукушка мимо сети,
- А за нею малы дети,
- Все кричали: «Куку-мак,
- Выбирай, какой кулак!»
И опять ему выпало водить. Он говорит:
– Вот видите, всё равно мне водить.
– Ну нет, – говорю. – Я так играть не буду. Только появился – и сразу ему водить!
– Ну, води ты.
А Люська сразу:
– Ничего подобного! Я уже давно хотела водить!
И тут мы с ней стали на весь двор спорить, кому водить. А он стоит и улыбается.
– Знаете что? Давайте вы обе будете водить, а я один буду прятаться.
Так мы и сделали. Вернулись Павлик и Петька.
– Чего это вы? – удивились они.
– Водим.
– Сразу обе?! Да вас и поодиночке водить не заставишь. Что это с вами?
– Да вот, – говорим, – это всё тот новенький придумал.
Павлик с Петькой разозлились:
– Ах, так! Это он в чужом дворе свои порядки устанавливает?! Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют.
Искали его, искали, а новенький так спрятался, что и найти его никто не может.
– Вылезай, – кричим мы с Люськой, – так неинтересно!
Мы тебя найти не можем!
Он откуда-то выскочил. Павлик с Петькой – руки в карманы – к нему подходят.
– Эй, ты! Ты где прятался? Небось, дома сидел?
– Ничего подобного, – улыбается новенький. – На крыше, – и показывает рукой на крышу сарая. А сарай высокий, метра два от земли.
– А как же ты… слез?
– Я спрыгнул. Вон в песке след остался.
– Ну, если врёшь, мы тебе дадим жару!
Пошли посмотрели. Павлик вдруг хмуро новенького спрашивает:
– А ты марки собираешь?
– Нет, – говорит новенький, – я бабочек собираю, – и улыбается.
И мне почему-то тоже сразу захотелось бабочек собирать.
И с сарая научиться прыгать.
– Как тебя зовут? – спросила я у этого мальчика.
– Коля Лыков, – сказал он.
Кровельщик чинил крышу. Он ходил по самому краю и ничего не боялся. Мы с Люськой, задрав головы, глядели на кровельщика.
И тут он нас увидел. Он помахал нам рукой, приложил руку ко рту и крикнул:
– Э-эй! Чего рты раскры-ы-ли-и? Идите помога-а-ать!
Мы бросились к подъезду. Мигом взлетели по лестнице и оказались на чердаке. Чердачная дверь была открыта. За нею в ярких солнечных лучах плясала пыль. Мы прошли по балкам и вылезли на крышу.
Ух, как здесь было жарко! Железо блестело под солнцем так, что резало глаза. Кровельщика на месте не было. Он, видно, ушёл на другую сторону крыши.
– Надо добраться до кровельщика, – сказала я. – Лезем?
– Лезем, – сказала Люська.
И мы полезли наверх.
Мы держались за большую трубу, и лезть было не страшно. Главное, не оборачиваться назад, и всё.
Но вот труба осталась позади. Дальше было только белое гладкое железо. Мы встали на четвереньки и поползли. Руками и коленками мы цеплялись за выступы железа.
Так мы проползли, наверно, целых три метра.
– Давай отдохнём, – сказала Люська и села прямо на горячее железо. – Посидим немножко, а потом…
Люська не договорила. Она большущими глазами смотрела вниз перед собой, и её губы продолжали неслышно шевелиться. Кажется, она сказала «мама» и ещё что-то.
Я обернулась.
Там, внизу, стояли дома.
Какая-то река блестела за домами. Что за река? Откуда она взялась?..
Машины, похожие на быстрых козявок, бежали по набережной. Из труб валил серый дым. С балкона соседнего дома худой человек в майке вытряхивал розовую скатерть…
А надо всем этим висело небо.
Небо было большое. Страшно большое. Огромное… И мне показалось, что мы с Люськой стали маленькие-маленькие! Совсем маленькие и жалкие на этой крыше, под этим большим небом!
И мне стало страшно. Ноги у меня одеревенели, голова закружилась, и я поняла, что ни за что на свете не сдвинусь с этого места.
Рядом сидела совершенно белая Люська.
…А солнце жарило всё сильнее. Железо под нами раскалилось, как утюг. А кровельщика всё не было. Куда он делся, этот проклятый кровельщик?
Слева от меня валялся молоток. Я дотянулась до молотка, подняла его и изо всех сил ударила по железу.
Крыша загудела, как колокол.
И тут мы увидели кровельщика.
Он бежал к нам сверху, как будто спрыгнул на крышу прямо с синего неба. Он был молодой и рыжий.
– А ну, вставайте! – крикнул он.
Он дёрнул нас рывком за шиворот и потащил вниз.
Ручищи у него были как лопаты – большие и широкие. Ох и здорово было с ним спускаться! Я даже подпрыгнула два раза по дороге… Ура! Мы снова были на чердаке!
Но не успели мы с Люськой перевести дыхание, как этот рыжий кровельщик вцепился в наши плечи и стал нас трясти как бешеный.
– С ума посходили! – орал он. – Моду завели – по крышам шляться! Распустились! Пороть вас некому!
Мы заревели.
– Не трясите нас, пожалуйста! – размазывая по лицу слёзы, сказала Люська. – Мы на вас в милицию пожалуемся!
– Чего вы дерётесь? – сказала я. – Сами нас звали, а теперь дерётесь!
Он перестал орать, выпустил наши плечи и покрутил пальцем возле лба.
– Вы что? Того? – сказал он. – Куда это я вас звал?!
Глаза у него были жёлтые. От него пахло табаком и железом.
– А кто нас помогать звал? – закричали мы в один голос.
– Помогать? – переспросил он, как будто не расслышал. – Что-о?! Помога-а-ать!
И вдруг он захохотал.
На весь чердак.
У нас чуть барабанные перепонки не лопнули – так он хохотал! Он хлопал себя по коленкам. У него слёзы текли по лицу. Он раскачивался, сгибался, он прямо падал от смеха… Ненормальный какой-то! Ну что он тут смешного нашёл?! Не поймёшь этих взрослых – то ругаются, то смеются.
А он всё хохотал и хохотал. Мы, глядя на него, тоже стали потихоньку хихикать. Он всё-таки был хороший. Уж очень он здорово смеялся!
Насмеявшись, он вынул мятый клетчатый платок и протянул его нам.
– Ну и дурёхи! – сказал он. – И где только такие водятся? Шутки надо понимать! Да какая от вас помощь, мелюзга вы этакая? Вот подрастёте – приходите. С такими помощниками не пропадёшь – дело ясное! Ну, до встречи!
И он помахал нам рукой и пошёл обратно. А сам всю дорогу смеялся.
И он ушёл.
А мы стояли и смотрели ему вслед.
Не знаю, что думала Люська, а я думала вот что:
«Ну ладно, вот мы подрастём. Пройдёт пять лет или десять… И этот рыжий кровельщик давным-давно починит нашу крышу. И где мы тогда его найдём? Ну где? Ведь крыш в Москве так много, так много!..»
Однажды мама пришла из гостей взволнованная. Она рассказала нам с папой, что дочка её подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла! И польку играла, и песни со словами и без слов, и даже полонез Огинского.
– А полонез Огинского, – сказала мама, – это моя любимая вещь! И теперь я мечтаю, чтобы наша Люська тоже играла полонез Огинского!
У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть полонез Огинского!
Я о многом мечтала.
Я мечтала никогда в жизни не делать уроков.
Я мечтала научиться петь все песни на свете.
Я мечтала целыми днями есть мороженое.
Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником.
Я мечтала быть красивой.
Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на нём играть.
Ну, ещё на гитаре или на балалайке туда-сюда, но только не на пианино.
Но я знала, что маму не переспоришь.
Мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась учительница музыки. Она велела мне что-нибудь спеть. Я спела «Ах вы, сени, мои сени». Старушка сказала, что у меня исключительный слух.
Так начались мои мучения.
Только я выйду во двор, только мы начнём играть в лапту или в «штандр», как меня зовут: «Люся! Домой!» И я с нотной папкой тащусь к Марии Карловне.
Мария Карловна учила меня играть «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок».
Дома я занималась у соседки. Соседка была добрая. У неё был рояль.
Когда я первый раз села за рояль разучивать «Как на тоненький ледок…», соседка села на стул и целый час слушала, как я разучиваю. Она сказала, что очень любит музыку.
В следующий раз она уже не сидела рядом на стуле, а то входила в комнату, то выходила. Ну, а потом, когда я приходила, она сразу брала сумку и уходила на рынок или в магазин.
А потом мне купили пианино.
Однажды к нам пришли гости. Мы пили чай. И вдруг мама сказала:
– А сейчас нам Люсенька что-нибудь сыграет на пианино.
Я поперхнулась чаем.
– Я ещё не научилась, – сказала я.
– Не хитри, Люська, – сказала мама. – Ты уже целых три месяца учишься.
И все гости стали просить – сыграй да сыграй.
Что было делать?
Я вылезла из-за стола и села за пианино. Я развернула ноты и стала по нотам играть «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок».
Я эту вещь играла очень долго. Я всё время забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала, и тыкала пальцем во все остальные ноты.
Когда я кончила играть, дядя Миша сказал:
– Молодец! Прямо Бетховен! – и захлопал в ладоши.
Я обрадовалась и говорю:
– А я ещё умею играть «На дороге жук, жук».
– Ну ладно, иди пить чай, – быстро сказала мама. Она была вся красная и сердитая.
А папа, наоборот, развеселился.
– Вот видишь? – сказал он маме. – Я же тебе говорил! А ты – полонез Огинского…
Больше меня к Марии Карловне не водили.
Селиверстова в классе не любили. Он был противный.
У него уши красные были и торчали в разные стороны. Он тощий был. И злой. Такой злой, ужас!
Однажды он меня чуть не убил!
Я в тот день была дежурной санитаркой по классу. Подошла к Селиверстову и говорю:
– Селиверстов, у тебя уши грязные! Ставлю тебе двойку за чистоту.
Ну что я такого сказала?! Так вы бы на него посмотрели!
Он весь побелел от злости. Кулаки сжал, зубами заскрипел… И нарочно, изо всей силы, как наступит мне на ногу!
У меня нога два дня болела. Я даже хромала.
С Селиверстовым и до этого никто не дружил, а уж после этого случая с ним вообще весь класс перестал разговаривать. И тогда он знаете что сделал? Когда во дворе мальчишки стали играть в футбол, взял и проткнул футбольный мяч перочинным ножом.
Вот какой был этот Селиверстов!
С ним даже за одной партой никто не хотел сидеть! Бураков сидел, а потом взял и отсел.
А Сима Коростылёва не захотела с ним в пару становиться, когда мы в театр пошли. И он её так толкнул, что она прямо в лужу упала!
В общем, вам теперь ясно, какой это был человек. И вы, конечно, не удивитесь, что, когда он заболел, никто и не вспомнил о нём.
Через неделю Вера Евстигнеевна спрашивает:
– Ребята, кто из вас был у Селиверстова?
Все молчат.
– Как, неужели за всю неделю никто не навестил больного товарища?! Вы меня удивляете, ребята! Я вас прошу сегодня же навестить Юру!
После уроков мы стали тянуть жребий, кому идти. И, конечно, выпало мне!
Дверь мне открыла женщина с утюгом.
– Ты к кому, девочка?
– К Селиверстову.
– А-а, к Юрочке? Вот хорошо! – обрадовалась женщина. – А то он всё один да один.
Селиверстов лежал на диване. Он был укрыт вязаным платком. Над ним к дивану была приколота салфетка с вышитыми розами. Когда я вошла, он закрыл глаза и повернулся на другой бок, к стене.
– Юрочка, – сказала женщина, – к тебе пришли.
Селиверстов молчал.
Тогда женщина на цыпочках подошла к Селиверстову и заглянула ему в лицо.
– Он спит, – сказала она шёпотом. – Он совсем ещё слабый!
И она наклонилась и ни с того ни с сего поцеловала этого своего Селиверстова.
А потом она взяла стопку белья, включила утюг и стала гладить.
– Подожди немножко, – сказала она мне. – Он скоро проснётся. Вот обрадуется! А то всё один да один… Что же это, думаю, никто из школы не зайдёт?
Селиверстов зашевелился под платком.
«Ага! – подумала я. – Сейчас я всё скажу! Всё!»
Сердце у меня забилось от волнения. Я даже встала со стула.
– А знаете, почему к нему никто не приходит?
Селиверстов замер.
Мама Селиверстова перестала гладить.
– Почему?
Она глядела прямо на меня. Глаза у неё были красные, воспалённые. И морщин довольно много на лице. Наверное, она была уже немолодая женщина…
И она смотрела на меня так… И мне вдруг стало её жалко. И я забормотала непонятно что:
– Да вы не волнуйтесь!.. Вы не подумайте, что вашего Юру никто не любит! Наоборот, его очень даже любят! Его все так уважают!..
Меня пот прошиб. Лицо у меня горело. Но я уже не могла остановиться.
– Просто нам столько уроков задают – совсем нету времени! А ваш Юра ни при чём!.. Он даже очень хороший! С ним все хотят дружить! Он такой добрый! Он просто замечательный!
Мама Селиверстова широко улыбнулась и снова взялась за утюг.
– Да, ты права, девочка, – сказала она. – Юрка у меня – не парень, а золото!
Она была очень довольна. Она гладила и улыбалась.
– Я без Юры как без рук, – говорила она. – Пол он мне не даёт мыть, сам моет. И в магазин ходит. И за сестрёнками в детский сад бегает. Хороший он! Правда, хороший!
И она обернулась и с нежностью посмотрела на своего Селиверстова, у которого уши так и пылали.
А потом она заторопилась в детский сад за детьми и ушла. И мы с Селиверстовым остались одни.
Я перевела дух. Без неё мне было как-то спокойнее.
– Ну вот что, хватит придуриваться! – сказала я. – Садись к столу. Я тебе уроки объяснять стану.
– Проваливай, откуда пришла, – донеслось из-под платка.
Ничего другого я и не ждала.
Я раскрыла учебник и затараторила урок.
Я нарочно тараторила изо всех сил, чтобы побыстрее кончить.
– Всё. Объяснила. Вопросы есть?
Селиверстов молчал.
Я щёлкнула замком портфеля и направилась к дверям.
Селиверстов молчал. Даже спасибо не сказал.
Я уже взялась за ручку двери, но тут он опять вдруг завозился под своим платком.
– Эй, ты… Синицына…
– Чего тебе?
– Ты… это…
– Да чего тебе, говори скорее!
– …Семечек хочешь? – вдруг выпалил Селиверстов.
– Чего? Каких семечек?!
– Каких-каких… Жареных!
И не успела я и слова сказать, как он выскочил из-под платка и босиком побежал к шкафу.
Он вынул из шкафа пузатый ситцевый мешочек и стал развязывать верёвку. Он торопился. Руки у него дрожали.
– Бери, – сказал он.
На меня он не глядел. Уши у него горели малиновым огнём.
Семечки в мешке были крупные, одно к одному. В жизни я таких семечек не видала!
– Чего стоишь? Давай бери! У нас много. Нам из деревни прислали.
И он наклонил мешок и как сыпанёт мне в карман прямо из мешка! Семечки дождём посыпались мимо.
Селиверстов охнул, кинулся на пол и стал их собирать.
– Мать придёт, ругаться будет, – бормотал он. – Она мне вставать не велела…
Мы ползали по полу и собирали семечки. Мы так торопились, что два раза стукнулись головами. И как раз, когда мы подняли последнее семечко, в замке звякнул ключ…
Всю дорогу домой я щупала шишку на голове, грызла семечки и смеялась:
«Ну и чудак этот Селиверстов! И не такой уж он и тощий! А уши – уши у всех торчат. Подумаешь, уши!»
Целую неделю ходила я к Селиверстову.
Мы писали упражнения, решали задачи. Иногда я бегала в магазин за хлебом, иногда в детский сад.
– Хорошая у тебя подружка, Юра! Что же ты мне раньше о ней ничего не рассказывал? Мог бы давно нас познакомить!
Селиверстов выздоровел.
Теперь он стал приходить ко мне делать уроки. Я познакомила его с мамой. Маме Селиверстов понравился.
И вот что я вам скажу: не такой уж он в самом деле плохой, Селиверстов!
Во-первых, он теперь учится хорошо, и Вера Евстигнеевна его хвалит.
Во-вторых, он больше ни с кем не дерётся.
В-третьих, он научил наших мальчишек делать змея с хвостом.
А в-четвёртых, он всегда ждёт меня в раздевалке, не то что Люська!
И я всем так говорю:
– Вот видите, вы думали, Селиверстов плохой. А Селиверстов хороший! Селиверстов не парень, а золото!
Сегодня я долго не могла заснуть.
А когда я наконец заснула, мне приснилась лошадь с синими глазами. Её звали Сима Коростылёва.
Сима ходила по моей комнате и махала хвостом. Потом Сима громко заржала, и я поняла, что это значило:
«Почему ты до сих пор не вернула мне пятьдесят копеек?»
И вдруг она превратилась в Павлика Иванова и как заорёт:
«Бессовестная! Бессовестная! Вчера всю контрольную у меня списала! Сознайся во всём, сознайся!»
Я подумала, что сейчас провалюсь от стыда под землю. И тут же провалилась.
Я проснулась в холодном поту.
Да, всё правда. И деньги я Симе не отдала, и контрольную у Иванова списала. И мне почему-то поставили «пять», а ему «три».
Ну, контрольная – ладно, что уж теперь поделаешь? Списала и списала. Но вот пятьдесят копеек!..
Я вытряхнула из копилки пятьдесят копеек и пошла в школу.
По дороге продавали большие бордовые гранаты.
– Почём гранаты? – нерешительно спросила я.
– Сколько будете брать? – решительно спросила тётенька.
– Один, – сказала я, и у меня во рту пересохло.
– Пятьдесят копеек.
…Когда мы с Люськой ели гранат, я пожаловалась ей на плохие сны.
– А ты спи с открытой форточкой, – сказала Люська.
Нам нужно было выбрать звеньевого. А кого можно выбрать в звеньевые? Ну конечно, самого лучшего человека в звене! А кто у нас самый лучший? Ну конечно, Коля Лыков!
Коля у нас отличник. Коля добрый, он последним поделится. Коля лучше всех занимается физкультурой. Он решительный и смелый. И он серьёзный.
– Кто за то, чтобы Коля Лыков стал звеньевым?
Все подняли руки.
– Встань, Коля, – сказала я. – Мы тебя поздравляем! Теперь ты будешь нашим звеньевым.
Коля встал.
– Я не могу быть звеньевым, – сказал Коля.
– Как это? Почему не можешь? – удивились все.
Коля молчал и смотрел в парту. В классе наступила тишина. Всё наше звено смотрело на Колю.
– Коль, ты не стесняйся, – сказала Люська. – Ты лучше честно скажи. Ну, может, ты больной, и тебе трудно…
– Я не больной, – сказал Коля. – Я бабушку свою вчера обидел… Она меня на каток не пускала. И я на неё разозлился… Я вообще злой. Я такой злой – просто ужас! Я ей сказал, что зря она к нам из Саратова переехала. Пусть лучше обратно уезжает!
– А она? – спросила Сима Коростылёва.
– А она сказала, что завтра же уедет. А я её знаю – раз она сказала, значит, сделает.
– Чего же ты ждёшь? – закричала я. – Беги скорей домой и проси у бабушки прощения, пока не поздно!
Коля грустно покачал головой.
– Нет, она меня никогда не простит, – сказал Коля. – Она сама мне так сказала.
Что нам оставалось делать? Мы закончили наше собрание и всем звеном отправились домой к Коле Лыкову просить у его бабушки прощения.
Мы поднялись по лестнице и позвонили в дверь. За дверью было тихо.
– Уехала, – сказал Коля. – Теперь я тоже уеду.
Он шмыгнул носом, вынул из кармана ключ и вошёл в пустую квартиру.
Дело было плохо. Мы знали Колю. Коля был такой же, как его бабушка, – раз сказал, значит, сделает.
Мы бросились во двор. Мы решили во что бы то ни стало догнать Колину бабушку. Симу Коростылёву мы оставили караулить возле Колиных дверей.
Во дворе на табуретках сидели две старушки.
– Скажите, пожалуйста, вы бабушку Лыкову знаете? – кинулись мы к ним.
– А как же, знаем, – сказали старушки.
– А вы не знаете, на какой она вокзал поехала?
– На вокзал?! Да что вы, милые! Вон она идёт!
Мы обернулись. Во двор входила Колина бабушка. В руках у неё была авоська с батоном.
Мы бросились к ней, окружили её и стали наперебой кричать:
– Бабушка, простите Колю. Простите, пожалуйста, Колю!
– Что случилось? – испуганно закричала Колина бабушка. – В чём дело? Что вам надо? Какого ещё Колю?
– Ну, Колю, вашего внука, – стали объяснять мы. – Он ведь вас обидел – вот и простите его!
Колина бабушка вдруг ужасно рассердилась.
– Ах, вот оно что! – грозно сказала она. – Вот вам чего надо? Это он вас подослал?! Так-так. Всё понятно.
– Бабушка, он не подсылал! – закричали мы. – Вы даже не представляете, как он переживает! Он даже из дома собрался уехать!
– Как это уехать! Куда уехать? – испугалась Колина бабушка. – Ещё чего выдумал! – Она подняла голову и закричала в окно тоненьким голосом: – Коля! Коля!
Коля в окне не появлялся. Колина бабушка охнула и схватилась за сердце:
– Боже мой! Уехал!
Неужели Сима его просмотрела? Что же теперь будет?
Я махнула рукой, и мы изо всех сил заорали:
– Ко-ля! Ко-ля!
И тут Коля появился в окне. В руках у него был рюкзак… Коля увидел нас и выронил рюкзак. Он не стал его поднимать. Он прижал лицо к стеклу и стал на нас смотреть. Ну и вид у него был!
Волосы торчат в разные стороны. Глаза красные, распухшие. Нос тоже красный и толстый, как картошка. А от уха до уха улыбка. Очень глупый вид!
Бабушка его даже засмеялась. Она перестала держаться за сердце и смеялась, смеялась… И вытирала платком слёзы.
И Коля в окне смеялся.
И мы тоже смеялись.
И старушки на табуретках смеялись.
И какой-то мужчина посмотрел на нас, потом на Колю и тоже стал смеяться.
Так мы стояли и смеялись долго-долго. Наверное, целый час.
А на следующий день Коля Лыков стал нашим звеньевым.
Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная. Но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами.
Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме:
– Мам, а у меня задачка не получается.
– Не ленись, – говорит мама. – Подумай хорошенько, и всё получится. Только хорошенько подумай!
Она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей:
– Думай, голова. Думай хорошенько… «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожалуйста! Ну что тебе стоит!
За окном плывёт облачко. Оно лёгонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывёт дальше.
Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе не стыдно!!! «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно, простила. Но разве она подойдёт, такая вредина?!
«…Из пункта А в пункт Б…» Нет, она не подойдёт. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмёт под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки.
«…Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» А я что сделаю?.. А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает?.. Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить её, чтобы она дала им послушать. Сто раз слушали, всё им мало! И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку.
«… Из пункта А в пункт… в пункт…» А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в её окно. Стекло – дзинь! – и разлетится. Пусть знает.
Так. Я уже устала думать. Думай не думай – задача не получается. Просто ужас какая задачка трудная! Вот погуляю немножко и снова стану думать.
Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классики. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела.
– Серёжка! Витька! – закричала сразу Люська. – Идёмте в лапту играть!
Братья Кармановы выглянули в окно.
– У нас горло, – хрипло сказали оба брата. – Нас не пустят.
– Лена! – закричала Люська. – Лен! Выходи!
Вместо Лены выглянула её бабушка и погрозила Люське пальцем.
– Павлик! – закричала Люська.
В окне никто не появился.
– Пе-еть-ка-а! – надсаживалась Люська.
– Девочка, ну что ты орёшь?! – высунулась из форточки чья-то голова. – Больному человеку отдохнуть не дают! Покоя от вас нет! – И голова всунулась обратно в форточку.
Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела как рак. Она подёргала себя за косичку. Потом сняла с рукава нитку. Потом посмотрела на дерево и сказала:
– Люсь, давай в классики.
– Давай, – сказала я.
Мы попрыгали в классики, и я пошла домой решать свою задачу.
Только я села за стол, пришла мама:
– Ну, как задачка?
– Не получается.
– Но ведь ты уже два часа над ней сидишь! Это просто ужас, что такое! Задают детям какие-то головоломки!.. Ну давай показывай свою задачу! Может, у меня получится? Я всё-таки институт кончала… Так… «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Постой, постой, что-то эта задача мне знакома!.. Послушай, да ведь вы её в прошлый раз вместе с папой решили! Я прекрасно помню!
– Как? – удивилась я. – Неужели?.. Ой, правда, ведь это сорок пятая задача, а нам сорок шестую задали.
Тут мама страшно рассердилась.
– Это возмутительно! – сказала мама. – Это неслыханно! Это безобразие! Где твоя голова?! О чём она только думает?!
Я долго ждала этого утра.
Миленькое утро, скорей приходи! Пожалуйста, что тебе стоит, приходи побыстрее! Пусть скорей кончится этот день и эта ночь! Завтра я встану рано-рано, позавтракаю быстро-быстро, а потом позвоню Коле, и мы пойдём на каток. Мы так договорились.
Ночью мне не спалось. Я лежала в постели и представляла, как мы с Колей, взявшись за руки, бежим по катку, как играет музыка, и небо над нами синее-синее, и блестит лёд, и падают редкие пушистые снежинки…
Господи, ну скорей бы прошла эта ночь!
В окнах было темно. Я закрыла глаза, и вдруг оглушительный звон будильника впился в оба моих уха, в глаза, во всё моё тело, как будто тысяча звонких пронзительных шил одновременно воткнулись в меня. Я подпрыгнула на постели и протёрла глаза…
Было утро. Светило ослепительное солнце. Небо было синее, как раз о таком я мечтала вчера!
Редкие снежинки, кружась, влетали в комнату. Ветер тихо колыхал занавески, а в небе, во всю его ширь, плыла тоненькая белая полоса.
Она всё удлинялась, удлинялась… Конец её расплывался и становился похож на длинное перистое облако. Всё вокруг было синее и тихое. Мне надо было торопиться: стелить постель, завтракать, звонить Коле, но я не могла сдвинуться с места. Это синее утро заколдовало меня.
Я стояла босыми ногами на полу, глядела на тонкую самолётную полоску и шептала:
– Какое синее небо… Синее, синее небо… Какое синее небо… И падает белый снег…
Я шептала так, шептала, и вдруг у меня получилось, как будто я шепчу стихи:
- Какое небо синее,
- И падает снежок…
Что это? Ужасно похоже на начало стихотворения! Неужели я умею сочинять стихи?
- Какое небо синее,
- И падает снежок,
- Пошли мы с Колей Лыковым
- Сегодня на каток.
Ура! Я сочиняю стихи! Настоящие! Первый раз в жизни! Я схватила тапки, наиз-нанку напялила халат, бросилась к столу и принялась быстро строчить на бумаге:
- Какое небо синее,
- И падает снежок,
- Пошли мы с Колей Лыковым
- Сегодня на каток.
- И музыка гремела,
- И мчались мы вдвоём,
- И за руки держались…
- И было хорошо!
Дзы-ынь! – вдруг зазвонил в прихожей телефон.
Я помчалась в коридор. Наверняка звонил Коля.
– Аллё!
– Это Зина? – раздался сердитый мужской бас.
– Какая Зина? – растерялась я.
– Зина, говорю! Кто у телефона?
– Л-люся…
– Люся, дайте мне Зину!
– Таких тут нет…
– То есть как нет? Это ДВА ТРИ ОДИН ДВА ДВА НОЛЬ ВОСЕМЬ?
– Н-нет…
– Что же вы мне голову морочите, барышня?!
В трубке загудели сердитые гудки.
Я вернулась в комнату. Настроение у меня было слегка испорчено, но я взяла в руки карандаш, и всё снова стало хорошо!
Я принялась сочинять дальше.
- И лёд сверкал под нами,
- Смеялись мы – хи-хи…
Дзын-нь! – снова зазвонил телефон.
Я подпрыгнула как ужаленная. Скажу Коле, что не могу сейчас пойти на каток, занята очень важным делом. Пусть подождёт.
– Аллё, Коля, это ты?
– Я! – обрадовался мужской бас. – Наконец-то дозвонился! Зина, дай мне Сидора Иваныча!
– Я не Зина, и тут никаких Сидоров Иванычей нет.
– Тьфу, чёрт! – раздражённо сказал бас. – Опять в детский сад попал!
– Люсенька, кто это звонит? – послышался из комнаты сонный мамин голос.
– Это не нас. Сидора Иваныча какого-то…
– Даже в воскресенье не дадут поспать спокойно!
– А ты спи ещё, не вставай. Я сама позавтракаю.
– Ладно, дочка, – сказала мама.
Я обрадовалась. Хотелось быть сейчас одной, совсем одной, чтобы никто мне не мешал сочинять стихи!
Мама спит, папа в командировке. Поставлю чайник и буду сочинять дальше.
Сиплая струя с шумом полилась из крана, я держала под ней красный чайник…
- И лёд сверкал под нами,
- Смеялись мы – хи-хи,
- И мы по льду бежали,
- Проворны и легки.
Ура! Замечательно! «Смеялись мы – хи-хи!» Так и назову это стихотворение!
Я грохнула чайник на горячую плиту. Он зашипел, потому что был весь мокрый.
- Какое небо синее!
- И падает снежок!!
- Пошли мы с Колей Лыковым!!!
– С тобой заснёшь, – застёгивая в дверях стёганый халатик, сказала мама. – Что это ты раскричалась на всю квартиру?
Дзы-ынь! – снова затрещал телефон.
Я схватила трубку.
– Нету тут никаких Сидоров Иванычев!!! Тут Семён Петрович живёт, Лидия Сергеевна и Людмила Семёновна!
– Ты чего орёшь, с ума, что ли, сошла? – услышала я удивлённый Люськин голос. – Сегодня погода хорошая, пойдёшь на каток?
– Ни за что на свете! Я ОЧЕНЬ ЗАНЯТА! ДЕЛАЮ ЖУТКО ВАЖНОЕ ДЕЛО!
– Какое? – сразу спросила Люська.
– Пока сказать не могу. Секрет.
– Ну и ладно, – сказала Люська. – И не воображай, пожалуйста! Без тебя пойду!
Пусть идёт!!
Пусть все идут!!!
Пусть катаются на коньках, а мне некогда на такие пустяки время тратить! Они там на катке покатаются, и утро пройдёт, как будто его и не было. А я стихи сочиню, и всё останется. Навсегда. Синее утро! Белый снег! Музыка на катке!
- И музыка гремела,
- И мчались мы вдвоём,
- И за руки держались,
- И было хорошо!
– Слушай, что это ты разрумянилась? – сказала мама. – У тебя не температура, случайно?
– Нет, мамочка, нет! Я сочиняю стихи!
– Стихи?! – удивилась мама. – Что же ты насочиняла? А ну-ка, прочти!
– Вот, слушай…
Я встала посреди кухни и с выражением прочла маме свои собственные замечательные, совершенно настоящие стихи.
- Какое небо синее,
- И падает снежок,
- Пошли мы с Колей Лыковым
- Сегодня на каток.
- И музыка гремела,
- И мчались мы вдвоём,
- И за руки держались,
- И было хорошо!
- И лёд сверкал под нами,
- Смеялись мы – хи-хи,
- И мы по льду бежали,
- Проворны и легки!
– Потрясающе! – воскликнула мама. – Неужели сама сочинила?
– Сама! Честное слово! Вот не веришь?..
– Да верю, верю… Гениальное сочинение, прямо Пушкин!.. Слушай-ка, а между прочим, я, кажется, только что видела Колю в окно. Могли они с Люсей Косицыной идти на каток, у них вроде коньки с собой были?
Какао встало у меня в горле. Я поперхнулась и закашлялась.
– Что с тобой? – удивилась мама. – Давай я тебя по спине похлопаю.
– Не надо меня хлопать. Я уже наелась, не хочу больше.
И я отодвинула недопитый стакан.
В своей комнате я схватила карандаш, сверху донизу перечеркнула толстой чертой листок со стихами и вырвала из тетради новый лист.
Вот что я на нём написала:
- Какое небо серое,
- И не падает вовсе снежок,
- И не пошли мы ни с каким
- дурацким Лыковым
- Ни на какой каток!
- И солнце не светило,
- И музыка не играла,
- И за руки мы не держались,
- Ещё чего не хватало!
Я злилась, карандаш у меня в руках ломался… И тут в прихожей опять затрезвонил телефон.
Ну чего, чего они меня всё время отвлекают? Целое утро звонят и звонят, не дают человеку спокойно сочинять стихи!
– Аллё!!!
Откуда-то издалека донёсся до меня Колин голос:
– Синицына, пойдёшь «Меч и кинжал» смотреть, мы с Косицыной на тебя билет взяли?
– Какой ещё «Меч и кинжал»? Вы же на каток пошли!
– С чего ты взяла? Косицына сказала, что ты занята и на каток не пойдёшь, тогда мы решили взять билеты в кино на двенадцать сорок.
– Так вы в кино пошли?!
– Я же сказал…
– И на меня билет взяли?
– Ага. Пойдёшь?
– Конечно, пойду! – закричала я. – Конечно! Ещё бы!
– Тогда давай скорее. Через пятнадцать минут начинается.
– Да я мигом! Вы меня подождите обязательно! Коля, слышишь, подождите меня, я только стишок перепишу и примчусь. Понимаешь, я стихи написала, настоящие… Вот сейчас приду и прочту вам, ладно?.. Привет Люське!
Я как пантера ринулась к столу, вырвала из тетрадки ещё один лист и, волнуясь, стала переписывать всё стихотворение заново:
- Какое небо синее,
- И падает снежок.
- Пошли мы с Люськой, с Колею
- Сегодня на каток.
- И музыка гремела,
- И мчались мы втроём,
- И за руки держались,
- И было хорошо!
- И лёд сверкал под нами,
- Смеялись мы – хи-хи,
- И мы по льду бежали,
- Проворны и легки!
Я поставила точку, торопливо сложила листок вчетверо, сунула его в карман и помчалась в кино.
Я бежала по улице.
Небо надо мной было синее!
Падал лёгкий искристый снежок!
Светило солнце!
С катка, из репродукторов, доносилась весёлая музыка!
А я бежала, раскатывалась на ледках, подпрыгивала по дороге и громко смеялась:
– Хи-хи! Хи-хи! Хи-хи-хи!
К нам во двор пришёл человек. В кожаном пиджаке. В кожаной кепке. В чёрных кожаных штанах.
В руках он держал кожаный чемоданчик.
Он подошёл к нам с Люськой и сказал:
– Девочки, скоро будет день Восьмого марта. Я надеюсь, вы помните, что это за день?
Люська сказала:
– Конечно, помним! А что? Вы думали, мы забыли?
А я сказала:
– Вы для того к нам во двор пришли, чтобы напомнить? А почему, дяденька, вы нам напоминаете? У вас что, работа такая?
Этот кожаный дяденька засмеялся и сказал:
– У меня работа другая. Я работаю корреспондентом на радио. И если вы, девочки, хотите поздравить своих мам с Восьмым марта, то я запишу ваше поздравление на плёнку, и ваши мамы услышат его по радио.
Мы с Люськой ужасно обрадовались!
– Давайте, – сказала Люська. – Записывайте. Я люблю выступать по радио. Чур, я первая!
Я закричала:
– Фигушки! Всегда ты первая! Чур, первая я!
– Не ссорьтесь, – сказал корреспондент. – Она будет первая. – И показал на Люську.
Мне стало очень обидно, потому что всегда она со своими разноцветными глазами первая.
Я даже хотела уйти, но передумала. Во-первых, не так уж часто приходится выступать по радио, а во-вторых, я всё равно лучше Люськи поздравлю свою маму. Пусть не воображает, что у неё разноцветные глаза!
Мы сели на лавочку.
Корреспондент открыл свой чемоданчик, в нём оказался магнитофон.
– Вот сейчас я нажму на кнопку, – сказал корреспондент, – и ты расскажешь нам о своей маме. О том, кем она работает и как ты её любишь, а потом поздравишь её с праздником Восьмого марта. Поняла?
Люська кивнула.
Корреспондент нажал на кнопку, круги в чемоданчике завертелись, и Люська громко заговорила:
– Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка работает инженером на текстильной фабрике. Она очень умная и красивая. Она висит на Доске почёта, потому что её все уважают. Я поздравляю мою дорогую мамочку Валентину Ферапонтовну Косицыну с праздником Восьмого марта! Я желаю моей мамочке здоровья и счастья. И я желаю ей получить премию за первый квартал. А ещё я желаю счастья всем мамам на свете! И чтобы их дети учились только на «хорошо» и «отлично»!
– Стоп, – сказал корреспондент и нажал на кнопку.
Круги остановились.
– Очень хорошо, девочка! – сказал корреспондент. – Как тебя зовут?
– Люся Косицына, – гордо сказала Люська.
– Та-ак… Люся Косицына… – записал корреспондент в записной книжечке.
– Ну, а теперь давай ты, – повернулся он ко мне. – Говори так же, как твоя подруга. Громко и отчётливо.
Почему я должна говорить так же, как моя подруга? Да я в тысячу раз лучше скажу!
Круги в магнитофоне завертелись, и я вдруг сказала хриплым шёпотом:
– Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку…
– Стоп, – сказал корреспондент. – Не волнуйся. Говори громко и отчётливо.
Круги завертелись снова.
– Моя мамочка очень хорошая! – закричала я. – Я очень люблю мою мамочку!
– Стоп, – сказал корреспондент. – Зачем ты так кричишь? Говори потише… Начали!
– Моя мамочка очень хорошая, – сказала я. – Я очень люблю мою мамочку!
– Стоп, – сказал корреспондент. – Это уже было. Поздравь свою маму своими словами.
У меня защипало в носу. Круги магнитофона стали вдруг расплываться перед глазами…
– Начали! – скомандовал корреспондент.
– Я очень люблю мою мамочку, – сказала я. – Моя мамочка очень хорошая…
– Веселей! – сказал корреспондент. – У тебя что, зубы болят?
Чтобы не заплакать, я ущипнула себя за ухо и воскликнула:
– Я очень люблю мою мамочку! Моя мамочка очень хорошая!
– Что же ты остановилась? – сказал корреспондент. – Дальше…
Я ущипнула себя за бок через карман пальто и сказала:
– Она работает кандидатом химических наук в институте мясо-молочной промышленности…
Корреспондент кивнул: «Всё, мол, правильно».
– Кандидатом химических наук, – повторила я. – И каждый день ходит на работу. То есть моя мамочка не ходит, она ездит на работу на автобусе, а мы с Ураном остаёмся дома. Уран – это моя собака, и я его тоже очень люблю. Но мою мамочку я всё-таки люблю больше. Она такая хорошая, кормит меня по утрам винегретом, манной кашей… Только я манную кашу не очень люблю. Терпеть её не могу!
Я увидела, как у корреспондента делаются круглые глаза.
– Да-да, я манную кашу ненавижу! Я говорю: «Мама, ну можно, я её не буду?» А она: «Ни за что! Ешь – и всё!»
Я говорю: «Ну я же эту гадость видеть не могу!» А она: «Пока не съешь, не выйдешь из-за стола!»
Не понимаю, почему нужно так мучить человека?! Вот Люську никогда так не мучают!
У меня слёзы закапали из глаз.
Я вынула платок, сморкнулась и вдруг вспомнила, что выступаю по радио! На весь свет жалуюсь на свою маму!
А всё эта проклятая каша! Всякое соображение у меня отшибла!
– Ой, ну при чём тут каша! – закричала я. – Что она ко мне привязалась? Мамочка, ты не подумай, что я тебя не люблю! Я тебя всё равно люблю! Правда-правда! Честное слово! Да если хочешь, я эту противную кашу с утра до ночи буду есть! Только ты не сердись, ладно? А то, когда ты сердишься, у тебя лицо злое. Я всю жизнь буду кашу есть, только не сердись.
Я так люблю, когда ты добрая! У тебя тогда такое лицо красивое и смех замечательный! Мы всегда с папой смеёмся, когда ты смеёшься. И ты, пожалуйста, никогда не болей, ладно? А то мы с папой прямо умираем, когда у тебя голова болит, так нам тебя жалко! А ещё…
– Хватит, – сказал корреспондент. – Спасибо, девочка.
Жжикнула «молния», корреспондент закрыл свой чемоданчик.
– Честно говоря, никогда в жизни ещё не записывал такого поздравления, – сказал корреспондент.
– Вы фамилию мою забыли записать, – сказала я.
– А ты мне просто скажи. Я твою фамилию и так запомню. Ну, как твоя фамилия?
– Синицына Люся, – сказала я.
– Как я тебя понимаю, Синицына Люся! – сказал корреспондент. – Я тоже в детстве терпеть не мог манной каши… Ну, ладно. Пока, девочки. Большое вам спасибо.
Он перекинул ремень от чемоданчика через плечо и ушёл.
Восьмого марта я проснулась первая и сразу побежала включать радио.
В шесть часов утра передавали «Последние известия», а нас с Люськой не передавали.
И в семь нас не передавали.
И в восемь.
И в девять нас не передавали, и в одиннадцать, и в два… И настало тридцать две минуты четвёртого, и вдруг нас стали передавать!
Сначала говорили про какую-то школу, где к Восьмому марта ученики шестого «Б» выпустили альбом с фотографиями всех мам и вокруг фотографий нарисовали всякие цветы.
Вокруг одной мамы розы, вокруг другой – маки, вокруг третьей – незабудки, а вокруг других мам всякие другие цветы…
А потом разные дети стали поздравлять по радио своих мам, и я подумала:
«Вот, сейчас!..»
И вдруг голос нашего знакомого корреспондента сказал:
– А сейчас свою маму поздравит школьница Люся Косицына.
Я закричала:
– Мама! Мама! Иди сюда! За Люськой я тебя буду поздравлять!
И мама прибежала из кухни, и мы вместе с ней слушали, как Люська говорила:
«Моя мамочка очень хорошая.
Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка работает инженером на текстильной фабрике. Она очень умная и красивая. Она висит на Доске почёта, потому что её все уважают. Я поздравляю мою дорогую мамочку Валентину Ферапонтовну Косицыну с праздником Восьмого марта! Я желаю моей мамочке здоровья и счастья, и я желаю ей получить премию за первый квартал. А ещё я желаю счастья всем мамам на свете! И чтобы их дети учились только на «хорошо» и «отлично»!»
– Молодец, Люсенька, – сказала мама. – Очень хорошее выступление!
Но я сказала:
– Тише! Тише! Вот сейчас!.. Сейчас!..
И вдруг диктор сказал:
«Дорогие друзья, наша передача окончена. Шлите письма по адресу: «Москва, Радио, редакция вещания для младших школьников…»
Теперь вы понимаете, почему мы с Люськой поссорились снова!
Не хотелось мне вчера учить уроки. На улице было такое солнце! Такое тёплое жёлтенькое солнышко! Такие ветки качались за окном!.. Мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до каждого клейкого зелёного листика. Ох, как будут пахнуть руки! И пальцы слипнутся вместе – не отдерёшь друг от друга… Нет, не хотелось мне учить уроки.
Я вышла на улицу. Небо надо мной было быстрое. Куда-то спешили по нему облака, и ужасно громко чирикали на деревьях воробьи, и на лавочке грелась большая пушистая кошка, и было так хорошо, что весна!
Я гуляла во дворе до вечера, а вечером мама с папой ушли в театр, и я, так и не сделав уроков, легла спать.
Утро было тёмное, такое тёмное, что вставать мне совсем не хотелось. Вот так всегда. Если солнышко, я сразу вскакиваю. Я одеваюсь быстро-быстро. И кофе бывает вкусный, и мама не ворчит, и папа шутит. А когда утро такое, как сегодня, я одеваюсь еле-еле, мама меня подгоняет и злится. А когда я завтракаю, папа делает мне замечания, что я криво сижу за столом.
По дороге в школу я вспомнила, что не сделала ни одного урока, и от этого мне стало ещё хуже. Не глядя на Люську, я села за парту и вынула учебники.
Вошла Вера Евстигнеевна. Урок начался. Сейчас меня вызовут.
– Синицына, к доске!
Я вздрогнула. Чего мне идти к доске?
– Я не выучила, – сказала я.
Вера Евстигнеевна удивилась и поставила мне двойку.
Ну почему мне так плохо живётся на свете?! Лучше я возьму и умру. Тогда Вера Евстигнеевна пожалеет, что поставила мне двойку. А мама с папой будут плакать и всем говорить:
«Ах, зачем мы сами ушли в театр, а её оставили совсем одну!»
Вдруг меня в спину толкнули. Я обернулась. Мне в руки сунули записку. Я развернула узкую длинную бумажную ленточку и прочла:
Люся!
Не отчаивайся!!!
Двойка – это пустяки!!!
Двойку ты исправишь!
Я тебе помогу! Давай с тобой дружить! Только это тайна! Никому ни слова!!!
Яло-кво-кыл.
В меня сразу как будто что-то тёплое налили. Я так обрадовалась, что даже засмеялась. Люська посмотрела на меня, потом на записку и гордо отвернулась.
Неужели это мне кто-то написал?
А может, это записка не мне? Может, она Люське? Но на обратной стороне стояло: ЛЮСЕ СИНИЦЫНОЙ.
Какая замечательная записка! Я в жизни таких замечательных записок не получала! Ну конечно, двойка – это пустяки! О чём разговор! Двойку я запросто исправлю!
Я ещё раз двадцать перечла:
«Давай с тобой дружить…»
Ну конечно! Конечно, давай дружить! Давай с тобой дружить! Пожалуйста! Очень рада! Я ужасно люблю, когда со мной хотят дружить!
Но кто же это пишет? Какой-то ЯЛО-КВО-КЫЛ. Непонятное слово. Интересно, что оно обозначает? И почему этот ЯЛО-КВО-КЫЛ хочет со мной дружить?.. Может быть, я всё-таки красивая?
Я посмотрелась в парту. Ничего красивого не было.
Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая. А что, я плохая, что ли? Конечно, хорошая! Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет!
На радостях я толкнула локтем Люську.
– Люсь, а со мной один человек хочет дружить!
– Кто? – сразу спросила Люська.
– Я не знаю. Тут как-то непонятно написано.
– Покажи, я разберу.
– Честное слово, никому не скажешь?
– Честное слово!
Люська прочла записку и скривила губы:
– Какой-то дурак написал! Не мог своё настоящее имя сказать.
– А может, он стесняется?
Я оглядела весь класс. Кто же мог написать записку? Ну кто?.. Хорошо бы, Коля Лыков! Он у нас в классе самый умный. Все хотят с ним дружить. Но ведь у меня столько троек! Нет, вряд ли он.
А может, это Юрка Селиверстов написал?.. Да нет, мы с ним и так дружим. Стал бы он ни с того ни с сего мне записку посылать!
На перемене я вышла в коридор.
Я встала у окна и стала ждать. Хорошо бы, этот ЯЛО-КВО-КЫЛ прямо сейчас же со мной подружился!
Из класса вышел Павлик Иванов и сразу направился ко мне.
Так, значит, это Павлик написал? Только этого ещё не хватало!
Павлик подбежал ко мне и сказал:
– Синицына, дай десять копеек.
Я дала ему десять копеек, чтобы он поскорее отвязался. Павлик тут же побежал в буфет, а я осталась у окна. Но больше никто не подходил.
Вдруг мимо меня стал прогуливаться Бураков. Мне показалось, что он как-то странно на меня взглядывает. Он остановился рядом и стал смотреть в окно. Так, значит, записку написал Бураков?! Тогда уж лучше я сразу уйду. Терпеть не могу этого Буракова!
– Погода ужасная, – сказал Бураков.
Уйти я не успела.
– Да, погода плохая, – сказала я.
– Погодка – хуже не бывает, – сказал Бураков.
– Жуткая погода, – сказала я.
Тут Бураков вынул из кармана яблоко и с хрустом откусил половину.
– Бураков, дай откусить, – не выдержала я.
– А оно горькое, – сказал Бураков и пошёл по коридору.
Нет, записку не он написал. И слава богу! Второго такого жадины на всём свете не найдёшь!
Я презрительно посмотрела ему вслед и пошла в класс. Я вошла и обомлела. На доске огромными буквами было написано:
ТАЙНА!!! ЯЛО-КВО-КЫЛ+СИНИЦЫНА = ЛЮБОВЬ!!! НИКОМУ НИ СЛОВА!
В углу шушукалась с девчонками Люська. Когда я вошла, они все уставились на меня и стали хихикать.
Я схватила тряпку и бросилась вытирать доску.
Тут ко мне подскочил Павлик Иванов и зашептал в самое ухо:
– Это я тебе написал записку.
– Врёшь, не ты!
Тогда Павлик захохотал как дурак и заорал на весь класс:
– Ой, умора! Да чего с тобой дружить?! Вся в веснушках, как каракатица! Синица дурацкая!
И тут, не успела я оглянуться, как к нему подскочил Юрка Селиверстов и ударил этого болвана мокрой тряпкой прямо по башке. Павлик взвыл:
– Ах, так! Всем скажу! Всем, всем, всем про неё скажу, как она записки получает! И про тебя всем скажу! Это ты ей записку послал!
И он выбежал из класса с дурацким криком: – Яло-кво-кыл! Яло-кво-кыл!
Уроки кончились. Никто ко мне так и не подошёл. Все быстро собрали учебники, и класс опустел. Одни мы с Колей Лыковым остались. Коля всё никак не мог завязать шнурок на ботинке.
Скрипнула дверь. Юрка Селиверстов всунул голову в класс, посмотрел на меня, потом на Колю и, ничего не сказав, ушёл.
А вдруг? Вдруг это всё-таки Коля написал? Неужели Коля! Какое счастье, если Коля! У меня сразу пересохло в горле.
– Коль, скажи, пожалуйста, – еле выдавила я из себя, – это не ты, случайно…
Я не договорила, потому что вдруг увидела, как Колины уши и шея заливаются краской.
– Эх, ты! – сказал Коля, не глядя на меня. – Я думал, ты… А ты…
– Коля! – закричала я. – Так ведь я…
– Болтушка ты, вот кто, – сказал Коля. – У тебя язык как помело. И больше я с тобой дружить не хочу. Ещё чего не хватало!
Коля наконец справился со шнурком, встал и вышел из класса. А я села на своё место.
Никуда я не пойду. За окном идёт такой ужасный дождь. И судьба моя такая плохая, такая плохая, что хуже не бывает! Так и буду сидеть здесь до ночи.
И ночью буду сидеть. Одна в тёмном классе, одна во всей тёмной школе. Так мне и надо.
Вошла тётя Нюра с ведром.
– Иди, милая, домой, – сказала тётя Нюра. – Дома мамка заждалась.
– Никто меня дома не заждался, тётя Нюра, – сказала я и поплелась из класса.
Плохая моя судьба! Люська мне больше не подруга. Вера Евстигнеевна поставила мне двойку. Коля Лыков…
Про Колю Лыкова мне и вспоминать не хотелось.
Я медленно надела в раздевалке пальто и, еле волоча ноги, вышла на улицу…
На улице шёл замечательный, лучший в мире весенний дождь!
По улице, задрав воротники, бежали весёлые мокрые прохожие!
А на крыльце, прямо под дождём, стоял Коля Лыков.
– Пошли, – сказал он.
И мы пошли.
Мы пошли в театр.
Мы шли парами, и всюду были лужи, лужи, лужи, потому что только что прошёл дождь.
И мы прыгали через лужи.
Мои новые синие колготки и мои новые красные туфли стали все в чёрных брызгах.
И Люськины колготки и туфли тоже!
А Сима Коростылёва разбежалась и прыгнула в самую середину лужи, и весь подол нового зелёного платья стал у неё чёрный! Сима стала его выжимать, и платье стало как мочалка, всё мятое и мокрое внизу. И Валька решила ей помочь и стала платье разглаживать руками, и от этого на Симином платье образовались какие-то серые полосы, и Сима очень расстроилась.
Но мы сказали ей:
– Не обращай внимания! – и пошли дальше.
И Сима перестала обращать внимание и снова стала прыгать через лужи.
И всё наше звено прыгало – и Павлик, и Валька, и Бураков. Но лучше всех, конечно, прыгал Коля Лыков. Брюки у него были мокрые до колен, ботинки совершенно промокли, но он не унывал.
Да и смешно было унывать от таких пустяков!
Вся улица была мокрая и блестела от солнца.
Над лужами поднимался пар.
Воробьи трещали на ветках.
Красивые дома, все как новенькие, только что выкрашенные в жёлтый, светло-зелёный и розовый цвет, глядели на нас чистыми весенними окнами. Они радостно показывали нам свои чёрные резные балкончики, свои белые лепные украшения, свои колонночки между окнами, свои разноцветные плиточки под крышами, своих вылепленных над подъездами весёлых танцующих тётенек в длинных одеждах и серьёзных печальных дяденек с маленькими рожками в кудрявых волосах.
Все дома были такие красивые!
Такие старинные!
Такие не похожие один на другой!
И это был Центр. Центр Москвы. Садовая улица. И мы шли в кукольный театр. Шли от самого метро! Пешком!
И прыгали через лужи!
Как я люблю Москву!
Мне даже страшно, как я её люблю!
Мне даже плакать хочется, как я её люблю!
У меня всё в животе сжимается, когда я смотрю на эти старинные дома, и как люди куда-то бегут, бегут, и как несутся машины, и как солнце сверкает в окнах высоченных домов, и машины визжат, и орут на деревьях воробьи.
И вот позади все лужи – восемь больших, десять средних и двадцать две маленьких, – и мы у театра.
А дальше мы были в театре и смотрели спектакль. Интересный спектакль. Два часа смотрели, даже устали. И на обратном пути все уже торопились домой и не захотели идти пешком, как я ни просила, и мы сели в автобус и до самого метро ехали в автобусе.
Вчера Люська прибежала ко мне вся запыхавшаяся, вся сияющая и важная, вся нарядная и гордая…
– Мы с мамой были на концерте! – закричала она прямо с порога. – Ой, до чего концерт был интересный – ужас! Сейчас я тебе всё по порядку расскажу. Слушай…
Сначала мы пришли и стали раздеваться. Очередь в раздевалке – ужас! Все нарядные, духами пахнут, а некоторые в длинных платьях до пола.
Мы стояли-стояли в очереди, а потом подошли, и нам дядька-гардеробщик говорит:
– Гражданочки, я вам могу предложить бинокль. Между прочим, большое удобство – не надо на обратном пути в очереди стоять.
Мама говорит:
– Ну конечно, давайте! Терпеть не могу очередей!
И мы взяли бинокль. Ой, Люська, какой бинокль красивый – ужас! Весь беленький, перламутровый! Я сразу стала в него на очередь глядеть, только почему-то ничего не разглядела.
А потом мы стали подниматься по лестнице.
Лестница такая широкая, мраморная, а посередине ковёр.
Я бы ни за что не разрешила по такому ковру в ботинках ходить! Я бы по нему только босиком пускала. Такой замечательный ковёр – ужас!
Ну вот, мы шли, а перед нами тётка с дядькой шла и на него всё время смотрела и хохотала. А дядька довольно старый и совершенно не смешной, и чего она хохотала – непонятно. Наверное, чтобы все на неё внимание обращали.
А потом мы пришли в зал и сели на свои места.
Ой, какие у нас места были хорошие! Такие мягкие, бархатные… И кнопочками обиты. Очень хорошие места!
И вот мы сели, и мимо нас все стали проходить. Проходят и проходят…
Мама говорит:
– Граждане, ну сколько можно проходить?!
А они всё проходят. Некоторые говорят:
– Извините, разрешите пройти…
А некоторые без извинения проходят. Бессовестные какие! Проходят и ещё не извиняются! А один мальчишка мне на ногу даже наступил! Я ему взяла и тоже наступила. Пусть знает, как наступать!
Ну, наконец, прозвенел последний звонок, и они проходить перестали.
И мы стали на сцену глядеть. А там на сцене рояль посерёдке, а по обе стороны занавес свисает. Тоже бархатный.
«Эх, – думаю, – сколько можно было бы из этого занавеса платьев нашить! На весь класс хватило бы! Представляю, как бы Мухина в таком платье воображала!»
А потом на сцену вышла очень красивая тётенька. Немножко на Веру Евстигнеевну похожа, только без очков и в платье переливающемся, и сказала, что перед нами сейчас выступит заслуженная артистка республики Нина Соколова-Иванова. А может, не Нина. Может, Тамара. Не помню что-то… Нет, кажется, Нина.
И вслед за тётенькой эта самая Нина вышла и села за рояль. Она немножко вот так руки потёрла и стала на рояле играть.
Ну, у неё платье было так себе, мне не понравилось. Рукавчики короткие, тут сборочки, а тут такие пуговицы… Зато причёска, Люсь, потрясающая! Тут спереди чёлка длинная, а вот тут сбоку волосы кверху, и тут такие большие куд-ри. Я такой причёски никогда не видела! А может, это парик был, а, Люсь? Да, Люська, это наверняка был парик! Как же я сразу не догадалась!
Ну, в общем, она первую вещь сыграла, и все захлопали.
Она тогда обрадовалась, встала и начала кланяться.
А потом села и заиграла вторую вещь. Да так громко! Прямо стены затряслись! Знаешь, как старалась! Даже на месте подскакивала! Честное слово! Вот это Нина! Она так по роялю дубасила, что я боялась, как бы рояль не сломался. Всё-таки жалко рояль. Такой красивый, чёрный, блестящий!
Она по нему, наверное, целый час дубасила. Я даже есть захотела. Вспомнила, что у меня в кармане лежит конфета «Мишка», вынула её и стала разворачивать…
Но в это время Нина вдруг, как назло, заиграла тихо – устала, что ли? – и все стали на меня оборачиваться и шептать:
– Тише, девочка! Ты не в буфете!
Представляешь, она там дубасила изо всех сил, и ей никто не говорил «тише», хотя в ушах звенело, а тут конфетку нельзя спокойно съесть!
В общем, мне эта пианистка не понравилась.
А потом первое отделение кончилось, и мы с мамой пошли в буфет и стали там пить лимонад и есть пирожные.
«Да нет, – думаю, – эта пианистка ничего. Она же не виновата, что устала!»
А потом было второе отделение.
А во втором отделении она уже, видно, совсем устала. Стала играть тихо-тихо. И даже глаза закрыла.
Я сама в бинокль видела – она с закрытыми глазами играла. Вот не веришь?! Она, по-моему, даже стала засыпать… Всё тише, тише играет, голову на грудь опустила… и совсем играть перестала.
И тут все как захлопают! Как вскочат!
И она сразу от этого проснулась, и тоже вскочила, и стала кланяться, как будто и не спала вовсе, а так, притворялась немножко. А я же видела, честное слово, видела, что она заснула совсем!
Эх, хорошо всё-таки быть известной пианисткой!
Все хлопают, цветы кидают… Я, пожалуй, тоже известной пианисткой буду, я уже решила. Но только я никогда за роялем спать не буду.
Было утро. Было воскресенье. Мы с Колей сидели на дереве. На большой раскидистой ветке. Мы ели хлеб с вареньем и болтали ногами. Над нами важно проплывали толстые белые облака, а солнце светило изо всех сил, и макушка у меня стала горячая, как печка.
– Коль, давай каждый день по деревьям лазить! Утром будем залезать, а вечером слезать. И обедать будем на дереве, и уроки учить, а в школу ходить не будем.
– Давай. Я высоту люблю. Обязательно лётчиком стану, когда вырасту.
– Коль, а мне кем стать?
– Артисткой. Ты поёшь здорово.
– Правда, Коль?! Честное слово, я хорошо пою?
– Мне нравится. Вот ты вчера во дворе пела «Как провожают пароходы», а я сидел дома и слушал. Я даже радио выключил.
– А хочешь, я сейчас спою?
– Давай.
И я запела:
- Как провожают пароходы-ы,
- Совсем не так, как поезда-а-а…
Я ужасно старалась. Украдкой я посматривала на Колю. У Коли было задумчивое и серьёзное лицо. Он смотрел вдаль. Может быть, он думал о том, как станет лётчиком, когда вырастет.
- Вода, вода,
- Кругом вода… —
пела я.
И вдруг я услышала:
– Эй, Люська, где ты?
Под деревом стоял Павлик Иванов.
Мы с Колей замерли. От этого Иванова только и жди неприятностей! Ведь он всем разболтает, что мы на дерево залезли. И достанется же нам тогда от родителей! И во дворе станут дразнить «жених и невеста»…
Иванов походил вокруг песочницы, поглядел по сторонам.
– Люська! – заорал он. – Выходи! Я тебя нашёл! Ты в подвале сидишь!
В это время из подъезда вышла моя Люська.
– С чего это ты решил, что я в подвале сижу? – удивилась Люська.
– Да не ты! – сказал Павлик Иванов. – Тут Синицына где-то спряталась и оттуда поёт. Давай её искать?
– Вот ещё! – сказала Люська. – Сама отыщется… И потом, разве она умеет петь? Пищит, как цыплёнок. Слушать противно!
– Всё-таки странно, – сказал Павлик. – Где же она? Я слышал её голос где-то рядом.
– Да что ты заладил – «её голос, её голос»! Только и слышу со всех сторон: «Ах, какой у Синицыной голос! Ах, как Синицына хорошо поёт!..» Да если хочешь знать, это я её всем песням научила!
Это было такое враньё, что я чуть с дерева не свалилась.
– Спокойно! – сказал Коля. – Не волнуйся, а то они нас увидят.
– И вообще у неё слуха нет, – сказала Люська. – Ты даже не представляешь, как я с ней измучилась, пока я её научила петь «Как провожают пароходы».
– Не ври, Люська, – не выдержала я. – Как не стыдно врать!
– Ага! – сказал Павлик. – Она точно где-то здесь!
Люська завертела головой во все стороны.
– Ну вот, я пошутила, а ты уж и поверил, – сказала она громким голосом. – «Как провожают пароходы» – это она меня научила. И «Ладу» и «Русское поле». А зато я её арию Ленского научила петь. А арию Ленского в сто раз интересней петь, чем «Русское поле»! И пусть не воображает, что лучше всех поёт. Подумаешь, певица нашлась!
Она потянулась.
– Вчера Сергей Фёдорович приехал, – сказала она всё так же громко. – Привёз мне во-от такой арбуз!
И груши во-от такие! И сегодня мы с ним идём на балет «Доктор Айболит». Сейчас надену своё синее платье, туфли надену новые – красные, с дырочками – и пойдём.
И она ушла.
Павлика позвали, и он тоже ушёл. Мы с Колей слезли с дерева.
Всё обошлось хорошо. Никто нас не видел. Никто не ругал. Я даже почти не поцарапалась. Солнце светило так же ярко. Облака были такие же белые.
И было тепло. И было ещё утро. И было воскресенье. Но настроение у меня было испорчено.
– Она пошла смотреть «Доктора Айболита», – сказала я. – А я так давно мечтала о «Докторе Айболите»!
– Люсь, – сказал Коля, – ты ведь не кончила. Спой дальше, а!
– И туфли у неё новые…
Я посмотрела на свои потрескавшиеся сандалии.
– Люсь, ну спой, пожалуйста.
– И ей привезли арбуз. Всё-таки несправедливо. Почему всё ей?
– Ты будешь петь дальше? – сказал Коля.
– И груши, – сказала я. И мне захотелось плакать.
Тут Коля посмотрел на меня как-то странно.
– Ну ладно, я пойду, – вдруг сказал Коля. – Ты меня, пожалуйста, извини. Меня ждёт мама.
Он повернулся и пошёл.
– Коль!
Он не остановился. Он шёл к подъезду. Ну и пусть! Много о себе думает! Что я такого сказала? Ну что?
Коля уходил. Я знала, почему он уходит. Колина спина мелькнула на площадке второго этажа. Я знала, знала, почему он уходит!
– Постой! – крикнула я и побежала его догонять.
Я догнала его только на третьем этаже.
– Коль! – забормотала я. – Подожди! Ну подожди, пожалуйста! Я… я хочу тебе одну загадку загадать. Знаешь, какая загадочка отличная! Ни за что не отгадаешь. Правда-правда! Вот послушай… А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало, кто остался на трубе?
– Знаю я эту загадку, – хмуро сказал Коля.
– Коль, – сказала я. – Ты не думай!.. Не думай… Честное слово, я не такая! Я прямо сама не знаю, что на меня нашло! Подумаешь – туфли! Да у меня ведь есть новые туфли! И арбуз – ерунда! Мой папа сколько хочешь таких арбузов может привезти… И груши…
Мы спустились с лестницы и вышли во двор.
– А ты всё-таки спой, – сказал Коля. – Ведь ты не кончила.
И я запела:
- Как провожают пароходы-ы,
- Совсем не так, как поезда-а-а…
В окне в своём новом платье стояла Люська. Она ела грушу.
Я лежала и думала:
«Я уже целых пять дней больна, а она ни разу ко мне не зашла! Какая же она подруга после этого?»
Подумаешь, обиделась на меня из-за какой-то чепухи! Я сказала, что она хоть и отличница, а глупая, книжек не читает, зубрит одни учебники… Так чего же обижаться, если это правда? И потом, у меня уже тогда температура высокая была – тридцать семь и две. Разве можно обижаться на больного человека?
Вот возьму и тоже на неё обижусь!
И никогда не прощу! Пусть подлизывается, пусть прощения просит – ни за что её не прощу!
В прихожей зазвонил звонок. Пришёл Коля.
Он вошёл в комнату, сел на стул и сказал:
– Привет. Как себя чувствуешь? Как температура?
– Спасибо, Коль. Плохо я себя чувствую. Температура очень высокая – тридцать шесть и семь!
– Наверное, тридцать семь и шесть, – сказал Коля.
– Наверно. Может, даже больше. Знаешь, ничего есть не хочется, кроме апельсинов и зефира в шоколаде. Даже уроки делать не хочется. Я вчерашнее домашнее задание так и не сделала, представляешь?
– Представляю, – сказал Коля. – Это очень плохо. Запустишь всё. Ты и так последнее время на одних троечках ползёшь.
– Ну и что? – сказала я. – Хочу и ползу! Это, между прочим, не твоё дело!
– А чьё же? Кто, интересно, у нас звеньевой? Кстати, мы сегодня проводили сбор звена и решили ко всем отстающим прикрепить шефов. Коростылёва будет с Ивановым заниматься, Мухина с Длиннохвостовой, а к тебе прикрепили Косицыну, чтобы она тебя подтягивала. Ясно?
– Ещё чего не хватало! – закричала я. – Пусть только попробует меня подтягивать, я её с лестницы спущу!
Коля вытаращил глаза:
– Ты что, с ума сошла? Вы же подруги!
– Больше она мне не подруга!
– Не пойму я. То вас водой не разольёшь, а то друг на друга глядеть не хотите. Ненормальные какие-то!
И тут снова зазвонил звонок.
Уран, который лежал под моей кроватью, вскочил и помчался к дверям.
– Это Косицына, – сказал Коля. – Ну, я пошёл. Не буду вам мешать.
– Коля, не уходи! Не хочу я, чтобы она меня подтягивала, мы поссорились, понимаешь?
– Поссорились – значит, надо помириться. И вообще, хватит вам ссориться. Вы своими ссорами всему классу надоели.
Он направился в прихожую:
– Привет, Косицына.
– Привет, – услышала я Люськин писклявый голос.
– Пока.
– Пока, – сказала Люська.
Хлопнула дверь. Коля ушёл.
Уран как сумасшедший прыгал и визжал в передней. За что он любит эту Люську, понять не могу! Я лично её терпеть не могу! Подтягивать, видите ли, меня пришла! Ну что ж, посмотрим, как это у неё получится!
Долго из передней доносилось до меня неразборчивое Люськино бормотание и ласковые визги Урана.
Наконец, в двери показалась Люськина чёлка, вернее, один её кусочек, и левый глаз, светло-зелёный, в жёлтую крапинку.
Потом остальная чёлка и правый – коричневый глаз.
Потом всё остальное.
Люська вошла в комнату. Уран вбежал за ней и стал прыгать рядом, хотел лизнуть её в лицо. Люська отворачивалась и смеялась.
Она ещё и смеётся!
– Уран, ко мне! – скомандовала я. – Не смей приставать к посторонним лицам!
– Это я «постороннее лицо»?! Уранчик, иди ко мне, миленький! Сама она «постороннее лицо»!
И она расселась на моём стуле и стала гладить моего Урана!
– Уранчик, ми-и-лый, хоро-о-ший, я тебе котлетку принесла. Вот тебе котлетка. Кушай…
– Уран, не смей есть чужих котлет!
Но противный Уран уже на всю комнату чавкал Люськиной котлетой. Этого ещё не хватало!
– Выплюнь! – закричала я. – Немедленно выплюнь котлету!
– Не обращай на неё внимания! – сказала Люська. – Воображала она, понимаешь? – И стала вытаскивать из портфеля ещё какой-то пакет. – Вот, я тебе и колбаски захватила…
– Уран! – заорала я. – Не смей есть эту паршивую колбасу!
– Видишь, что я тебе говорила? Воображает! Думает, без неё никто прожить не может! Думает, она заболела, и все так и побегут её навещать! Скучать будут – прямо лопнут. Пусть не воображает! Я по тебе соскучилась, а не по ней. На́ вот тебе ещё пирожок с повидлом.
Я вскочила с постели, схватила Урана за ошейник и потащила к себе.
– Сиди тут! – приказала я. – Нечего ей распоряжаться! Пусть свою собаку заводит и кормит всякими тухлыми пирожками!
Но как только я выпустила Уранов ошейник, этот предатель снова бросился к Люське!
– Молодец, Уранчик! – обрадовалась Люська. – Не слушай её. Она думает, она умная, книжек много читает! Да она своего «Витю Малеева» уже полгода мусолит!.. Ешь, ешь пирожок. Правда, вкусный? Его бабушка пекла, когда ещё здоровая была…
Пирожок мгновенно исчез в Урановой пасти.
Уран сидел перед Люськой, повизгивал, вертел хвостом и глядел на неё влюблёнными глазами.
– Да! Ты же ещё не знаешь, что с моей бабушкой случилось? – сказала Люська. – Представляешь, Уран, мою бабушку вчера в больницу увезли!
Уран взвизгнул и ещё сильнее завертел хвостом.
– Не верь ей, Уран! Врёт она! У неё бабушка здоровая как бык! – закричала я.
– Это моя бабушка здоровая как бык?! Я тебе, Уранчик, честное слово даю: моя бабушка утюг на ногу уронила, и её в больницу увезли! У неё, бедненькой, нога прямо раздулась, стала такая круглая! Знаешь, как ей больно было!..
– Врёт! – сказала я. – От утюга нога так не раздуется.
– Да утюг-то чугунный был! – вскочила Люська. – Чугунный, тяжеленный! Бабушка так плакала! Так ей больно было! Иди сюда, Уранчик. Иди ко мне… Правда, жалко мою бабушку? Правда, жалко?
Люська опустилась на колени, обхватила Урана руками за шею, уткнулась в него лицом и вдруг… заревела.
Неужели притворяется?
Нет, она не притворялась. Плакала.
Слёзы катились по её лицу. Она сидела на полу и вытирала лицо руками, а руки были в чернилах, и всё лицо её стало в чернилах, и шерсть у Урана на голове стала синяя.
Бабушка всегда заставляла Люську мыть после школы руки мочалкой. Бедная Дарья Семёновна! Неужели её и вправду увезли в больницу? Неужели Люська не врёт?!
Нет, не врёт она. Сидит на полу, плачет и всего Урана намочила своими слезами… Бедная Люська! Что же делать? Что ей сказать?
– Люська, – сказала я, – перестань реветь. Ты Урана чернилами перемазала.
– Мне ба-а-бушку жа-а-лко… Ей там в больнице так гру-у-стно… так бо-о-льно…
– Люська, да чего ты на полу сидишь? Поправится твоя бабушка!
Но Люська заревела ещё сильней.
Уран жалобно заскулил. Я почувствовала, как у меня защипало в глазах. Не хватало мне ещё зареветь!
– Люська, – сказала я, – если у тебя нет платка, можешь вытираться моей простынёй. Ну, иди сюда. Вытирайся, а?
Люська подползла к моей кровати. Лицо у неё было всё полосатое, красное, а глаза вдруг стали одного цвета, какого-то грустного, мышиного… Она сидела рядом с моей постелью и вытирала лицо простыней. Слава богу, мама этого не видела!
– Она там ходить не мо-о-жет… Лежит в больнице на кровати… Одна-а-а… Без меня-а-а…
Я не выдержала. Я почувствовала, что тоже хлюпаю носом.
– Люська, ну не пла-а-чь! Мне тоже твою бабушку жалко, я же не пла-а-чу!
– Бедная моя бабушка, – не унималась Люська. – Бедная моя ба-абушка-а-а…
– Люсенька, ну успокойся! Съешь яблочко, а?
– Не хочу-у-у… Мне бабушку жа-а-алко…
– Ну не плачь! Прошу тебя, не плачь! Слушай, ты же подтягивать меня пришла? Что же ты плачешь? Тебя прикрепили ко мне или не прикрепили? А ну, отвечай: прикрепили или нет?
– Прикре… прикрепили, – всхлипнула Люська.
– Так что же ты сидишь? Подтягивай меня скорее! Слышишь? Съешь яблоко и начинай меня подтягивать, ладно? Люсь, ну ладно? Ладно? Только не плачь, пожалуйста, очень тебя прошу-у-у!
– Ладно, – тяжело вздохнула Люська, снова прерывисто всхлипнула и в первый раз за всё это время посмотрела мне прямо в лицо грустными мышиными глазами.
– Выделим в словах приставки и суффиксы, – сказала Вера Евстигнеевна. – Приставки будем выделять волнистыми чёрточками, а суффиксы прямыми…
Я сидела и смотрела на доску. Рядом Люська с умным видим писала что-то в тетрадке.
Мне было скучно. Приставки – суффиксы, суффиксы – приставки… За окном замяукала кошка. Интересно, чего она мяукает? На хвост ей наступили, что ли?.. Приставки – суффиксы, суффиксы – приставки… Скучища!
– Возьмите карандаши и подчёркивайте, – сказала Вера Евстигнеевна.
Я взяла карандаш, поглядела на Люську и, вместо того чтобы подчёркивать, написала на промокашке:
Здравствуйте высокая уважаемая Людмила Ивановна!
Люська старательно выделяла в тетрадке суффиксы и приставки. Делать ей нечего! Я стала писать дальше.
Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семёновна. Привет с далёкого Севера!
Люська покосилась на мою промокашку и снова принялась выделять приставки.
…Как поживают ваши детки Серёжа и Костя? Ваш Серёжа очень красивый. А ваш Костя очень умный и замечательный. Я просто влюбилась в него с первого взгляда! Он у вас такой талантливый, прямо ужас! Он у вас сочиняет книжки для детей, потому что он у вас писатель. А ваш сын Серёжа – дворник. Потому что он хоть и красивый, а бестолковый. Он плохо учился, и его выгнали из института.
Люська бросила беспокойный взгляд на мою промокашку. Её, видно, тревожило, что я такое там пишу?
… А ваш муж Синдибобер Филимондрович очень злой. Он весь седой, и ходит с длинной бородой, и бьёт вас палкой, и мне вас ничуточки не жалко!
Тут я прыснула, и Люська снова недовольно на меня покосилась.
…А сами вы тоже уже старая тётенька. Вы толстая, как бочка, и худая, как скелет, и у вас спереди одного зуба нет.
Тут я прямо давиться стала от смеха. Люська посмотрела на меня с ненавистью.
… А у нас всё по-прежнему. Мы живём от вас далеко, и по вас не скучаем, и никаких приставок и суффиксов не замечаем. Это всё мура и ерунда, и не хочется нам этого учить никогда!
– Та-а-ак… – услышала я вдруг за спиной и похолодела.
Рядом со мной неизвестно откуда выросла фигура Веры Евстигнеевны!
Я быстро прикрыла промокашку руками.
– Та-а-ак. Весь класс занимается, а Синицына, как всегда, увлечена посторонним делом. Дай-ка сюда то, что ты пишешь! Быстрее, быстрее!
Я уже успела скомкать промокашку, но рука Веры Евстигнеевны повелительно протянулась… Вера Евстигнеевна вынула промокашку из моей вспотевшей ладони и развернула её.
– Интересно, чем это мы занимаемся на уроках?
Учительница разгладила промокашку и, слегка откинув назад голову, стала читать:
– «Здравствуйте высокая уважаемая Людмила Ивановна!..»
Класс насторожился.
– Между прочим, перед обращением ставится запятая, – ледяным голосом сообщила Вера Евстигнеевна. – «…Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семёновна…»
Класс тихо захихикал.
– «Привет с далёкого Севера!» – с невозмутимым лицом произнесла Вера Евстигнеевна.
Класс захохотал. Я не знала, куда провалиться. А Вера Евстигнеевна читала громко и отчётливо:
– «Как поживают ваши детки Серёжа и Костя? Ваш Серёжа очень красивый. А ваш Костя…»
С классом творилось что-то невообразимое.
А учительница читала дальше. К моему ужасу, она не пропускала ни одного слова! Она читала очень спокойно, только всё сильнее и сильнее откидывала назад голову, только брови её ползли выше и выше:
– «…И его выгнали из института.
А ваш муж Си… Синди…» Как? Тут что-то непонятное…
– Синдибобер, – тихо сказала я.
С моими ушами творилось что-то страшное. От них всей моей голове было горячо и неприятно.
– Ка-а-ак?!
Класс на секунду замер.
– Синдибобер, – повторила я. – Синдибобер Филимондрович…
И тут класс как будто взорвался. Все захохотали в полный голос. Как сумасшедшие!
Валька Длиннохвостова, которая сидела слева от меня, вся красная как рак, тоненько и пронзительно визжала. Иванов, выпучив глаза и раскрыв рот, катался по парте. А толстый Бураков от смеха прямо повалился с парты, как мешок.
Одна Вера Евстигнеевна не смеялась.
– Встань, Бураков! – приказала она. – Не вижу ничего смешного! И вообще, прекратите шум в классе!
Бураков сейчас же вскочил. Хохот смолк, как по команде. В полной тишине учительница дочитала мою промокашку.
Теперь все ждали, что будет дальше. Одна Длиннохвостова всё ещё давилась смехом за соседней партой.
– Ну что же, – сказала учительница. – Теперь мне всё ясно. Я всегда подозревала, Синицына, что для тебя приставки и суффиксы «мура и ерунда».
И не только приставки и суффиксы!
Класс снова насторожился. Сима Коростылёва с открытым ртом слушала каждое слово Веры Евстигнеевны и переводила взгляд с меня на неё и обратно.
– Выходит, я была права… Ну что же… Раз это так, раз учёба для тебя, по твоему собственному выражению, «мура и ерунда», придётся поступить с тобой, как с тем Серёжей, которого за плохую успеваемость выгнали из института, и освободить тебя от занятий в школе!
Общий вздох, похожий на вздох ужаса, пронёсся по классу. Дело принимало серьёзный оборот…
– Да, Синицына, я допустила ошибку. Я полагала, что ты стала учиться хуже потому, что тебе трудно, потому, что ты много болела и пропустила, а что же оказывается?.. Оказывается, тебе просто «не хочется этого учить никогда»! Встань, когда с тобой разговаривает учитель!
Я стояла перед Верой Евстигнеевной. Слёзы падали у меня из глаз и тихо стукались о чёрную крышку парты.
– Что же ты молчишь? И зачем ты плачешь? – сказала Вера Евстигнеевна. – Не хочешь учиться, забирай портфель и уходи. По крайней мере, не будешь отвлекать от занятий тех, кто учиться хочет. В частности, свою подругу, с которой ты могла бы брать пример! Ты свободна. Иди, Синицына.
В классе стояла гробовая тишина. Такая, что отчётливо слышалось шлёпанье моих слёз о мокрую парту.
– Вера Евстигнеевна, я больше не буду, – прошептала я. – Можно мне остаться?
– Нет, – твёрдо сказала Вера Евстигнеевна. – Передай своим родителям, пусть завтра придут в школу.
– А я?..
– А ты можешь не приходить.
Я собирала портфель. Руки мои дрожали. Люська смотрела на меня вытаращенными от ужаса глазами.
– Это можешь оставить себе, – сказала Вера Евстигнеевна.
Я сунула злополучную промокашку в портфель и медленно поплелась к дверям.
Все провожали меня глазами. Все сидели и молчали.
Больше они меня никогда не увидят.
Представляю, как они радуются: «Мало ей! Так ей и надо!»
Все, все радуются. Никому до меня нет никакого дела. Ни Иванову! Ни Длиннохвостовой! Ни Люське! Ни даже Коле Лыкову!
Вон они все сидят и молчат. И завтра даже не вспомнят меня! Даже не вспомнят!
Я взялась за ручку двери и медленно потянула её на себя…
И вдруг за моей спиной в полной тишине грохнула крышка парты, и с места вскочил Коля Лыков. Лицо у него было красное.
– Вера Евстигнеевна! – заикаясь, крикнул он. – Разрешите, пожалуйста, Синицыной остаться! Она не будет б-б-больше писать на уроках писем! Ч-ч-честное слово, не будет!
– Вера Евстигнеевна, она правда больше не будет! – послышался писклявый голос с последней парты, и я увидела, как над партой в дальнем углу класса повисла тощая фигура Ирки Мухиной, жуткой вредины и воображалы. – Она не нарочно! Это она по глупости написала, Вера Евстигнеевна!
– Конечно, по глупости! – подхватила Сима Коростылёва. – Вера Евстигнеевна, по глупости! Честное слово!
– Да дура она, чего там говорить! – закричал Иванов. – Только не надо её выгонять! Она хоть и дура, а не надо!
– Не надо! Не надо! – закричали все. – Не надо её выгонять!
Я стояла около двери. Я не знала, что мне делать. Они кричали со всех сторон. Они не хотели, чтобы меня выгоняли! И моя Люська, моя вредная Люська, кричала громче всех:
– Вера Евстигнеевна, она больше не будет! Простите её, пожалуйста! Простите её! Простите!
Вера Евстигнеевна с каким-то удивлением глядела на класс. Она переводила взгляд с Иванова на Длиннохвостову, с Длиннохвостовой на Коростылёву, с Коростылёвой на Колю Лыкова, и на лице её проступало странное выражение. Как будто ей хотелось улыбнуться, но она изо всей силы сдерживалась, и делала строгое лицо, и хмурила брови…
– Вот оно что! – медленно сказала она. – Значит, вы не хотите, чтобы я Синицыну выгоняла?
– Не хотим! Не хотим! – закричали все. И даже ленивый Бураков разжал толстые губы и басом произнёс:
– Не хотим!
– Ну, а как же нежелание Синицыной учиться?
– Это она пошутила! Это она просто так!
– «Просто так»? – нахмурилась Вера Евстигнеевна.
И тут снова вперёд выступил Коля Лыков.
– Вера Евстигнеевна, – сказал он. – Синицына действительно учится неважно. Но обещаю вам как звеньевой, я сделаю всё, чтобы она стала учиться хорошо!
– Ах, так?.. Ты это обещаешь, Коля?..
Вера Евстигнеевна на секунду задумалась.
– Ну что же… Если ты мне это обещаешь… И потом, я не могу не считаться с мнением класса. Ладно, Синицына. Садись на своё место. Но смотри, Коля Лыков за тебя поручился. Не подведи своего товарища!
И я пошла обратно.
Я весь урок слушала учительницу.
Я прямо глаз с неё не сводила. Приставки и суффиксы я подчёркивала так, что чуть не продавила насквозь тетрадь.
И вот прозвенел звонок.
Вера Евстигнеевна собрала тетрадки, взяла классный журнал и пошла в учительскую.
И тут весь класс окружил меня плотной стеной.
– Ну, Синицына, ты дала! – сказал Иванов. – Как там у тебя про Костю?
– «Ваш Костя умный и замечательный», – сказала Сима Коростылёва.
– «И я в него влюбилась», – захихикала Валька Длиннохвостова. – Ой, не могу! Не могу! Синицына, ну и дура же ты!
– А как про Серёжу-дворника? Его из института выгнали, да? Здорово! Люська, а откуда ты всё это взяла! В книжке прочла?
– А этот-то… как его… Синдибобер Филимондрович? Злой, с седой бородой, дерётся палкой… Ой, не могу! Умора!
– А про Косицыну-то как! Про Косицыну! Что она худая, как скелет, и у неё зуба спереди нет! Люська, а ну-ка, открой рот!
– Ну и глупо! – сказала Люська. – И ничего смешного нет. Тоже мне, подруга называется! Да у неё, может, двух зубов не хватает. Это ещё не значит, что я об этом всему классу должна докладывать!
– Ребята, – сказала Вера Евстигнеевна. – На наш класс дали десять билетов на праздничный концерт. Я долго думала, кому из вас их отдать, но потом решила вот что: пусть на концерт пойдёт самое дружное звено в нашем классе… Как вы считаете, это решение справедливое?











