Читать онлайн История Рима от основания Города
- Автор: Тит Ливий
- Жанр: Античная литература
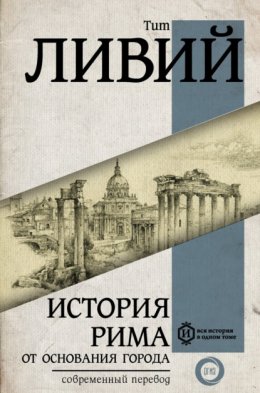
© Коллектив авторов, перевод, 2020
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021
Вступительное слово
Выдающийся римский историк Тит Ливий происходил из города Патавия (совр. Падуя). Этот город располагался в Цизальпинской Галлии, которая в момент рождения Ливия была еще римской провинцией и лишь позже, но еще при жизни Ливия, стала частью Италии. Сам город был венетским, хотя его основание приписывали троянскому герою Антенору, бежавшему в эти края после падения Трои. Ко времени рождения Ливия родным языком патавианцев уже была латынь. В 89 г. до н. э. городу было предоставлено латинское гражданство, а в 49 г. до н. э. или немного позже Патавий стал римским муниципием, и его граждане были приписаны к трибе Фабии. Гражданские войны обошли Патавий стороной, и город, разбогатевший на торговле шерстью, скоро стал одним из самых богатых в округе. Его процветание в это время доказывается археологией. В начале императорской эпохи в Патавии насчитывалось 500 всадников, т. е. богатых граждан, относившихся ко второму сословию империи, и вместе с испанским Гадесом он в этом уступал только самому Риму. Город был известен спокойной провинциальной жизнью и строгими нравами, давно утраченными в столице.
Точная дата рождения Ливия спорна. Долгое время принимали, что историк родился в 59 г. до н. э. Но сейчас многие ученые предпочитают говорить о 64 г. Это значит, что в 49 г., когда началась новая гражданская война, будущий историк был уже вполне сознательной личностью. Ливий, по-видимому, получил обычное для состоятельных юношей образование. Судя по тому, что он в своем труде активно использовал Полибия и ранних римских историков, писавших по-гречески, он явно хорошо знал греческий язык, что, впрочем, для образованных римлян того времени не было проблемой. Женился Ливий на Кассии Приме, от которой имел несколько сыновей, один из которых стал автором трактата по географии, а также дочь, вышедшую замуж за ритора Люция Мария. После некоторых попыток заняться риторикой и философией Ливий обратился к написанию истории. Это не было новым делом для Рима. Римляне давно занимались историей. Но обычно это было лишь одной гранью их деятельности. Порой политический деятель, лишенный возможности активно участвовать в политической жизни, обращался к истории, видя в ней оружие своей борьбы. Ливий не участвовал в политической жизни, он был далек от армии и военных дел, не занимал административных постов. Единственным смыслом и делом его жизни, его профессией стало историописание. Можно сказать, что Ливий был первым римским профессиональным историком.
В 31 г. до н. э. флот Октавиана разгромил армаду Антония, а в следующем году потерпевший окончательное поражение Антоний покончил с собой. Октавиан стал единственным повелителем государства. Было еще неясно, как будет оформлена его власть, но что она будет единолично принадлежать приемному сыну Цезаря, ясно было всякому. Процесс оформления этой власти начался в январе 27 г., и тогда Октавиан стал именоваться Августом. В этот промежуток времени Ливий начал писать своей грандиозный труд, который назвал «От основания Города» (Ab Urbe condita). Писать он начал, по-видимому, в Патавии, но позже на какое-то, видимо, довольно продолжительное время перебрался в Рим, где сблизился с самим Августом. Нет основания не доверять словам Тацита, правда, вложенным в уста историка Кремуция Корда, о дружеских отношениях между Августом и Ливием. Есть сведения об участии Ливия в образовании будущего императора Клавдия, которому он навсегда привил вкус к истории. Позже Ливий, вероятно, все же вернулся на родину, где и был похоронен.
Ливий явно был необыкновенным трудоголиком. Его произведение грандиозно уже по своему объему. Известно, что он содержал не меньше 142 книг (в античном понимании этого слова). Начинал историк с прибытия в Италию Энея и краткой предыстории Рима, а завершал, насколько нам сейчас известно, гибелью пасынка Августа Друза в 9 г. до н. э. Эта гибель едва ли была таким уж знаменательным событием в римской истории, чтобы Ливий счел ее вехой для завершения своего труда. Вероятнее всего, причиной завершения «От основания Города» гибелью Друза стала смерть историка. Некоторые ученые полагают, что Ливий написал больше книг, и, следовательно, он продолжил свою историю и после гибели Друза. Но это – из области гаданий. Для написания своей истории Ливий использовал огромное количество сочинений своих предшественников, как римских, так и греческих. Их надо было внимательно прочитать, оценить, иногда сравнить друг с другом, т. е. провести определенную аналитическую работу, а затем уже написать свой текст. Точная дата смерти Ливия спорна, как и дата его рождения. Но, во всяком случае, речь идет либо о 17, либо о 12 г. н. э. Значит, свои, по крайней мере, 142 книги он написал приблизительно за 45 лет. Получается, что он ежегодно писал по три-четыре книги, а к тому же, известно, что некоторые он еще переделывал. Последние книги Ливия были изданы уже после его смерти. Своим трудом историк приобрел заслуженную славу среди современников и ближайших потомков. Его зять пользовался известностью ритора именно из-за авторитета тестя. Ливия цитировали отец и сын Сенеки, его огромный труд в кожаном переплете имел в своей библиотеке удалившийся в далекий испанский Бильбилис Марциал. О нем писал Плиний Младший. Его сочинение использовали более поздние историки. Еще в начале V в. им широко пользовался Орозий. Но постепенно сама огромность ливиевского сочинения сыграла с ним злую шутку. Постепенно образованные римляне стали терять вкус к обширным сочинениям. Им стало удобнее читать краткие извлечения или сокращения. Так появились так называемые периохи ста сорока двух книг Ливия. Они до нас дошли. Краткое изложение было найдено также на папирусе в Египте. Из самого же произведения Ливия дошли первые десять книг, затем двадцать пять – с XXI по XLV. Об остальных книгах приходится судить в основном по периохам и цитатам других римских авторов, а также иногда находимым фрагментам.
В своем труде Ливий возвращается к традиции анналистов, организуя материал по годам. Но это – не бесстрастная летопись, а яркое произведение, пронизанное определенными идеями. В молодости будущий историк явно изучал Цицерона и воспринял цицероновскую философию истории. Цицерон утверждал, что преимущество Римского государства, определившее его величие, состоит в его постепенном формировании, позволившем сменявшим друг друга поколениям исправлять ошибки предшественников и вносить новые элементы. Такой история Рима предстает и у Ливия. В этой неустанной борьбе за величие римского народа римляне и их выдающиеся деятели проявили лучшие качества – доблесть (virtus), благочестие (pietas), верность (fides), справедливость (iustitia). Это все было составной частью римской системы ценностей. В эту систему входила свобода (libertas), противопоставленная произволу (licentia). И для Ливия история Рима в большой мере – это история свободы, завоеванной свержением Тарквиния и все более укрепляющейся и расширяющей свою сферу в ходе развития Рима. Еще одно качество было дорого Ливию – moderatio (умеренность, сдержанность), противопоставленная luxuria (изнеженность, необузданность). Ее проявил Цинциннат, после блестящей победы сложивший диктатуру и вернувшийся к своему скромному участку, обрабатываемому его собственными руками. Ее позже проявил Сципион, сначала отказавшийся от предложенной ему в дар красивой юной пленницы, а затем от царского титула, который готовы были преподнести ему благодарные испанцы. В последнем случае он заявил, что для него лучшая награда – звание полководца римского народа.
Некоторая провинциальная старомодность Ливия, как и его простой и ясный стиль, вызывали насмешки столичных интеллектуалов, с иронией говоривших о его «патавианстве». Но его идеи нравились Августу. Ливий не был придворным историком. Он даже задавал крамольный вопрос: рожден ли был Цезарь на стыд или на пользу римского народа? И Август, по-видимому, немного посмеиваясь, называл Ливия «помпеянцем». Но основные идеи историка шли полностью в русле политики принцепса, который сознательно поставил историю на службу своему режиму.
Рим был одним из столпов, на которых покоится современная европейская, в том числе российская, цивилизация. Поэтому история Рима столь важна для понимания сущности этой цивилизации. Произведение Ливия – хорошая площадка для такого понимания. А, кроме того, это – занимательное чтение, дающее широкому читателю возможность наглядно увидеть и даже прочувствовать грандиозную историческую драму со множеством персонажей, с их взаимоотношениями, победами и поражениями, героизмом и трагедями. И в этом бессмертие Тита Ливия.
Циркин Ю.Б.
Периохи книг
(Iа) Прибытие Энея в Италию и его деяния. Царствование в Альбе Аскания, Сильвия и потом Сильвиев. Рождение Ромула и Рема от Марса и дочери Нумитора. Убиение Амулия. Основание города Ромулом. Избрание сената. Война с сабинами. Посвящение богатой добычи Юпитеру Феретрию. Разделение народа на курии. Победа над фиденцами и вейянами. Обожествление Ромула. Нума Помпилий вводит чин священнодействий. Закрытие Янусовых врат. Тулл Гостилий опустошает альбанскую землю. Битва трех близнецов. Казнь Меттия Фуфеция. Гибель Тулла от молнии. Анк Марций побеждает латинов и основывает Остию. Тарквиний Старший побеждает латинов, строит цирк, успешно воюет с соседями, строит стены и клоаки. Огонь над головою Сервия Туллия. Сервий Туллий побеждает вейян, разделяет народ на разряды, посвящает храм Диане. Тарквиний Гордый убивает Туллия и захватывает царскую власть. Надругательство Туллии над отцом. Турн Гердоний убит Тарквинием. Война с вольсками. Разорение Габий хитростью Секста Тарквиния. Основание Капитолия. Алтари Термина и Ювенты не поддаются перенесению. Самоубийство Лукреции. Изгнание Тарквиния Гордого. Всего царской власти в Риме было 255 лет.
(Iб) <…> (Анк Марций), победив латинов, прибавляет к городу Авентинский холм, расширяет границы, выводит поселение в Остию, возобновляет обряды, учрежденные Нумою. Царствования его 24 года. В его правление в Рим является этрусский гражданин Лукумон, сын Демарата Коринфского от Тарквиниев, вступает в дружбу с Анком, принимает имя Тарквиния Старшего и после кончины Анка захватывает власть. Он избирает сто человек в сенат, покоряет латинов, устраивает цирковые игры, пополняет центурии всадников, окружает город стеною, строит клоаки. Убит сыновьями Анка, процарствовавши 38 лет. (Он, желая испытать гадательное искусство авгура Атта Навия, спросил у него, может ли сбыться то, о чем он думает, и когда тот сказал, что может, приказал ему ножом разрезать камень, что Атт тотчас и сделал.) Ему наследует Сервий Туллий, рожденный от знатной пленницы из Корникула; говорят, еще в колыбели было видно пламя над его головой. Он провел первую перепись, установив впредь для них пятилетний срок, и насчитал, говорят, 80 тысяч граждан; он расширил город, присоединив к нему холмы Квиринал, Виминал и Эсквилин, и построил вместе с латинами храм Дианы на Авентине. Убит Луцием Тарквинием, сыном Старшего, по наущению собственной дочери Туллии; царствования его 44 года. Затем царскую власть захватил Луций Тарквиний Гордый помимо воли и сената и народа. Он завел при себе вооруженную стражу. Воевал с вольсками и на средства из захваченной добычи воздвиг на Капитолии храм Юпитера. Габии он подчинил своей власти хитростью. Когда сыновья его явились в Дельфы и вопросили, кто из них будет в Риме царствовать, им было отвечено: тот, кто первым поцелует свою мать. Они истолковали это обычным образом, сопровождавший же их Юний Брут притворно упал и поцеловал землю; и его поступок подтвердили последствия. Необузданным правлением своим Тарквиний Гордый стяжал общую ненависть, наконец, когда сын его Секст посягнул на целомудрие Лукреции, то она, призвав отца своего Триципитина и мужа Коллатина, умолила их не оставить ее смерть неотмщенною и сама поразила себя кинжалом. Усилиями, главным образом Брутовыми, Тарквиний изгнан, царствования же его было 25 лет. Затем были избраны консулами Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин.
Брут принуждает народ присягнуть, что он не потерпит в Риме ничьей царской власти. Товарища своего Тарквиния Коллатина, подозрительного родством своим с Тарквиниями, он побуждает отречься от консульства и уйти из Рима. Царское добро он приказывает разграбить, а Марсу посвящает поле, оттого именуемое Марсовым. Знатных юношей, среди которых были сыновья и его брата, и его собственные, за сговор о возвращении царей он казнит отсечением головы, а рабу, Виндицию, на них донесшему, дает свободу; с тех пор отпущение на волю называется «виндикта». Когда на него пошли войною цари, собрав войска из Вей и Тарквиний, он выступил с войском против них и погиб в сражении вместе с Аррунтом, сыном Гордого; римские женщины оплакивали его целый год. Консул Луций Валерий вносит закон об обращении к народу. Освящение Капитолия. Порсена, царь Клузия, идет войною на подмогу Тарквиниям, доходит до Яникула, но не может перейти Тибр, будучи препятствуем доблестью Горация Коклеса, который, пока остальные разрушали свайный мост, один удерживал всех этрусков, а когда мост рухнул, то в оружии бросился в реку и переплыл к своим. Другим примером доблести был Муций, который перебрался в стан врагов, чтобы убить Порсену, но убил писца, приняв его за царя; схваченный, он возложил руку на алтарь, где совершалось жертвоприношение, и претерпел боль от огня, а царю сказал, что таких, как он, есть еще три сотни. Восхищенный этим Порсена вступил в мирные переговоры и прекратил войну, взявши заложников. Среди них была девица Клелия, которая, обманувши стражу, переплыла через Тибр к своим; и когда ее возвратили Порсене, тот с честью отпустил ее, а во славу ей была поставлена конная статуя. Против самого Тарквиния Гордого, вторгшегося с латинским войском, успешно ведет войну диктатор Авл Постумий. Из сабинских мест в Рим переселяется Аппий Клавдий; оттого учреждена Клавдиева триба, и число триб увеличено до двадцати одной. Народ, недовольный наказаниями за долги, выселяется на Священную гору, но советом Менения Агриппы удержан от мятежа. Названный Агриппа был так беден, что по кончине своей был погребен на общественный счет. Учреждена должность народных трибунов в количестве пяти человек. Захвачен вольский город Кориолы благодаря доблести и усилиям Гнея Марция, за это прозванного Кориоланом. Тит Латиний, муж из народа, имел видение, приказавшее ему доложить сенату о некоторых священных предметах, а когда он этого не сделал, то потерял сына и ослабел ногами; тогда, принесенный в сенат на носилках, он доложил то, о чем было ему велено, тотчас окреп и вернулся домой на своих ногах. Когда Гней Марций Кориолан, принужденный уйти в изгнание, сделался вождем вольсков и привел неприятелей к самому Риму, и высланные к нему сперва послы, а потом жрецы тщетно умоляли его пощадить отечество, то мать его Ветурия и жена Волумния, выйдя к нему, добились того, что он отступил. Внесен первый земельный закон. Спурий Кассий, бывший консул, обвинен в стремлении к царской власти, осужден и казнен. Весталка Попилия за преступный блуд погребена заживо. Так как соседние вейяне продолжали набеги не опасные, но хлопотливые, то семейство Фабиев попросило передать эту войну ему и вышло на войну в числе 306 вооруженных мужей, но все они, кроме одного, были перебиты под Кремерой. Консул Аппий Клавдий, неудачно сражаясь против вольсков из-за упрямства своих воинов, наказывает палками каждого десятого. Книга содержит и другие военные действия против вольсков, герников и вейян, а также раздоры между сенаторами и народом.
Произошла смута из-за земельных законов. Захват Капитолия изгнанниками и рабами; но они перебиты, и он отбит. Два раза проведена перепись: по первому пятилетию насчитано граждан <…>, кроме вдов и сирот, по второму – 117 219. Так как война с эквами шла неудачно, диктатором был назначен Луций Квинкций Цинциннат, призванный к войску от сохи, когда пахал землю. Он победил врагов и провел под ярмом, а число народных трибунов довел до 10 – через 35 лет после первых трибунов. Через послов прошены и доставлены в Рим афинские законы; для предложения и утверждения их вместо консулов избраны децемвиры, и никаких других должностных лиц, – так на 302 г. от основания Рима власть перешла от консулов к децемвирам, как прежде от царей к консулам. Децемвиры составили 10 таблиц законов, и так как в высокой своей должности они вели себя сдержанно, то власть их была продлена на второй год; они прибавили к 10 таблицам еще две, но повели себя разнузданно во многих отношениях, а сложить власть отказались и держали ее уже третий год, когда наконец ненавистное их господство пало из-за похоти Аппия Клавдия. Этот последний, влюбившись в девицу Виргинию, подослал человека объявить ее рабыней и этим вынудил отца ее Виргиния к мести. Он, схвативши нож в соседней лавке, сам умертвил свою дочь, не имея иной возможности оградить ее от власти осквернителя. Народ, возмущенный видом столь великой несправедливости, поднялся и занял Авентинский холм. Децемвиры принуждены были сложить власть; Аппий, больше всех заслуживший наказания, был брошен в темницу; остальные присуждены к изгнанию. Книга содержит также успешные военные действия против сабинов и вольсков, а также неправый суд римского народа, который, будучи призван рассудить спор между ардеянами и арицинцами об одном поле, присудил это поле самому себе.
Закон о браках между патрициями и плебеями принят по настоянию народных трибунов, несмотря на великое сопротивление сенаторов. <…> Такого рода должностными лицами (военными трибунами) римский народ управлялся на войне и дома несколько лет. Первое избрание цензоров. Спорные поля народным решением отданы ардеянам, но возвращены римлянам отправкою туда поселенцев. Так как римский народ терпел голод, римский всадник Спурий Мелий стал раздавать народу хлеб за свой счет и, привлекая этим к себе народ, искать царской власти, за что и был убит по приказу диктатора Квинкция Цинцинната Гаем Сервилием Агалой, начальником конницы; Луций Минуций за обличение Мелия награжден быком с позолоченными рогами. Римским послам, убитым в Фиденах, поставлены в народном собрании статуи, так как они приняли смерть за отечество. Военный трибун Корнелий Косс, убив Толумния, царя вейян, возвращается с большою добычею. Диктатор Мамерк Эмилий ограничил срок цензорства вместо пяти лет полутора годами, за что цензоры исключили его из трибы. Фидены покорены, и туда отправлены поселенцы; фиденяне их перебили и отложились, но были побеждены диктатором Мамерком Эмилием, и город их пал. Военный трибун Постумий убит войском за свои жестокости. Впервые начата выдача войску жалованья из государственной казны. Книга содержит также военные действия против вольсков, фиденян и фалисков.
При осаде Вей войско оставлено на зимовку; эта новость вызывает негодование народных трибунов, жалующихся, что народу и зимой нет покоя от войны. Всадники впервые несут службу с собственными конями. Разлив Альбанского озера; для истолкования этого знаменья взят в плен вражеский прорицатель. Диктатор Фурий Камилл захватывает Вейи после десяти лет осады, статую Юноны перевозит в Рим, десятину добычи посылает Аполлону Дельфийскому. Он же, в должности военного трибуна осаждая Фалерии, отказывается принять предательски приведенных к нему из города детей и возвращает их родителям; фалиски тотчас сдаются, и победу сопровождает справедливость. По смерти цензора Гая Юлия на его место избран цензор-заместитель Марк Корнелий; но более так не делалось, ибо в то самое пятилетие Рим был взят галлами. Фурий Камилл, призванный к суду народным трибуном Луцием Апулеем, удаляется в изгнание. Галлы-сеноны осаждали Клузий; к ним являются послы от сената, для примирения между галлами и клузийцами, но когда начинается сражение, послы стали сражаться на стороне клузийцев, и тогда возмущенные этим сеноны двинулись войною на Рим, разбили римлян при Аллии и захватили город, кроме лишь Капитолия, на котором собрались молодые воины; старейшие же уселись у входов в свои дома, каждый с почетными знаками своих должностей, и были перебиты галлами. Галлы, попытавшись взойти на Капитолий с тыла, почти достигли вершины, как вдруг были выданы гусиным криком и отброшены доблестью, главным образом, Марка Манлия. Когда же голод принудил римлян сойти к ним, чтобы выплатить тысячу фунтов золота и тем откупиться от осады, то Фурий Камилл, заочно избранный диктатором, является с войском в самое время переговоров о мирных условиях, избивает и изгоняет галлов после шестимесячного их пребывания в Риме. (Внесено предложение из сожженного и разграбленного города переселиться в Вейи, но Камилл выступает против такого решения, а народ присоединяется к нему, приняв за знаменье слова центуриона, который, проходя с воинами через форум, приказал начальникам отрядов: «Стой, воин: здесь остановиться лучше всего». Воздвигнут храм Юпитеру Капитолийскому за то, что еще прежде взятия города слышно было вещание о скором приходе галлов.)
Успешные войны против вольсков, эквов и пренестинцев. Четыре новые трибы: Стеллатская, Троментская, Сабатская и Арнийская. Марк Манлий, оборонитель Капитолия от галлов, за помощь свою неоплатным должникам и освобождение узников обвинен в стремлении к царской власти, осужден и сброшен со скалы; в память об этом сенат постановил, чтобы никто из рода Манлиев не носил имени Марк. Народные трибуны Гай Лициний и Луций Секстий предлагают закон о том, чтобы консулов, которых избирали из патрициев, избирали также из плебеев. Несмотря на упорное сопротивление сенаторов, они, будучи одни из всех должностных лиц переизбираемы пять лет подряд, добиваются принятия закона; первым консулом из плебеев избран Луций Секстий. Принят и другой закон: о том, чтоб никому не иметь свыше 500 югеров земли.
Учреждение двух новых должностей – претора и курульного эдила. Моровая болезнь в городе, памятная смертью Фурия Камилла. Для исцеления и избавления от нее вводятся новые обряды: впервые устроены театральные зрелища. Луций Манлий призван к суду народным трибуном Марком Помпонием за жестокость при наборе воинов, но сын его, юноша Тит Манлий, сосланный отцом в деревню (что тоже вменялось в вину отцу), проникает в самую спальню трибуна и с мечом в руках заставляет его под клятвою отказаться от обвинения. Когда разверзлась земля, и все в великом страхе бросали в бездонную пропасть всё, что было ценного в городе Риме, Курций в оружии и на коне сам бросился в пропасть, и она закрылась. Юный Тит Манлий, защитивший отца своего от трибунского гонения, вызвался в бой против галла, вызывавшего на единоборство кого угодно из римлян, убил галла и снял с него золотое ожерелье (торквес), которое стал носить сам и за то получил прозвание Торкват. Учреждены две новые трибы, Помптинская и Публилиева. Лициний Столон осужден по закону, им же предложенному, за то, что имел земли больше 500 югеров. Военный трибун Марк Валерий, вызванный на единоборство галлом, одержал победу с помощью ворона, который слетел к нему на шлем и угрожал врагу клювом и когтями; за это он получил прозвание «Корв» («Ворон») и за доблесть свою был избран консулом на следующий год, имея лишь 23 года от роду. Заключение договора о дружбе с карфагенянами. Кампанцы, на которых напали самниты, просят против них помощи у Рима, а не добившись, отдаются во власть римского народа со своим городом и сельщиной; тогда римлянам, защищая это новое приобретение римского народа, пришлось выйти на войну с самнитами. Когда войско консула Авла Корнелия, заведенное в неудобное место, оказалось в великой опасности, то его спас военный трибун Публий Деций Мус, заняв место на холме над самнитским станом и тем давши возможность консулу ускользнуть на более ровное место, сам же Деций оказался во вражеской осаде, но сумел вырваться. Римские воины, оставленные для охраны Капуи, составляют заговор, чтобы захватить город, а по раскрытии заговора из страха наказания отлагаются от римского народа; но диктатор Марк Валерий Корв увещанием унял их ярость и воротил их отечеству. Книга содержит также успешные военные действия против герников, галлов, тибуртинцев, привернцев, тарквинийцев, самнитов и вольсков.
Отлагаются от Рима латины и кампанцы, требуя через послов, чтобы сенат, если хочет мира, допустил избирать одного консула из латинов. Их военачальник Анний, участник этого посольства, поскользнулся на Капитолии и разбился насмерть. Консул Тит Манлий казнит смертью своего сына, вопреки приказу бившегося с латинами, хотя тот и вышел победителем. Товарищ его по консульству Публий Деций в трудное время сражения приносит себя в жертву за римское воинство и, устремив коня в гущу врагов, погибает, своей смертью стяжав римлянам победу. Латины сдаются. Тит Манлий возвращается в Рим, но никто из юношества не выходит его приветить. Весталка Минуция осуждена за преступный блуд. Победа над авсонами, взятие их города; туда выведено поселение Калес, а другое поселение – в Фрегеллы. Изобличены в отравительстве многие матери семейств; большинство из них тотчас убивают себя, выпив свои же зелья. По этому случаю впервые издан закон об отравительстве. Мятеж привернатов; они побеждены, и им даруется римское гражданство. Неаполитанцы побеждены сражением и осадою и вынуждены сдаться. Квинт Публилий, осаждавший их, впервые получает продление власти и триумф по миновании консульства. Народ освобожден от долгового рабства после того, как заимодавец Луций Папирий в сладострастии своем попытался обесчестить должника своего Гая Публилия. Когда диктатор Луций Папирий Курсор отлучился для птицегаданий в Рим, его начальник конницы Квинт Фабий пользуется удачным случаем к сражению и вопреки его запрету одерживает победу над самнитами; за это диктатор хочет его наказать, но Фабий бежит в Рим и хоть ничего не добивается законным порядком, однако помилован диктатором ради просьб всего римского народа. Книга содержит также успешные военные действия против самнитов.
Консулы Тит Ветурий и Спурий Постумий, заведя войско в теснину Кавдинского ущелья и не имея надежды вырваться, заключают с самнитами договор, оставляют заложниками 600 римских всадников и выводят войско, проведя его под ярмом; а затем по предложению того же Спурия Постумия, чтобы народ избавился от обязательств этого договора, оба консула, виновные в таком позоре, вместе с двумя народными трибунами и всеми, кто присягал договору, головою выданы самнитам; однако самниты их не приняли. Вскоре, однако, Папирий Курсор разбивает самнитов, проводит их под ярмом, возвращает Риму 600 всадников-заложников и тем смывает позор прежнего бесчестья. Две новые трибы: Уфентская и Фалернская. Вывод поселений в Свессу и Понтию. Цензор Аппий Клавдий проводит Клавдиев водопровод, мостит дорогу, названную Аппиевой, и принимает в сенат сыновей вольноотпущенников; но консулы следующего года, почитая это недостойным оскорблением своему сословию, восстанавливают сенат таким, каким он был до последнего цензорства. Книга содержит также успешные действия против апулийцев, этрусков, умбров, марсов, пелигнов, эквов и самнитов, с которыми заново заключен договор. Писец Гней Флавий, сын вольноотпущенника, сговором голосующих избран курульным эдилом; так как голосовавшие после этого оказались в чрезмерной силе и от этого пошла смута и в народном собрании и в военном стане, то цензор Квинт Фабий всех их свел в четыре трибы, названные городскими, за что и был прозван Фабием Максимом («Величайшим»). В этой же книге упоминается Александр (Великий), правивший в это время, и по расчету тогдашних сил римского народа делается вывод, что если бы Александр переправился в Италию, то победить римский народ было бы ему не так легко, как те народы, которые он подчинил себе на Востоке.
Выведены поселения Сора, Альба и Карсеолы. Сдача марсов. Пополнение коллегии авгуров с четырех до девяти. Закон об обращении к народу в третий раз предложен консулом Муреною. Две новые трибы: Аниенская и Терентинская. Объявление войны самнитам и успешные действия против них. Между тем против этрусков, умбров, самнитов и галлов Публий Деций и Квинт Фабий воевали лишь с переменным успехом, и римское войско было уже в великой опасности, когда Публий Деций по отцову примеру принес себя в жертву за римское войско и смертью своей дал римскому народу победить в том сражении. Папирий Курсор разбил самнитское войско, хоть оно и вышло на бой, связав себя клятвою, чтобы биться доблестней и упорней. Проведена пятилетняя перепись с очистительными жертвами; граждан насчитано 272 320 человек.
Начало Второй Пунической войны. <…> и переход пунийского вождя Ганнибала через реку Ибер, в нарушение договора. Он осаждает Сагунт, союзный римскому народу, и захватывает его после восьмимесячной осады. С жалобой на эту несправедливость к карфагенянам отправлены послы. Так как карфагеняне отказываются дать удовлетворение, им объявлена война. Ганнибал, миновав Пиренейский кряж и разбивши в Галлии вольсков, пытавшихся оказать сопротивление, подступает к Альпам, и, совершив трудный переход через них, разбив в нескольких боях сопротивлявшихся галлов, спускается с гор в Италию. Здесь он разбивает римлян в конном бою при реке Тицине; в этом сражении раненый Публий Корнелий Сципион защищен своим сыном, будущим Сципионом Африканским. Вторично разбив римское войско при реке Требии, Ганнибал переходит и через Апеннины, хоть войска его и измучились от непогоды. Гней Корнелий Сципион успешно сражается с пунийцами в Италии и берет в плен их полководца Магона.
Ганнибал, четыре дня и три ночи без отдыха совершая путь по болотистым местам и от долгого бдения в этих болотах потерявши один глаз, вступает в Этрурию. Консул Гай Фламиний, человек отчаянной отваги, вырывает из земли знамена, которые не поддавались, и сам, садясь на коня, упавший через голову, выступает против Ганнибала вопреки птицегаданию, попадает в засаду и окружение и при Тразименском озере погибает вместе со всем войском; шесть тысяч человек, сумевших вырваться, положась на клятву Адгербала, вероломным Ганнибалом брошены в оковы. Когда в Риме от гонца было получено это известие и начался всеобщий плач, две матери семейств, к которым неожиданно вернулись сыновья, скончались от радости. После этого поражения по велению Сивиллиных книг объявлена Священная весна. Отправленный против Ганнибала диктатор Квинт Фабий Максим не желает вступать с ним в открытый бой, чтобы не выдвигать своих воинов, устрашенных столькими поражениями, против врага, свирепого от стольких побед, и довольствуется тем, что препятствует всем дальнейшим попыткам Ганнибала. Но его начальник конницы Марк Минуций, человек отважный и пылкий, обвиняет диктатора в лени и трусости и добивается от народа равной власти с диктатором. Отделив свое войско, он принимает бой в неудобном месте, и легионы его оказываются в величайшей опасности, но из этой опасности его вызволяет Фабий Максим, подоспев со своим войском. Побежденный таким благодеянием, он вновь соединяется с ним войсками и приветствует его как отца, приказавши сделать то же и воинам. Ганнибал, опустошив Кампанию, оказался заперт Фабием между городом Казилином и горой Калликулой; но Ганнибал, привязав хворост к рогам быков и поджегши его, обратил в бегство римский отряд, занимавший Калликулу, и таким образом вышел из ущелья. Выжигая вокруг все окрестности, он не трогает только поля Фабия Максима, чтобы навлечь на него подозрение в сговоре с врагом. Затем консулы и полководцы Эмилий Павел и Теренций Варрон терпят от Ганнибала жестокое поражение в битве при Каннах, где погибло 45 000 римских воинов, в том числе консул Павел, 90 сенаторов и 30 бывших консулов, преторов и эдилов. После этого молодые знатные юноши в отчаянии предлагают покинуть Италию; но военный трибун Публий Корнелий Сципион, впоследствии прозванный Африканским, обнажил перед колеблющимися меч и поклялся, что будет считать врагом всякого, кто не поклянется вслед за ним не покидать Италию, и этим добился, что все до одного принесли такую присягу. За недостатком воинов, к оружию призваны 8 000 рабов. Пленных, хотя и была возможность их выкупить, решено было не выкупать. Книга содержит также скорбь и страх в Риме и более успешные военные действия в Испании. Весталки Олимпия и Флоренция осуждены за преступный блуд. А Варрону сенаторы вышли навстречу и объявили благодарность за то, что он не отчаялся в судьбе отечества.
Кампанцы переходят на сторону Ганнибала. Магон, посланный в Карфаген с вестью о победе, рассыпает на пороге сената золотые кольца, снятые с убитых римлян; колец этих, говорят, набралось больше полной хлебной меры. В ответ на эту весть Ганнон, один из знатнейших пунийцев, убеждает карфагенский сенат заключить с римским народом мир; но добиться этого он не может из-за сопротивления Баркидов и их сторонников. Претор Клавдий Марцелл, находясь в Ноле, сделал вылазку против Ганнибала и сражался успешно. Город Казилин осажден пунийцами и доведен до такого голода, что люди ловили и ели мышей и даже ремни и кожу, снятую со щитов; но римляне сплавляют к ним по реке Вультурну орехи и этим помогают выжить. Сенат пополнен 197 человеками из всадников. Претор Луций Постумий с войском перебиты галлами. Гней и Публий Сципионы одерживают в Испании победу над Газдрубалом и подчиняют себе Испанию. Остатки каннского войска отправлены в Сицилию, с тем чтобы они не возвращались, пока не кончится война. Консул Семпроний Гракх побивает кампанцев. Претор Клавдий Марцелл при Ноле побеждает и обращает в бегство Ганнибалово войско, впервые подав усталым от поражений римлянам надежду на лучший исход войны. Союз Ганнибала с царем Филиппом Македонским. Книга содержит также успешные действия Публия и Гнея Сципионов в Испании, а Тита Манлия в Сардинии против пунийцев, когда были взяты в плен полководец Газдрубал, Магон и Ганнон. Войско же Ганнибала так роскошествует на зимнем постое, что расслабляется и телом и духом.
Гиероним, царь сиракузян, отец которого Гиерон был другом римского народа, переходит на сторону карфагенян, но за свою гордыню и жестокость убит своими же людьми. Проконсул Тиберий Семпроний Гракх одерживает победу при Беневенте над пунийцами во главе с Ганноном – главным образом, с помощью рабов, которых он отпустил на волю. Консул Клавдий Марцелл в Сицилии, почти целиком передавшейся карфагенянам, приступает к осаде Сиракуз. Филиппу, царю македонян, объявлена война; при Аполлонии он разбит, обращен в бегство и возвращается в Македонию с войском, почти безоружным. Продолжать эту войну послан претор Марк Валерий. Книга также содержит действия Публия и Гнея Сципионов против карфагенян; дружбы ищет Сифак, царь Нумидии, который, разбитый массилийским царем Масиниссой, сражавшимся за карфагенян, был им побежден и с большим войском переправился в Испанию близ Гадеса, где Африку и Испанию разделяет лишь узкий пролив. (Также и кельтиберы приняты в число друзей римского народа; с принятием их помощи Рим впервые стал пользоваться наемными воинами.)
Публий Корнелий Сципион, впоследствии прозванный Африканским, избран эдилом раньше положенного возраста. Ганнибал овладевает Тарентом с помощью тарентинских юношей, притворившихся, что идут на ночную охоту; только городскую крепость удерживает римский отряд. Учреждены Аполлоновы игры во исполнение пророчеств Марция, предсказавшего когда-то и поражение в Каннах. Консулы Квинт Фульвий и Аппий Клавдий успешно действуют против пунийского полководца Ганнона. Проконсул Тиберий Семпроний Гракх заманен в засаду своим гостеприимцем-луканцем и убит Магоном. Центурион Центений Пенула просит у сената войско, обещая с ним разбить Ганнибала; приняв под начало 8 000 воинов, он выходит на бой с Ганнибалом и погибает вместе с войском. Консулы Квинт Фульвий и Аппий Клавдий осаждают Капую. Претор Гней Фульвий терпит поражение от Ганнибала, потеряв 20 000 человек, а сам спасается лишь с отрядом в 200 всадников. Клавдий Марцелл на третий год осады овладевает Сиракузами и ведет себя как великий муж. При взятии Сиракуз был убит Архимед, сидевший над чертежами, расчерченными на песке. Публий и Гней Сципионы в Испании после стольких удачных побед пришли к плачевному концу и погибли со всеми войсками на восьмой год после их прибытия в Испанию. Из-за этого могла бы быть потеряна вся их провинция, если бы не усердие и доблесть римского всадника Луция Марция, который, собрав и взбодрив остатки войск, овладел двумя станами противника. Убито было до 27 000 неприятелей <…> из 1800, и захвачена большая добыча; за это Марций был объявлен полководцем.
Ганнибал разбивает лагерь над Аниеном в трех милях от Рима, а сам с двумя тысячами всадников подъезжает к самым Капенским воротам, чтобы разведать положение города. Но три дня, когда оба войска выходили на бой, сражению мешала гроза; а когда войска возвращались в лагери, небо тотчас прояснялось. Капуя взята консулами Квинтом Фульвием и Аппием Клавдием; кампанские вожди покончили с жизнью, отравив себя. Кампанских сенаторов Фульвий привязал к столбам, чтобы обезглавить; в это время от сената пришло к нему письмо с приказанием пощадить их, но Фульвий не стал его читать, положил за пазуху, приказал действовать по закону и совершить казнь. Когда в народном собрании решалось, кому поручить начальство в Испании, и все уклонялись, то Публий Сципион, сын Публия, погибшего в Испании, вызвался идти туда сам и, с общего согласия туда направившись, овладел Новым Карфагеном. Было ему 24 года, и считалось, что он божественного происхождения, потому что до своих совершенных лет он ежедневно бывал на Капитолии и потому что в опочивальне его матери часто видели змею. Книга содержит также действия в Сицилии, дружественный союз с этолийцами и войну против акарнанцев и македонского царя Филиппа.
Проконсул Гней Фульвий со всем войском разбит Ганнибалом при Гердонии и погибает. Консул Клавдий Марцелл успешнее сражается с Ганнибалом при Нумистроне; после этого Ганнибал ночью начинает отступление, а Марцелл преследует его, теснит и наконец принуждает к бою. В первом столкновении побеждает Ганнибал, во втором Марцелл. Консул Фабий Максим (отец) с помощью изменников овладевает Тарентом. Консулы Клавдий Марцелл и Тит Квинкций Криспин, выступив из лагеря на разведку, хитростью Ганнибала попадают в окружение; Марцелл убит, Криспин спасся бегством. Цензоры совершают очистительные жертвы; граждан насчитано 137 108 человек, из чего видно, сколько потерял римский народ недоброй волею судьбы в стольких битвах. В Испании при Бекуле Сципион сражается с Газдрубалом и Гамилькаром и одерживает победу; среди пленных – юноша царской крови и необычайной красоты, которого Сципион отпускает с подарками к Масиниссе, его дяде по матери. Газдрубал с новым войском переходит Альпы для соединения с Ганнибалом, но разбит консулом Марком Ливием, потеряв 56 000 человек убитыми и 1300 пленными. В этом не меньше и заслуга консула Клавдия Нерона, который, воюя против Ганнибала, оставил лагерь так, чтобы обмануть врага, а сам с отборным отрядом удалился и окружил Газдрубала. Книга содержит также действия Публия Сципиона в Испании и претора Публия Сульпиция против Филиппа и ахейцев.
Описываются успешные действия Силана, Сципионова легата и Луция Сципиона, брата его, в Испании против пунийцев, а проконсула Сульпиция в союзе с Атталом, царем Азии, против Филиппа Македонского в защиту этолийцев. Консулам Марку Ливию и Клавдию Нерону назначен триумф, причем Ливий, сражавшийся во вверенной ему области, едет на колеснице четверней, а Нерон, явившийся в область товарища, чтобы помочь его победе, следует за ним на коне, но этим лишь умножает свой почет и славу, потому что и на войне он достиг большего, чем товарищ. Пожар в храме Весты по вине не уследившей за огнем весталки; пожар потушен, виновница засечена насмерть. Публий Сципион в Испании одерживает окончательную победу над пунийцами (на 14-м году войны и на пятый год своего там пребывания); оттеснив врагов, он распространяет свою полную власть на обе Испании. Из Таррокона он плывет в Африку и заключает договор с Сифаком, царем Массилиев; там на пиру он возлежит на одном ложе с Газдрубалом, сыном Гисгоновым. В память отца и дяди он устраивает в Новом Карфагене гладиаторские игры, но сражаются в них не гладиаторы, а те, кто вышел на арену в честь своего вождя или по вызову; среди прочих два брата-царька решали оружием спор о своем царстве. Осада Гисии, жители которой перебили над погребальным костром своих детей и жен, а потом сами бросились в огонь. Сам Сципион, хоть и страдал тяжкой болезнью, подавил бунт, вспыхнувший в части войска, ободрил воинов, принудил к сдаче восставшие испанские племена и вступил в дружбу с Масиниссой, царем Нумидии, который обещал ему свою помощь, если он перенесет войну в Африку, а также с жителями Гадеса, после того как оттуда удалился Магон, вызванный письмом из Карфагена для переправы в Италию. Воротясь в Рим, Сципион избран консулом; он просит для себя войну в Африке, но из-за противодействия Квинта Фабия Максима получает на свою долю Сицилию, однако с правом перенести войну в Африку, если почтет это за благо для государства. Магон же, сын Гамилькара, перезимовав на меньшем из Балеарских островов, переправляется в Италию.
Гай Лелий, посланный Сципионом из Сицилии в Африку, возвращается с большой добычей и передает Сципиону жалобу Масиниссы на то, что он еще не переправился в Африку. Война в Испании кончена победой римлян; из зачинщиков ее Индибилис пал в бою, а Мандоний по требованию римлян выдан им его же людьми. Магон, находясь в лигурийском Альбингауне, получает из Африки много людей и денег для набора наемной помощи, с тем чтобы идти на соединение с Ганнибалом. Сципион из Сиракуз переправляется в Бруттий и занимает Локры, вытеснив пунийский охранный отряд и обратив в бегство Ганнибала. С Филиппом Македонским заключен мир. Из фригийского Пессинунта в Рим доставлен кумир Идейской Матери, потому что в Сивиллиных книгах нашлось пророчество: иноземный враг будет изгнан из Италии, если Идейскую Матерь привезут в Рим. Азийский царь Аттал отдает ее римлянам; это был камень, именуемый там Матерью богов. Перевоз поручен Публию Сципиону Назике, сыну того Гнея, который погиб в Испании; хотя Публий не достиг еще и квесторских лет, но сенат почел его лучшим из мужей, а в вещании было сказано, чтобы кумир был принят и освящен лучшим из мужей. Из Локр в Рим приходят послы с жалобой на бесстыдство легата Племиния, который разграбил казну Прозерпины и бесчестил их жен и детей; Племиний в цепях доставлен в Рим и умирает в тюрьме. О Публии Сципионе доходит в Рим лживый слух, будто он праздно роскошествует в Сицилии; сенат посылает гонцов проведать, так ли это; Сципион, очистив себя от всякого подозрения, с дозволения сената переправляется в Африку. Сифак, взявши в жены дочь Газдрубала, сына Гисгонова, расторгает дружбу, связывавшую его со Сципионом. Масинисса же, царь месулиев, еще сражаясь в Испании за карфагенян, со смертью отца своего Галы потерял и царство; безуспешно попытавшись в нескольких сражениях отбить его, но потерпев поражение от Сифака, царя нумидийского, он как изгнанник, имея лишь 200 всадников, присоединяется к Сципиону и с ним в первом же походе разбивает Ганнона, сына Гамилькарова, с его большим отрядом. Сципион, видя приближение Газдрубала и Сифака со стотысячным войском, снимает осаду Утики и отходит на зимний постой. Консул Семпроний успешно воюет против Ганнибала в Кротонской области. Между цензорами Марком Ливием и Клавдием Нероном происходит достопамятная распря: Клавдий отобрал у Ливия звание за то, что тот лжесвидетельствовал против него и примирился лишь притворно. Тогда же Ливий оставил в податном сословии все трибы, кроме одной, за то, что они его сперва осудили без вины, а потом избрали и в консулы, и в цензоры. Цензорами совершены очистительные жертвы; по переписи насчитано было 214 000 граждан.
Сципион в Африке с помощью Масиниссы в нескольких сражениях разбивает и карфагенян, и Сифака Нумидийского, и Газдрубала; при взятии вражеского лагеря от огня и меча погибло 40 000 человек. Гай Лелий и Масинисса захватывают в плен Сифака. Масинисса, влюбившись в пленную Сифакову жену Софонис, дочь Газдрубала, и берет ее в жены; получив за это выговор от Сципиона, он посылает ей яд, и она, испив его, умирает. От многочисленных Сципионовых побед карфагеняне приходят в отчаянье и для общего спасения призывают Ганнибала. Тот покидает Италию, где воевал шестнадцать лет, приплывает в Африку, пытается в переговорах заключить со Сципионом мир, но, не добившись приемлемых условий, сходится с ним в сражении и разбит. По просьбе карфагенян заключается мир; Гисгона, противящегося миру, Ганнибал оттаскивает собственной рукой и, попросив прощения за эту дерзость, сам призывает к миру. Масиниссе возвращено его царство. По возвращении в Рим Сципион справляет самый знатный и пышный триумф; в триумфе за ним следует сенатор Квинт Теренций Куллеон в колпаке как освобожденный из неволи. Сципион получает прозвище «Африканский» – то ли по любви к нему воинов, то ли по расположению к нему народа; во всяком случае, он был первый полководец, украшенный именем побежденного им народа. Магон же, воевавший с римлянами в земле инсубров, был ранен и, вызванный гонцами в Африку, скончался от раны на обратном пути.
Возобновлена прерванная война с Филиппом, царем Македонским; причина этому указывается такая: во время таинств Цереры в Афины пришли двое юношей-акарнанцев и, не будучи посвящены, проникли вместе со всеми в святилище Цереры; за такое великое кощунство афиняне их убили. Акарнанцы, возмущенные гибелью соотечественников, для отмщения призвали на помощь Филиппа и осадили Афины. Афиняне попросили помощи у римлян. Началось это в 551 году от основания Рима, через несколько месяцев после мира с карфагенянами. Когда послы афинян, осажденных Филиппом, попросили у сената помощи и сенат на это согласился, а народ, утомленный трудами стольких войск, не соглашался, то верх одержало влиянье сената <…> и народ также постановил оказать помощь союзному государству. Война поручена консулу Публию Сульпицию, и он, явившись с войском в Македонию, успешно сражался с Филиппом в двух конных битвах. Абидосцы, осажденные Филиппом, по примеру сагунтинцев, перебили друг друга. Претор Луций Фурий одержал победу над восставшими галлами-инсубрами и пунийцем Гамилькаром, затеявшим войну в тех же местах Италии. Гамилькар на этой войне погиб, и с ним 35 тысяч войска. Книга содержит также походы царя Филиппа и консула Сульпиция, а также осады городов и тем и другим. Консул Сульпиций вел войну при поддержке родосцев и царя Аттала. Претор Луций Фурий в честь победы над галлами справляет триумф.
Сообщается о многих знаменьях в различных местах; в частности, в Македонии на корме боевого корабля выросло лавровое дерево. Консул Тит Квинкций Фламинин успешно сражается с Филиппом в ущелье Эпира, обращает его в бегство и оттесняет в его царство. Сам он с подмогой от этолийцев и афаманов опустошает смежную с Македонией Фессалию, а брат его Луций Квинкций Фламинин, с подмогой от Аттала и родосцев одержав морскую победу, опустошает Евбею и морские берега. Заключена дружба с ахейцами. Число преторов увеличено до шести. Заговор рабов с целью освободить карфагенских заложников подавлен, 2500 человек казнены. Консул Корнелий Цетег разбивает в сражении галлов-инсубров. Заключена дружба с лакедемонянами и их тираном Набисом. Кроме того, сообщается о завоевании македонских городов.
Проконсул Тит Квинкций Фламинин разбивает Филиппа в битве при Киноскефалах в Фессалии. Брат его Луций Квинкций Фламинин берет главный акарнанский город Левкаду и принимает акарнанцев в подданство. По просьбе Филиппа с ним заключен мир, а Греции дана свобода. Аттал, внезапно заболев, возвращается от Фив в Пергам и там умирает. Претор Гай Семпроний Тудитан со всем своим войском погибает от кельтиберов. Консулы Луций Фурий Пурпуреон и Клавдий Марцелл покоряют галльские племена бойев и инсубров; триумф Марцелла. Ганнибал безуспешно пытается поднять Африку на войну; за это его противники из страха доносят на него в Рим, и оттуда прибывает посольство к карфагенскому сенату о Ганнибале. Тот спасается бегством к сирийскому царю Антиоху, готовящемуся к войне против римлян.
Оппиев закон об ограничении женской роскоши, внесенный во время Пунической войны, после долгих споров отменен, несмотря на протесты Порция Катона. Катон отправлен на войну в Испании, затеянную эмпорийцами, и наводит порядок в Ближней Испании. Тит Квинкций Фламинин успешно ведет войну против лакедемонян и их тирана Набиса и завершает ее заключением мира (чего и он сам хотел) при условии освобождения Аргоса, находившегося под властью тирана. Излагаются и другие успешные действия, как в Испании, так и против галльских бойев и инсубров. На зрелищах впервые сенатские места отделены от народных: для этого, к вящему негодованию народа, пришлось вмешаться цензорам Сексту Элию Пету и Гаю Корнелию Цетегу. Выведено много поселений. Марк Порций Катон справляет триумф за победы в Испании; Тит Квинкций Фламинин за победы над царем Филиппом Македонским и тираном Набисом Лакедемонским, а также за освобождение Греции справляет триумф целых три дня. Карфагенские послы доносят, что Ганнибал, бежавши к Антиоху, затевает вместе с ним войну. А Ганнибал пытался побудить к войне даже пунийцев, послав в Карфаген Аристона Тирского, но без всяких писем.
Публий Сципион Африканский, посланный к Антиоху, в Эфесе разговаривает с Ганнибалом, перешедшим служить Антиоху, убеждая его, что страх его перед римлянами напрасен. При этом на вопрос, какой полководец, по мнению Ганнибала, выше всех, тот ответил: Александр Македонский, потому что он с малым войском разбил несчетные вражеские полчища и достиг таких краев, какие никто даже не надеялся увидеть. На вопрос, кого же он считает вторым после Александра, он ответил: Пирра, потому что он первый научился правильно разбивать лагерь, лучше всех брал города и располагал охрану. На вопрос, кто же третий, он назвал самого себя. Сципион рассмеялся и спросил: «Что же ты сказал бы, если бы ты меня победил?» – а тот: «Тогда бы я считал себя выше и Александра, и Пирра, и всех». Бык консула Гнея Домиция проговорил: «Рим, берегись!»; были и многие другие знамения. Набис, тиран Лакедемонский, подстрекаемый этолийцами, которые побуждали к войне с римлянами и Филиппа и Антиоха, отлагается от римского народа, но стараниями этолийцев погибает в войне против ахейского вождя Филопемена. Этолийцы также порвали дружбу с римским народом; обеспечившись их союзом, сирийский царь Антиох вторгся войною в Грецию и захватил многие города, в том числе Халкиду и всю Евбею. Книга содержит также действия против лигурийцев и приготовления Антиоха к войне.
Консул Ацилий Глабрион при Фермопилах разбивает Антиоха, пришедшего на помощь царю Филиппу, и вытесняет его в Азию, а этолийцев приводит к покорности. Консул Публий Корнелий Сципион Назика (тот, которого сенат почел лучшим из мужей) освятил на Палатине храм Матери богов, им же когда-то и доставленной на Палатин; он же разбивает и принуждает к сдаче галлов-бойев и справляет по этому поводу триумф. Описываются также морские победы над флотоводцами царя Антиоха.
Консул Луций Корнелий Сципион, взяв с собой легатом Сципиона Африканского (который сам обещал пойти легатом при брате, если тому дадут под начало Грецию) и с Гаем Лелием, влиятельным человеком в сенате, получив сказанное назначение, выступает на войну с царем Антиохом и первый из всех римских полководцев переправляется в Азию. Регилл с помощью родосцев успешно сражается при Мионнесе против царского флота Антиоха. Сын Сципиона Африканского попадает в плен к Антиоху, но отпущен им к отцу. Затем Антиох разбит Луцием Корнелием Сципионом с помощью пергамского царя Эвмена, сына Аттала; с Антиохом заключается мир на том условии, что он уступает все области по сю сторону Тавра. Луций Корнелий Сципион, победив таким образом Антиоха, получает, подобно брату, прозвище «Азиатский»; Эвмен, с чьею помощью был разбит Антиох, расширяет свое царство; родосцам за такую же помощь уступлены некоторые города. Выведено поселение в Бононию. Эмилий Регилл, разбивший в морском бою флотоводцев Антиоха, справляет морской триумф; Маний Ацилий Глабрион справляет триумф за победы над Антиохом, изгнанным из Греции, и над этолийцами.
Консул Марк Фульвий в Эпире принимает в подданство амбракийцев, осажденных и сдавшихся, покоряет Кефаллению, усмиряет этолийцев и заключает с ними мир. Его товарищ консул Гней Манлий побеждает галлогреков (толистобогов, тектосагов и трокмов), которые пришли некогда в Азию с Бренном и одни по сю сторону Тавра оставались непокорны. Рассказывается об их происхождении и о том, как они заняли теперешние свои места. Для примера их доблести и целомудрия рассказывается о женщине, жене их царя, которая была схвачена насильником-центурионом и сама убила его. Цензоры совершают очистительные жертвы; граждан насчитано 258 310 человек. Заключена дружба с Ариаратом, царем Каппадокийским. Гней Манлий, несмотря на противодействие десяти легатов, по совету которых был подписан договор с Антиохом, защитив себя речью в сенате, справляет триумф за победу над галлогреками. Сципион Африканский, призванный к суду за то, что не всю-де Антиохову добычу сдал в казну (по одним сведениям – Невием, по другим – народным трибуном Квинтом Петилием), выйдя на трибуну, сказал только: «В этот день, квириты, я победил Карфаген!» – и отправился на Капитолий в сопровождении всего народа; а затем, чтобы больше не терпеть обид от трибунов, добровольно удалился в Литерн, как в изгнание. Неизвестно, скончался он там или в Риме, потому что памятники ему стоят и там и тут. Луций Сципион Азиатский, брат Африканского, точно так же был обвинен за растрату и осужден; но когда его вели в тюрьму и в оковы, то народный трибун Тиберий Семпроний Гракх, хоть и был прежде врагом Сципионов, вмешался и остановил дело; за эту услугу он получил в жены дочь Сципиона Африканского. Когда квесторы пришли взять его добро в пользу государства, то в нем не только не оказалось ни следа царских денег, но и все оно не стоило столько, чтобы оплатить требуемую пеню. Друзья и родственники принесли ему множество денег, но он их не взял, и они выкупили только то, что было необходимо ему для жизни.
Консул Марк Эмилий, покорив лигурийцев, прокладывает дорогу от Плацентии до Аримина, соединив ее с Фламиниевой дорогой. Азиатское войско приносит в Рим первую наклонность к роскоши. Покорение лигурийцев по сю сторону Апеннин. Вакханалии, ночное греческое священнодействие, рассадник всяческих преступлений, послужили для многолюдного заговора; консул его расследует и многих наказывает. Цензоры Луций Валерий Флакк и Марк Порций Катон, великий как в войне, так и в мирное время, исключает из сената Луция Квинкция Фламинина, брата Тита, потому что в бытность свою консулом в Галлии он на пиру по просьбе знатного продажного юноши Филиппа Пунийца, которого он любил, собственноручно убил какого-то галла (или, по другим сведениям, обезглавил одного из осужденных преступников по просьбе гетеры Плацентины, в которую был влюблен). Речь Катона против него сохранилась. Сципион умирает в Литерне; и в то же время, как будто судьба пожелала соединить кончины двух величайших мужей, добровольно принимает яд Ганнибал, которого вифинский царь Прусий (к которому он бежал после поражения Антиоха) собрался выдать римлянам по требованию присланного к нему Тита Квинкция Фламинина. Убит ядом и еще один великий муж, Филопемен, вождь ахейцев, попавший на войне в плен к мессенянам. Выведены поселения Потентия, Пизавр, Мутина и Парма. Книга содержит также успешные действия против кельтиберов, равно как и причины и начало Македонской войны: причина была в том, что Филиппу тяжко было видеть свое царство урезанным римлянами и что ему пришлось вывести свои охранные отряды из Фракии и других мест.
Филипп приказывает задержать заложниками сыновей тех, кого он казнил; Феоксена, опасаясь царской похоти к своим сыновьям, еще мальчикам, ставит перед ними меч и чашу с отравленным питьем, убеждает их избежать смертью сладострастной опасности; добившись этого, она вместе с мужем бросилась с корабля в море. Рассказывается о соперничестве между Персеем и Деметрием, сыновьями Филиппа Македонского; Персей лживо обвиняет брата в вымышленных преступлениях, сперва в помыслах об отцеубийстве и захвате власти, а потом в дружбе с римлянами; за это брат его отравлен ядом, а македонское царство по смерти Филиппа переходит к Персею. Далее книга содержит удачные действия многих полководцев против лигурийцев и испанских кельтиберов. Выведено поселение в Аквилею. На поле писца Луция Петилия, что под Яникулом, пахари нашли в каменном ларце книги Нумы Помпилия, греческие и латинские; претор, которому они были доставлены, усмотрел в них многое, что может подорвать богобоязненность, и по сенатскому указу они были сожжены на форуме, где народ сходился на собрание. Филипп, удрученный душою после того, как по наговорам Персея отравил второго сына, помышляет наказать Персея и хочет оставить наследником царства своего друга Антигона, но среди таких помышлений умирает, и царскую власть получает Персей.
В храме Весты угас огонь. Проконсул Тиберий Семпроний Гракх разбивает и принимает в подданство кельтиберов, выстроив в память своих деяний в Испании крепость Гракхурис. Проконсул Постумий Альбин покоряет вакцеев и лузитанов. Оба справляют триумф. Антиох, сын Антиоха, оставленный отцом в Риме как заложник, отпущен царствовать в Сирию, так как брат его Селевк, наследовавший отцу, умер. Царем он оказался плохим, хотя по богобоязненности и построил много храмов во многих местах, в том числе в Афинах Юпитеру Олимпийскому и в Антиохии Юпитеру Капитолийскому. Цензоры совершают очистительное жертвоприношение; граждан насчитано 263 294 человека. Народный трибун Квинт Воконий Сакса вносит закон, чтобы нельзя было оставлять наследство женщинам; этот закон поддерживает Марк Катон, речь которого сохранилась. Книга содержит также успешные действия многих полководцев против лигурийцев, истрийцев, сардов и кельтиберов, а также начало Македонской войны, затеянной Персеем, сыном Филиппа. Он послал посольство в Карфаген, которое там было выслушано ночью, и тревожит смутою греческие города.
Цензор Квинт Фульвий Флакк снимает мраморные черепицы с храма Юноны Лацинии, чтобы покрыть храм, который посвящает сам; указом сената черепицы возвращены храму Юноны. Эвмен, царь Азии, приносит сенату жалобу на Персея Македонского и доносит римскому народу об обидах от него. Персею объявлена война; консул Публий Лициний Красс, которому она поручена, переправляется в Македонию и ведет с Персеем войну в Фессалии легкими набегами и конными стычками, но с малым успехом. Между Масиниссой и карфагенянами возникает раздор из-за спорной земли; сенат призывает их к суду для разбора. Разосланы посольства к царям и городам с требованием хранить верность Риму; родосцы колеблются. Цензоры совершают очистительные жертвоприношения; граждан по переписи насчитано 257 231. Книга содержит также успешные действия против корсов и лигурийцев.
Несколько преторов осуждены судом за жестокость и жадность в управлении провинциями. Проконсул Публий Лициний Красс завоевывает в Греции много городов и жестоко их грабит; пленникам, которых он продал в рабство, сенатским указом возвращена свобода. Так же и начальниками римского флота нанесено много обид союзникам. Книга содержит также успешные действия царя Персея во Фракии, где он победил дарданцев и иллирийцев с их царем Генцием. Восстание, поднятое в Испании Олоником, затихает после его гибели. Цензоры назначают первоприсутствующим в сенате Марка Эмилия Лепида.
Квинт Марций Филипп через бездорожные места проникает в Македонию и занимает много городов. Родосцы присылают в Рим посольство, угрожая прийти на помощь Персею, если римляне не заключат с ним дружественный мир. Негодование сената. Война поручена Луцию Эмилию Павлу, консулу следующего года (во второй раз); он молится в народном собрании о том, чтобы все угрозы, обращенные к Риму, оборотились на самих угрожающих. Выступив в Македонию, он разбивает Персея и подчиняет своей власти всю Македонию. Перед битвой военный трибун Гай Сульпиций Галл предупреждает войско не удивляться, что на следующую ночь будет лунное затмение. Гентий, царь иллирийцев, поднимает восстание, но разбит претором Луцием Аницием, сдается и вместе с женой, детьми и близкими отправлен в Рим. Посольство из Александрии от царей Птолемея и Клеопатры с жалобой на Антиоха, царя Сирии, начавшего против них войну. Персей склонял к себе в помощь Эвмена, царя Пергамского, и Генция, царя Иллирийского, но был ими оставлен, так как не дал им денег, которые обещал.
Персей взят в плен Эмилием Павлом на Самофракии. Антиох Сирийский осадил в Египте царя Птолемея и Клеопатру; к нему отправлены послы с приказом прекратить осаду дружественного Риму царя. Выслушав их слова, он ответил, что подумает, как ему действовать, – на что один из послов по имени Попилий начертил тростью на земле вокруг него круг и приказал дать ответ, не выходя из этого круга. После такой суровости Антиох прекратил войну. В Рим являются с поздравлениями посольства от царей и городов, кроме лишь родосцев, которые были в этой войне на стороне противников Рима. Когда на следующий день обсуждалось, не объявить ли им войну, родосские послы произнесли в сенате речь в защиту своего отечества и были отпущены ни как друзья, ни как враги. Македония обращена в провинцию. Эмилий Павел справляет триумф, несмотря на недовольство воинов малостью добычи и несмотря на противодействие Сервия Сульпиция Гальбы; впереди колесницы с тремя сыновьями шел Персей. Как бы для того, чтобы омрачить радость этого триумфа, Эмилий лишается собственных двух сыновей: один умер до триумфа, другой после. Цензоры совершают очистительные жертвы: насчитано граждан 312 895 человек. Вифинский царь Прусий является в Рим поздравить сенат с победой над Македонией и представляет сенату своего сына Никомеда. Из лести царь даже именует себя вольноотпущенником римского народа.
Книга I
ПРЕДИСЛОВИЕ
(1) Создам ли я нечто, стоящее труда, если опишу деяния народа римского от первых начал Города, того твердо не знаю, да и знал бы, не решился бы сказать, (2) ибо вижу – затея эта и старая, и не необычная, коль скоро все новые писатели верят, что дано им либо в изложении событий приблизиться к истине, либо превзойти неискусную древность в умении писать[1]. (3) Но, как бы то ни было, я найду радость в том, что и я, в меру своих сил, постарался увековечить подвиги первенствующего на земле народа; и, если в столь великой толпе писателей слава моя не будет заметна, утешеньем мне будет знатность и величие тех, в чьей тени окажется мое имя. (4) Сверх того, самый предмет требует трудов непомерных – ведь надо углубиться в минувшее более чем на семьсот лет, ведь государство, начав с малого, так разрослось, что страдает уже от своей громадности; к тому же рассказ о первоначальных и близких к ним временах, не сомневаюсь, доставит немного удовольствия большинству читателей – они поспешат к событиям той недавней поры, когда силы народа, давно уже могущественного, истребляли сами себя[2]; (5) я же, напротив, и в том буду искать награды за свой труд, что, хоть на время – пока всеми мыслями устремляюсь туда, к старине, – отвлекусь от зрелища бедствий, свидетелем которых столько лет было наше поколение[3], и освобожусь от забот, способных если не отклонить пишущего от истины, то смутить его душевный покой. (6) Рассказы о событиях, предшествовавших основанию Города и еще более ранних, приличны скорее твореньям поэтов, чем строгой истории, и того, что в них говорится, я не намерен ни утверждать, ни опровергать[4]. (7) Древности простительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов; а если какому-нибудь народу позволительно освящать свое происхождение и возводить его к богам, то военная слава народа римского такова, что, назови он самого Марса своим предком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут с тем же покорством, с каким сносят власть Рима. (8) Но подобного рода рассказам, как бы на них ни смотрели и что бы ни думали о них люди, я не придаю большой важности. (9) Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий – дома ли, на войне ли – обязана держава своим зарожденьем и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен[5], когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах. (10) В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в обрамленье величественного целого; здесь и для себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же – чего избегать: бесславные начала, бесславные концы[6].
(11) Впрочем, либо пристрастность к взятому на себя делу вводит меня в заблужденье, либо и впрямь не было никогда государства более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и так высоко чтили бы бедность и бережливость. Да, чем меньше было имущество, тем меньшею была жадность; (12) лишь недавно богатство привело за собою корыстолюбие, а избыток удовольствий – готовность погубить все ради роскоши и телесных утех[7].
Не следует, однако, начинать такой труд сетованиями, которые не будут приятными и тогда, когда окажутся неизбежными; с добрых знамений и обетов предпочли б мы начать, а будь то у нас, как у поэтов, в обычае – и с молитв богам и богиням, чтобы они даровали начатому успешное завершение.
1. (1) Прежде всего достаточно хорошо известно, что по взятии Трои ахейцы жестоко расправились с троянцами: лишь с двоими, Энеем[8] и Антенором[9], не поступили они по законам войны – и в силу старинного гостеприимства, и потому что те всегда советовали предпочесть мир и выдать Елену. (2) Обстоятельства сложились так, что Антенор с немалым числом энетов, изгнанных мятежом из Пафлагонии и искавших нового места, да и вождя взамен погибшего под Троей царя Пилемена, прибыл в отдаленнейший залив Адриатического моря (3) и по изгнании евганеев, которые жили меж морем и Альпами, энеты с троянцами владели этой землей. Место, где они высадились впервые, зовется Троей, потому и округа получила имя Троянской, а весь народ называется венеты.
(4) Эней, гонимый от дома таким же несчастьем, но ведомый судьбою к иным, более великим начинаниям, прибыл сперва в Македонию, оттуда, ища где осесть, занесен был в Сицилию, из Сицилии на кораблях направил свой путь в Лаврентскую область[10]. Троей именуют и эту местность. (5) Высадившиеся тут троянцы, у которых после бесконечных скитаний ничего не осталось, кроме оружия и кораблей, стали угонять с полей скот; царь Латин и аборигены, владевшие тогда этими местами, сошлись с оружием из города и с полей, чтобы дать отпор пришельцам. (6) Дальше рассказывают двояко. Одни передают, что разбитый в сражении Латин заключил с Энеем мир, скрепленный потом свойством; (7) другие – что оба войска выстроились к бою, но Латин, прежде чем трубы подали знак, выступил в окружении знати вперед и вызвал вождя пришлецов для переговоров. Расспросив, кто они такие, откуда пришли, что заставило их покинуть дом и чего они ищут здесь, в Лаврентской области, (8) и услыхав в ответ, что перед ним троянцы, что вождь их Эней, сын Анхиза и Венеры, что из дому их изгнала гибель отечества и что ищут они, где им остановиться и основать город, Латин подивился знатности народа и его предводителя, подивился силе духа, равно готового и к войне и к миру, и протянул руку в залог будущей дружбы. (9) После этого вожди заключили союз, а войска обменялись приветствиями. Эней стал гостем Латина, и тут Латин пред богами-пенатами[11] скрепил союз меж народами союзом между домами – выдал дочь за Энея. (10) И это утвердило троянцев в надежде, что скитания их окончены, что они осели прочно и навеки. Они основывают город; (11) Эней называет его по имени жены Лавинием[12]. Вскоре появляется и мужское потомство от нового брака – сын, которому родители дают имя Асканий.
2. (1) Потом аборигены и троянцы вместе подверглись нападению. Турн, царь рутулов[13], за которого была просватана до прибытия Энея Лавиния, оскорбленный тем, что ему предпочли пришлеца, пошел войной на Энея с Латином. (2) Ни тому, ни другому войску не принесла радости эта битва: рутулы были побеждены, а победители – аборигены и троянцы – потеряли своего вождя Латина. (3) После этого Турн и рутулы, отчаявшись, прибегают к защите могущественных тогда этрусков и обращаются к их царю Мезенцию, который властвовал над богатым городом Цере[14] и с самого начала совсем не был рад рождению нового государства, а теперь решил, что оно возвышается намного быстрее, чем то допускает безопасность соседей, и охотно объединился с рутулами в военном союзе.
(4) Перед угрозою такой войны Эней, чтобы расположить к себе аборигенов и чтобы не только права были для всех едиными, но и имя, нарек оба народа латинами. (5) С той поры аборигены не уступали троянцам ни в рвении, ни в преданности царю Энею. Полагаясь на такое одушевление двух народов, с каждым днем все более сживавшихся друг с другом, Эней пренебрег могуществом Этрурии[15], чьей славой полнилась и суша, и даже море вдоль всей Италии от Альп до Сицилийского пролива, и, хотя мог найти защиту в городских стенах, выстроил войско к бою. (6) Сражение было удачным для латинов, для Энея же оно стало последним из земных дел. Похоронен он (человеком ли надлежит именовать его или богом) над рекою Нумиком; его называют Юпитером Родоначальником[16].
3. (1) Сын Энея, Асканий, был еще мал для власти, однако власть эта оставалась неприкосновенной и ждала его, пока он не возмужал: все это время латинскую державу – отцовское и дедовское наследие – хранила для мальчика женщина: таково было дарование Лавинии. (2) Я не стану разбирать (кто же о столь далеких делах решится говорить с уверенностью?), был ли этот мальчик Асканий или старший его брат, который родился от Креусы еще до разрушения Илиона, а потом сопровождал отца в бегстве и которого род Юлиев называет Юлом, возводя к нему свое имя[17]. (3) Этот Асканий, где бы ни был он рожден и кто б ни была его мать (достоверно известно лишь, что он был сыном Энея), видя чрезмерную многолюдность Лавиния, оставил матери – или мачехе – уже цветущий и преуспевающий по тем временам город, а сам основал у подножья Альбанской горы другой, протянувшийся вдоль хребта и оттого называемый Альбой Лонгой[18]. (4) Между основанием Лавиния и выведением поселенцев в Альбу прошло около тридцати лет. А силы латинов возросли настолько – особенно после разгрома этрусков, – что даже по смерти Энея, даже когда правила женщина и начинал привыкать к царству мальчик, никто – ни царь Мезенций с этрусками, ни другой какой-нибудь сосед – не осмеливался начать войну. (5) Границей меж этрусками и латинами, согласно условиям мира, должна была быть река Альбула, которую ныне зовут Тибром.
(6) Потом царствовал Сильвий, сын Аскания, по какой-то случайности рожденный в лесу[19]. От него родился Эней Сильвий, а от того – Латин Сильвий, (7) который вывел несколько поселений, известных под названием «Старые латины»[20]. (8) От этих пор прозвище Сильвиев закрепилось за всеми, кто царствовал в Альбе. От Латина родился Альба, от Альбы Атис, от Атиса Капис, от Каписа Капет, от Капета Тиберин, который, утонув при переправе через Альбулу, дал этой реке имя, вошедшее в общее употребление[21]. (9) Затем царем был Агриппа, сын Тиберина, после Агриппы царствовал Ромул Сильвий, унаследовав власть от отца. Пораженный молнией, он оставил наследником Авентина. Тот был похоронен на холме, который ныне составляет часть города Рима[22], и передал этому холму свое имя. (10) Потом царствовал Прока. От него родились Нумитор и Амулий; Нумитору, старшему, отец завещал старинное царство рода Сильвиев. Но сила одержала верх над отцовской волей и над уважением к старшинству: оттеснив брата, воцарился Амулий. (11) К преступлению прибавляя преступление, он истребил мужское потомство брата, а дочь его, Рею Сильвию, под почетным предлогом – избрав в весталки – обрек на вечное девство[23].
4. (1) Но, как мне кажется, судьба предопределила и зарождение столь великого города, и основание власти, уступающей лишь могуществу богов. (2) Весталка сделалась жертвой насилия и родила двойню, отцом же объявила Марса – то ли веря в это сама, то ли потому, что прегрешенье, виновник которому бог, – меньшее бесчестье. (3) Однако ни боги, ни люди не защитили ни ее самое, ни ее потомство от царской жестокости. Жрица в оковах была отдана под стражу, детей царь приказал бросить в реку. (4) Но Тибр как раз волей богов разлился, покрыв берега стоячими водами, – нигде нельзя было подойти к руслу реки, и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, что младенцы утонут, хотя бы и в тихих водах. (5) И вот, кое-как исполнив царское поручение, они оставляют детей в ближайшей заводи – там, где теперь Руминальская смоковница[24] (раньше, говорят, она называлась Ромуловой). Пустынны и безлюдны были тогда эти места. (6) Рассказывают, что, когда вода схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, бежавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что стала облизывать детей языком; так и нашел ее смотритель царских стад, (7) звавшийся, по преданию, Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание своей жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов «волчицей», потому что отдавалась любому, – отсюда и рассказ о чудесном спасении[25]. (8) Рожденные и воспитанные как описано выше, близнецы, лишь только подросли, стали, не пренебрегая и работой в хлевах или при стаде, охотиться по лесам. (9) Окрепнув в этих занятьях и телом и духом, они не только травили зверей, но нападали и на разбойников, нагруженных добычей, а захваченное делили меж пастухами, с которыми разделяли труды и потехи; и со дня на день шайка юношей все росла.
5. (1) Предание говорит, что уже тогда на Палатинском холме справляли существующее поныне празднество Луперкалии[26] и что холм этот был назван по аркадскому городу Паллантею Паллантейским, а потом Палатинским[27]. (2) Здесь Евандр, аркадянин, намного ранее владевший этими местами, завел принесенный из Аркадии ежегодный обряд, чтобы юноши бегали нагими, озорством и забавами чествуя Ликейского Пана, которого римляне позднее стали называть Инуем[28]. (3) Обычай этот был известен всем, и разбойники, обозленные потерей добычи, подстерегали юношей, увлеченных праздничною игрой: Ромул отбился силой, Рема же разбойники схватили, а схватив, передали царю Амулию, сами выступив обвинителями. (4) Винили братьев прежде всего в том, что они делали набеги на земли Нумитора и с шайкою молодых сообщников, словно враги, угоняли оттуда скот. Так Рема передают Нумитору для казни.
(5) Фавстул и с самого начала подозревал, что в его доме воспитывается царское потомство, ибо знал о выброшенных по царскому приказу младенцах, а подобрал он детей как раз в ту самую пору; но он не хотел прежде времени открывать эти обстоятельства – разве что при случае или по необходимости. (6) Необходимость явилась первой, и вот, принуждаемый страхом, он все открывает Ромулу. Случилось так, что и до Нумитора, державшего Рема под стражей, дошли слухи о братьях-близнецах, он задумался о возрасте братьев, об их природе, отнюдь не рабской, и его душу смутило воспоминанье о внуках. К той же мысли привели Нумитора расспросы, и он уже был недалек от того, чтобы признать Рема. Так замыкается кольцо вокруг царя. (7) Ромул не собирает своей шайки – для открытого столкновения силы не были равны, – но, назначив время, велит всем пастухам прийти к царскому дому – каждому иной дорогой – и нападает на царя, а из Нумиторова дома спешит на помощь Рем с другим отрядом. Так был убит царь.
6. (1) При первых признаках смятения Нумитор, твердя, что враги, мол, ворвались в город и напали на царский дом, увел всех мужчин Альбы в крепость, которую-де надо занять и удерживать оружьем; потом, увидав, что кровопролитье свершилось, а юноши приближаются к нему с приветствиями, тут же созывает сходку и объявляет о братниных против него преступлениях, о происхождении внуков – как были они рождены, как воспитаны, как узнаны, – затем об убийстве тирана и о себе как зачинщике всего дела. (2) Юноши явились со всем отрядом на сходку и приветствовали деда, называя его царем; единодушный отклик толпы закрепил за ним имя и власть царя.
(3) Когда Нумитор получил таким образом Альбанское царство, Ромула и Рема охватило желанье основать город в тех самых местах, где они были брошены и воспитаны. У альбанцев и латинов было много лишнего народу, и, если сюда прибавить пастухов, всякий легко мог себе представить, что мала будет Альба, мал будет Лавиний в сравнении с тем городом, который предстоит основать. (4) Но в эти замыслы вмешалось наследственное зло, жажда царской власти и отсюда – недостойная распря, родившаяся из вполне мирного начала. Братья были близнецы, различие в летах не могло дать преимущества ни одному из них, и вот, чтобы боги, под чьим покровительством находились те места, птичьим знаменьем[29] указали, кому наречь своим именем город, кому править новым государством, Ромул местом наблюдения за птицами избрал Палатин, а Рем – Авентин.
7. (1) Рему, как передают, первому явилось знаменье – шесть коршунов, – и о знамении уже возвестили, когда Ромулу предстало двойное против этого число птиц. Каждого из братьев толпа приверженцев провозгласила царем; одни придавали больше значения первенству, другие – числу птиц. (2) Началась перебранка, и взаимное озлобление привело к кровопролитию; в сумятице Рем получил смертельный удар. Более распространен, впрочем, другой рассказ – будто Рем в насмешку над братом перескочил через новые стены и Ромул в гневе убил его, воскликнув при этом: «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены»[30]. (3) Теперь единственным властителем остался Ромул, и вновь основанный город получил названье от имени своего основателя[31].
Прежде всего Ромул укрепил Палатинский холм[32], где был воспитан. Жертвы всем богам он принес по альбанскому обряду, только Геркулесу – по греческому, как установлено было Эвандром. (4) Сохранилась память о том, что, убив Гериона, Геркулес увел его дивных видом быков в эти места и здесь, возле Тибра, через который перебрался вплавь, гоня перед собою стадо, на обильном травою лугу – чтобы отдых и тучный корм восстановили силы животных – прилег и сам, усталый с дороги. (5) Когда, отягченного едой и вином, сморил его сон, здешний пастух, по имени Как[33], буйный силач, пленившись красотою быков, захотел отнять эту добычу. Но, загони он быков в пещеру, следы сами привели бы туда хозяина, и поэтому Как, выбрав самых прекрасных, оттащил их в пещеру задом наперед, за хвосты. (6) Геркулес проснулся на заре, пересчитал взглядом стадо и, убедившись, что счет неполон, направился к ближней пещере поглядеть, не ведут ли случайно следы туда. И когда он увидел, что все следы обращены в противоположную сторону и больше никуда не ведут, то в смущенье и замешательстве погнал стадо прочь от враждебного места. (7) Но иные из коров, которых он уводил, замычали, как это бывает нередко, в тоске по остающимся, и тут ответный зов запертых в пещере животных заставил Геркулеса вернуться; Как попытался было силой преградить ему путь, но, пораженный дубиною, свалился и умер, тщетно призывая пастухов на помощь.
(8) В ту пору Евандр, изгнанник из Пелопоннеса, правил этими местами – скорее как человек с весом, нежели как властитель; уваженьем к себе он был обязан чудесному искусству письма[34], новому для людей, незнакомых с науками, и еще более – вере в божественность его матери, Карменты[35], чьему прорицательскому дару дивились до прихода Сивиллы[36] в Италию тамошние племена. (9) Этого Евандра и привлекло сюда волнение пастухов, собравшихся вокруг пришельца, обвиняемого в явном убийстве. Евандр, выслушав рассказ о проступке и о причинах проступка и видя, что стоящий перед ними несколько выше человеческого роста, да и осанкой величественней, спрашивает, кто он таков; (10) услышав же в ответ его имя, чей он сын и откуда родом, говорит: «Геркулес[37], сын Юпитера, здравствуй! Моя мать, истинно прорицающая волю богов, возвестила мне, что ты пополнишь число небожителей и что тебе здесь будет посвящен алтарь, который когда-нибудь самый могущественный на земле народ назовет Великим и станет почитать по заведенному тобой обряду». (11) Геркулес, подавая руку, сказал, что принимает пророчество и исполнит веление судьбы – сложит и освятит алтарь. (12) Тогда-то впервые и принесли жертву Геркулесу, взяв из стада отборную корову, а к служению и пиршеству призвали Петициев и Пинариев, самые знатные в тех местах семьи. (13) Случилось так, что Петиции были на месте вовремя и внутренности были предложены им, а Пинарии явились к остаткам пиршества, когда внутренности были уже съедены. С тех пор повелось, чтобы Пинарии, покуда существовал их род, не ели внутренностей жертвы. (14) Петиции, выученные Евандром, были жрецами этого священнодействия на протяжении многих поколений – покуда весь род их не вымер, передав священное служение общественным рабам. (15) Это единственный чужеземный обряд, который перенял Ромул, уже в ту пору ревностный почитатель бессмертия, порожденного доблестью, к какому вела его судьба.
8. (1) Воздав должное богам, Ромул созвал толпу на собрание и дал ей законы, – ничем, кроме законов, он не мог сплотить ее в единый народ. (2) Понимая, что для неотесанного люда законы его будут святы лишь тогда, когда сам он внешними знаками власти внушит почтенье к себе, Ромул стал и во всем прочем держаться более важно и, главное, завел двенадцать ликторов[38]. (3) Иные полагают, что число это отвечает числу птиц, возвестивших ему царскую власть, для меня же убедительны суждения тех, кто считает, что и весь этот род прислужников, и само их число происходят от соседей-этрусков, у которых заимствованы и курульное кресло, и окаймленная тога[39]. А у этрусков так повелось оттого, что каждый из двенадцати городов, сообща избиравших царя, давал ему по одному ликтору[40].
(4) Город между тем рос, занимая укреплениями все новые места, так как укрепляли город в расчете скорей на будущее многолюдство, чем сообразно тогдашнему числу жителей. (5) А потом, чтобы огромный город не пустовал, Ромул воспользовался старой хитростью основателей городов (созывая темный и низкого происхождения люд, они измышляли, будто это потомство самой земли) и открыл убежище в том месте, что теперь огорожено, – по левую руку от спуска меж двумя рощами. (6) Туда от соседних народов сбежались все жаждущие перемен – свободные и рабы без разбора, – и тем была заложена первая основа великой мощи. Когда о силах тревожиться было уже нечего, Ромул сообщает силе мудрость и учреждает сенат, (7) избрав сто старейшин[41], – потому ли, что в большем числе не было нужды, потому ли, что всего-то набралось сто человек, которых можно было избрать в отцы. Отцами их прозвали, разумеется, по оказанной чести, потомство их получило имя «патрициев»[42].
9. (1) Теперь Рим стал уже так силен, что мог бы как равный воевать с любым из соседних городов, но срок этому могуществу был человеческий век, потому что женщин было мало и на потомство в родном городе римляне надеяться не могли, а брачных связей с соседями не существовало. (2) Тогда, посовещавшись с отцами, Ромул разослал по окрестным племенам послов – просить для нового народа союза и соглашения о браках: (3) ведь города, мол, как все прочее, родятся из самого низменного, а потом уж те, кому помогою собственная доблесть и боги, достигают великой силы и великой славы; (4) римляне хорошо знают, что не без помощи богов родился их город и доблестью скуден не будет, – так пусть не гнушаются люди с людьми мешать свою кровь и род. (5) Эти посольства нигде не нашли благосклонного приема – так велико было презренье соседей и вместе с тем их боязнь за себя и своих потомков ввиду великой силы, которая среди них поднималась. И почти все, отпуская послов, спрашивали, отчего не откроют римляне убежище и для женщин: вот и было бы им супружество как раз под пару.
(6) Римляне были тяжко оскорблены, и дело явно клонилось к насилию. Чтобы выбрать время и место поудобнее, Ромул, затаив обиду, принимается усердно готовить торжественные игры в честь Нептуна Конного, которые называет Консуалиями[43]. (7) Потом он приказывает известить об играх соседей, и всё, чем только умели или могли в те времена придать зрелищу великолепья, пускается в ход, чтобы об их играх говорили и с нетерпением их ожидали. (8) Собралось много народу, даже просто из желания посмотреть новый город, – в особенности все ближайшие соседи: ценинцы, крустуминцы, антемняне[44]. (9) Все многочисленное племя сабинян[45] явилось с детьми и женами. Их гостеприимно приглашали в дома, и они, рассмотрев расположение города, стены, многочисленные здания, удивлялись, как быстро выросло римское государство. (10) А когда подошло время игр, которые заняли собою все помыслы и взоры, тут-то, как было условлено, и случилось насилие: по данному знаку римские юноши бросились похищать девиц. (11) Большею частью хватали без разбора, какая кому попадется, но иных, особо красивых, предназначенных виднейшим из отцов, приносили в дома простолюдины, которым это было поручено. (12) Одну из девиц, самую красивую и привлекательную, похитили, как рассказывают, люди некоего Талассия, и многие спрашивали, кому ее несут, а те, опасаясь насилия, то и дело выкрикивали, что несут ее Талассию; отсюда и происходит этот свадебный возглас[46].
(13) Страх положил играм конец, родители девиц бежали в горе, проклиная преступников, поправших закон гостеприимства, и взывая к богам, на чьи празднества их коварно заманили. (14) И у похищенных не слабее было отчаянье, не меньше негодование. Но сам Ромул обращался к каждой в отдельности и объяснял, что всему виною высокомерие их отцов, которые отказали соседям в брачных связях; что они будут в законном браке, общим с мужьями будет у них имущество, гражданство и – что всего дороже роду людскому – дети; (15) пусть лишь смягчат свой гнев и тем, кому жребий отдал их тела, отдадут души. Со временем из обиды часто родится привязанность, а мужья у них будут тем лучшие, что каждый будет стараться не только исполнить свои обязанности, но и успокоить тоску жены по родителям и отечеству. (16) Присоединялись к таким речам и вкрадчивые уговоры мужчин, извинявших свой поступок любовью и страстью, а на женскую природу это действует всего сильнее.
10. (1) Похищенные уже совсем было смягчились, а в это самое время их родители, облачившись в скорбные одежды, сеяли смятение в городах слезами и сетованиями. И не только дома звучал их ропот, но отовсюду собирались они к Титу Тацию, царю сабинян; к нему же стекались и посольства, потому что имя Тация было в тех краях самым громким. (2) Тяжесть обиды немалой долей ложилась на ценинцев, крустуминцев, антемнян. Этим трем народам казалось, что Таций с сабинянами слишком медлительны, и они стали готовить войну сами. (3) Однако перед пылом и гневом ценинцев недостаточно расторопны были даже крустуминцы с антемнянами, и ценинский народ нападает на римские земли в одиночку. (4) Беспорядочно разоряя поля, на пути встречают они Ромула с войском, который легко доказывает им в сражении, что без силы гнев тщетен, – войско обращает в беспорядочное бегство, беглецов преследует, царя убивает в схватке и обирает с него доспехи. Умертвив неприятельского вождя, Ромул первым же натиском берет город.
(5) Возвратившись с победоносным войском, Ромул, великий не только подвигами, но – не в меньшей мере – умением их показать, взошел на Капитолий, неся доспехи убитого неприятельского вождя, развешенные на остове, нарочно для того изготовленном, и положил их у священного для пастухов дуба; делая это приношение, он тут же определил место для храма Юпитера и к имени бога прибавил прозвание: (6) «Юпитер Феретрийский[47], – сказал он, – я, Ромул, победоносный царь, приношу тебе царское это оружье и посвящаю тебе храм в пределах, которые только что мысленно обозначил; да станет он вместилищем для тучных доспехов, какие будут приносить вслед за мной, первым, потомки, убивая неприятельских царей и вождей». (7) Таково происхождение самого древнего в Риме храма. Боги судили, чтобы речи основателя храма, назначившего потомкам приносить туда доспехи, не оказались напрасными, а слава, сопряженная с таким приношеньем, не была обесценена многочисленностью ее стяжавших. Лишь два раза впоследствии на протяжении стольких лет и стольких войн добыты были тучные доспехи[48]– так редко приносила удача это отличие.
11. (1) Пока римляне заняты всем этим, в их пределы вторгается войско антемнян, пользуясь случаем и отсутствием защитников. Но быстро выведенный и против них римский легион[49] застигает их в полях, по которым они разбрелись. (2) Первым же ударом, первым же криком были враги рассеяны, их город взят; и тут, когда Ромул праздновал двойную победу, его супруга Герсилия, сдавшись на мольбы похищенных, просит даровать их родителям пощаду и гражданство: тогда государство может быть сплочено согласием. Ромул охотно уступил. (3) Затем он двинулся против крустуминцев, которые открыли военные действия. Там было еще меньше дела, потому что чужие неудачи уже сломили их мужество. В оба места были выведены поселения; (4) в Крустумерию – ради плодородия тамошней земли – охотников нашлось больше. Оттуда тоже многие переселились в Рим, главным образом родители и близкие похищенных женщин.
(5) Война с сабинянами пришла последней и оказалась самой тяжелой, так как они во всех своих действиях не поддались ни гневу, ни страсти и не грозились, прежде чем нанести удар. Расчет был дополнен коварством. (6) Начальником над римской крепостью[50] был Спурий Тарпей. Таций подкупил золотом его дочь, деву, чтобы она впустила воинов в крепость (она как раз вышла за стену за водою для священнодействий). (7) Сабиняне, которых она впустила, умертвили ее, завалив щитами, – то ли чтобы думали, будто крепость взята силой, то ли ради примера на будущее, чтобы никто и никогда не был верен предателю. (8) Прибавляют еще и баснословный рассказ: сабиняне, дескать, носили на левой руке золотые, хорошего веса запястья и хорошего вида перстни с камнями, и девица выговорила для себя то, что у них на левой руке, а они и завалили ее вместо золота щитами. (9) Некоторые утверждают, будто, прося у сабинян то, что у них на левой руке, она действительно хотела оставить их без щитов, но была заподозрена в коварстве и умерщвлена тем, что причиталось ей как награда[51].
12. (1) Во всяком случае, сабиняне удерживали крепость и на другой день, когда римское войско выстроилось на поле меж Палатинским и Капитолийским холмами, и на равнину спустились лишь после того, как римляне, подстрекаемые гневом и желаньем вернуть крепость, пошли снизу на приступ. (2) С обеих сторон вожди торопили битву: с сабинской – Меттий Курций, с римской – Гостий Гостилий. Невзирая на невыгоды местности, Гостий без страха и устали бился в первых рядах, одушевляя своих. (3) Как только он упал, строй римлян тут же подался, и они в беспорядке кинулись к старым воротам Палатина[52]. (4) Ромул, и сам влекомый толпою бегущих, поднял к небу свой щит и меч и произнес: «Юпитер, повинуясь твоим знамениям, здесь, на Палатине, заложил я первые камни города. Но сабиняне ценой преступления завладели крепостью, теперь они с оружием в руках стремятся сюда и уже миновать середину должны. (5) Но хотя бы отсюда, отец богов и людей, отрази ты врага, освободи римлян от страха, останови постыдное бегство! (6) А я обещаю тебе здесь храм Юпитера Становителя[53], который для потомков будет напоминаньем о том, как быстрою твоею помощью был спасен Рим». (7) Вознеся эту мольбу, Ромул, как будто почувствовав, что его молитва услышана, возгласил: «Здесь, римляне, Юпитер Всеблагой Величайший повелевает вам остановиться и возобновить сражение!» Римляне останавливаются, словно услышав повеленье с небес; сам Ромул поспешает к передовым. (8) С сабинской стороны первым спустился Меттий Курций и рассеял потерявших строй римлян по всему нынешнему форуму[54]. Теперь он был уже недалеко от ворот Палатина и громко кричал: «Мы победили вероломных хозяев, малодушных противников: знают теперь, что одно дело похищать девиц и совсем другое – биться с мужами». (9) Пока он так похвалялся, на него налетел Ромул с горсткою самых дерзких юношей. Меттий тогда как раз был на коне – тем легче оказалось обратить его вспять. Римляне пускаются следом, и все римское войско, воспламененное храбростью своего царя, рассеивает противника. (10) А конь, испуганный шумом погони, понес, Меттий провалился в болото, и опасность, грозившая столь великому мужу, отвлекла все вниманье сабинян. Впрочем, Меттию ободряющие знаки и крики своих и сочувствие толпы придали духу, и он выбрался. Посреди долины, разделяющей два холма, римляне и сабиняне вновь сошлись в бою. Но перевес оставался за римлянами.
13. (1) Тут сабинские женщины, из-за которых и началась война, распустив волосы и разорвав одежды, позабывши в беде женский страх, отважно бросились прямо под копья и стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя, (2) унять гнев враждующих, обращаясь с мольбою то к отцам, то к мужьям: пусть не пятнают они – тести и зятья – себя нечестиво пролитою кровью, не оскверняют отцеубийством потомство своих дочерей и жен. (3) «Если вы стыдитесь свойства между собой, если брачный союз вам претит, на нас обратите свой гнев: мы – причина войны, причина ран и гибели наших мужей и отцов; лучше умрем, чем останемся жить без одних иль других, вдовами или сиротами». (4) Растроганы были не только воины, но и вожди; все вдруг смолкло и замерло. Потом вожди вышли, чтобы заключить договор, и не просто примирились, но из двух государств составили одно. (5) Царствовать решили сообща, средоточьем всей власти сделали Рим. Так город удвоился, а чтобы не обидно было и сабинянам, по их городу Курам граждане получают имя «квиритов»[55]. В память об этой битве место, где Курциев конь, выбравшись из болота, ступил на твердое дно, прозвано Курциевым озером.
(6) Война, столь горестная, кончилась вдруг радостным миром, и оттого сабинянки стали еще дороже мужьям и родителям, а прежде всех – самому Ромулу, и когда он стал делить народ на тридцать курий[56], то куриям дал имена сабинских женщин. (7) Без сомнения, их было гораздо больше тридцати, и по старшинству ли были выбраны из них те, кто передал куриям свои имена, по достоинству ли, собственному либо мужей, или по жребию, об этом преданье молчит. (8) В ту же пору были составлены и три центурии всадников: Рамны, названные так по Ромулу, Тиции – по Титу Тацию, и Луцеры, чье имя, как и происхождение, остается темным[57]. Оба царя правили не только совместно, но и в согласии.
14. (1) Несколько лет спустя родственники царя Тация обидели лаврентских послов, а когда лаврентяне стали искать управы законным порядком, как принято между народами, пристрастие Тация к близким и их мольбы взяли верх. (2) Тем самым он обратил возмездие на себя, и, когда явился в Лавиний на ежегодное жертвоприношение, был там убит толпой. (3) Ромул, как рассказывают, перенес случившееся легче, нежели подобало, – то ли оттого, что меж царями товарищество ненадежно, то ли считая убийство небеспричинным. Поэтому от войны он воздержался, а чтобы оскорбленье послов и убийство царя не остались без искупления, договор меж двумя городами, Римом и Лавинием, был заключен наново.
(4) Так, сверх чаянья был сохранен мир с лаврентянами, но началась другая война, много ближе, почти у самых городских ворот. Фиденяне решили, что в слишком близком с ними соседстве растет великая сила, и поторопились открыть военные действия, прежде чем она достигнет той несокрушимости, какую позволяло провидеть будущее. Выслав вперед вооруженную молодежь, они разоряют поля меж Римом и Фиденами[58]; (5) затем сворачивают влево, так как вправо не пускал Тибр, и продолжают грабить, наводя немалый страх на сельских жителей. Внезапное смятение, с полей перекинувшееся в город, возвестило о войне. (6) Ромул в тревоге – ведь война в такой близости к городу не могла терпеть промедленья – вывел войско и стал лагерем в одной миле от Фиден. (7) Оставив в лагере небольшой отряд, он выступил со всем войском, части воинов приказал засесть в скрытном месте – благо окрестность поросла густым кустарником, – сам же с большею частью войска и всей конницей двинулся дальше и, подскакавши почти к самым воротам, устрашающим шумом затеянной схватки выманил неприятеля, чего и добивался. Та же конная схватка дала вполне правдоподобный повод к притворному бегству. (8) И вот конница будто бы не решается в страхе, что выбрать, бой или бегство, пехота тоже подается назад, как вдруг ворота распахиваются и высыпают враги; они нападают на строй римлян и преследуют их по пятам, пылом погони увлекаемые к месту засады. (9) Оттуда внезапно появляются римляне и нападают на вражеский строй сбоку; страху фиденянам добавляют и двинувшиеся из лагеря знамена отряда, который был там оставлен. Устрашенный грозящей с разных сторон опасностью, неприятель обратился в бегство, едва ли не прежде, чем Ромул и его всадники успели натянуть поводья и повернуть коней. (10) И куда беспорядочнее, чем недавние притворные беглецы, прежние преследователи в уже настоящем бегстве устремились к городу. Но оторваться от врага фиденянам не удалось; (11) на плечах противника, как бы единым с ним отрядом, ворвались римляне в город прежде, чем затворились ворота.
15. (1) С фиденян зараза войны перекинулась на родственных им (они ведь тоже были этруски) вейян[59], которых беспокоила и самая близость Рима, если бы римское оружие оказалось направленным против всех соседей. Вейяне сделали набег на римские пределы, скорее грабительский, чем по правилам войны. (2) Не разбив лагеря, не дожидаясь войска противника, они ушли назад в Вейи, унося добычу с полей. Римляне, напротив, не обнаружив противника в своих землях, перешли Тибр в полной готовности к решительному сражению. (3) Вейяне, узнав, что те становятся лагерем и пойдут на их город, выступили навстречу, предпочитая решить дело в открытом бою, нежели оказаться в осаде и отстаивать свои кровли и стены. (4) На этот раз никакая хитрость силе не помогала – одною лишь храбростью испытанного войска одержал римский царь победу; обращенного в бегство врага он преследовал вплоть до городских укреплений, но от города, надежно защищенного и стенами, и самим расположением, отступил. На возвратном пути Ромул разоряет вражеские земли больше в отместку, чем ради добычи. (5) Сокрушенные этой бедою не меньше, чем битвой в открытом поле, вейяне посылают в Рим ходатаев просить мира. Лишившись в наказание части своих земель, они получают перемирие на сто лет.
(6) Таковы главные домашние и военные события Ромулова царствования [753–717 гг.], и во всем этом нет ничего несовместного с верой в божественное происхождение Ромула и с посмертным его обожествленьем – взять ли отвагу, с какою возвращено было дедовское царство, взять ли мудрость, с какою был основан и укреплен военными и мирными средствами город. (7) Ибо, бесспорно, его трудами город стал так силен, что на протяжении последующих сорока лет мог пользоваться прочным миром. (8) И, однако, толпе Ромул был дороже, чем отцам, а воинам гораздо более по сердцу, нежели прочим; триста вооруженных телохранителей, которых он назвал «быстрыми», всегда были при нем, не только на войне, но и в мирное время[60].
16. (1) По свершении бессмертных этих трудов, когда Ромул, созвав сходку на поле у Козьего болота[61], производил смотр войску, внезапно с громом и грохотом поднялась буря, которая окутала царя густым облаком, скрыв его от глаз сходки, и с той поры не было Ромула на земле. (2) Когда же непроглядная мгла вновь сменилась мирным сиянием дня и общий ужас наконец улегся, все римляне увидели царское кресло пустым; хотя они и поверили отцам, ближайшим очевидцам, что царь был унесен вихрем, все же, будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание. (3) Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы, благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство[62].
(4) Но и в ту пору, я уверен, кое-кто втихомолку говорил, что царь был растерзан руками отцов – распространилась ведь и такая, хоть очень глухая, молва; а тот, первый, рассказ разошелся широко благодаря преклонению перед Ромулом и живому еще ужасу. (5) Как передают, веры этому рассказу прибавила находчивость одного человека. А именно, когда город был обуреваем тоской по царю и ненавистью к отцам, явился на сходку Прокул Юлий[63] и заговорил с важностью, хоть и о странных вещах. (6) «Квириты, – сказал он, – Ромул, отец нашего города, внезапно сошедший с неба, встретился мне нынешним утром. В благоговейном ужасе стоял я с ним рядом и молился, чтобы не зачлось мне во грех, что смотрю на него[64], а он промолвил:
(7) „Отправляйся и возвести римлянам: угодно богам, чтобы мой Рим стал главой всего мира. А посему пусть будут усердны к военному делу, пусть ведают сами и потомству передают, что нет человеческих сил, способных противиться римскому оружию”. (8) И с этими словами удалился на небо». Удивительно, с каким доверием выслушали вестника, пришедшего с подобным рассказом, и как просто тоска народа и войска по Ромулу была утолена верой в его бессмертие.
17. (1) А отцы между тем с вожделением думали о царстве и терзались скрытой враждою. Не то чтобы кто-либо желал власти для себя – в молодом народе ни один еще не успел возвыситься, – борьба велась между разрядами сенаторов. (2) Выходцы из сабинян, чтобы не потерять совсем свою долю участия в правлении (ведь после смерти Тация с их стороны царя не было), хотели поставить царя из своих; старые римляне и слышать не желали о царе-чужеземце. (3) Но, расходясь в желаниях, все хотели иметь над собою царя, ибо еще не была изведана сладость свободы. (4) Вдобавок отцами владел страх, что могут оживиться многочисленные окружающие государства и какой-нибудь сильный враг застанет Рим лишенным власти, а войско лишенным вождя. Всем было ясно, что какой-то глава нужен, но никто не мог решиться уступить другому. (5) А потому сто отцов разделились на десятки, и в каждом десятке выбрали главного, поделив таким образом управление государством. Правили десять человек, но знаки власти и ликторы были у одного; (6) по истечении пяти дней их полномочия истекали и власть переходила к следующей десятке, никого не минуя; так на год прервалось правленье царей. Перерыв этот получил название междуцарствия, чем он на деле и был; слово это в ходу и поныне.
(7) Потом простонародье стало роптать, что рабство умножилось – сто господ заместили одного. Казалось, народ больше не станет терпеть никого, кроме царя, которого сам поставит. (8) Когда отцы почувствовали, какой оборот принимает дело, то, добровольно жертвуя тем, чего сохранить не могли, они снискали расположенье народа, вверив ему высшую власть, но так, чтобы уступить не больше прав, нежели удержать: (9) они постановили, что, когда народ назначит царя, решение будет считаться принятым лишь после того, как его утвердят отцы. И до сего дня, если решается вопрос о законах или должностных лицах, сенаторы пользуются тем же правом, хотя уже лишенным действенности: прежде чем народ приступает к голосованию, при еще неясном его исходе, отцы заранее дают свое утверждение. (10) А в тот раз интеррекс, созвав собрание, объявил: «Да послужит это ко благу, пользе и счастью! Квириты, ставьте царя: так рассудили отцы. А потом, если достойного поставите преемника Ромулу, отцы дадут свое утвержденье». (11) Это так польстило народу, что он, не желая оставаться в долгу, постановил только, чтобы сенат вынес решенье, кому быть в Риме царем.
18. (1) В те времена славился справедливостью и благочестием Нума Помпилий. Он жил в сабинском городе Курах и был величайшим, насколько тогда это было возможно, знатоком всего божественного и человеческого права. (2) Наставником Нумы, за неимением никого иного, ложно называют самосца Пифагора[65], о котором известно, что он больше ста лет спустя на дальнем берегу Италии, подле Метапонта, Гераклеи, Кротона, собирал вокруг себя юношей, искавших знаний. (3) Из этих отдаленнейших мест как дошел бы слух о нем до сабинян, живи он даже в одно с Нумою время? И на каком языке снесся бы он с сабинянином, чтобы тому захотелось у него учиться? Или под чьею защитой прошел бы один сквозь столько племен, не схожих ни речью, ни нравами? (4) Стало быть, собственной природе обязан Нума тем, что украсил добродетелями свою душу, и – скорее готов я предположить – взращен был не столько иноземной наукой, сколько древним сабинским воспитанием, суровым и строгим: недаром в чистоте нравов этот народ не знал себе равных.
(5) Когда названо было имя Нумы, сенаторы-римляне, хотя и считали, что преимущество будет за сабинянами, если царя призовут из их земли, все же не осмелились предпочесть этому мужу ни себя, ни кого-либо из своих, ни вообще кого бы то ни было из отцов или граждан, но единодушно решили передать царство Нуме Помпилию. (6) Приглашенный в Рим, он, следуя примеру Ромула, который принял царскую власть, испытав птицегаданием волю богов касательно основания города, повелел и о себе воспросить богов. Тогда птицегадатель-авгур, чье занятие отныне сделалось почетной и пожизненной государственной должностью[66], привел Нуму в крепость и усадил на камень лицом к югу. (7) Авгур, с покрытою головой, сел по левую его руку, держа в правой руке кривую палку без единого сучка, которую называют жезлом. Помолившись богам и взяв для наблюдения город с окрестностью, он разграничил участки от востока к западу; южная сторона, сказал он, пусть будет правой, северная – левой; (8) напротив себя, далеко, насколько хватал глаз, он мысленно наметил знак. Затем, переложив жезл в левую руку, а правую возложив на голову Нумы, он помолился так: (9) «Отец Юпитер, если боги велят, чтобы этот Нума Помпилий, чью голову я держу, был царем в Риме, яви надежные знаменья в пределах, что я очертил». Тут он описал словесно те предзнаменованья, какие хотел получить. (10) И они были ниспосланы, и Нума сошел с места уже царем[67].
19. (1) Получив таким образом царскую власть, Нума решил город, основанный силой оружия, основать заново на праве, законах, обычаях. (2) Видя, что ко всему этому невозможно привыкнуть среди войн, ибо ратная служба ожесточает сердца, он счел необходимым смягчить нравы народа, отучая его от оружия, и потому в самом низу Аргилета воздвиг храм Януса[68] – показатель войны и мира: открытые ворота означали, что государство воюет, закрытые – что все окрестные народы замирены. (3) С той поры, после царствования Нумы, закрывали его дважды: первый раз в консульство Тита Манлия по завершении Первой Пунической войны, второй (это боги дали увидеть нашему поколению) – после битвы при Акции, когда император Цезарь Август установил мир на суше и на море. (4) Связав союзными договорами всех соседей, Нума запер храм, а чтобы с избавленьем от внешней опасности не развратились праздностью те, кого прежде обуздывал страх перед неприятелем и воинская строгость, он решил вселить в них страх пред богами – действеннейшее средство для непросвещенной и, сообразно тем временам, грубой толпы. (5) А поскольку сделать, чтобы страх этот вошел в их души, нельзя было иначе, как придумав какое-нибудь чудо, Нума притворился, будто по ночам сходится с богиней Эгерией; по ее-де наущению и учреждает он священнодействия, которые богам всего угоднее, назначает для каждого бога особых жрецов.
(6) Но прежде всего Нума разделил год – сообразно с ходом луны – на двенадцать месяцев, а так как тридцати дней в лунном месяце нет и лунному году недостает одиннадцати дней до полного, образуемого кругооборотом солнца, то, вставляя добавочные месяцы, он рассчитал время так, чтобы на каждый двадцатый год любой день приходился на то же самое положение солнца, что и в исходном году, а совокупная продолжительность всех двадцати лет по числу дней была полной[69]. (7) Нума же учредил дни присутственные и неприсутственные[70], так как небесполезно было для будущего, чтобы дела, ведущиеся перед народом, на какое-то время приостанавливались.
20. (1) Затем Нума занялся назначением жрецов, хотя многие священнодействия совершал сам – особенно те, что ныне в ведении Юпитерова фламина. (2) Но так как в воинственном государстве, думалось ему, больше будет царей, подобных Ромулу, нежели Нуме, и они будут сами ходить на войну, то, чтобы не оставались в пренебрежении связанные с царским саном священнодействия, он поставил безотлучного жреца – фламина Юпитера, отличив его особым убором и царским курульным креслом. К нему он присоединил еще двух фламинов: одного для служения Марсу, другого – Квирину[71]. (3) Выбрал он и дев для служения Весте[72]; служение это происходит из Альбы и не чуждо роду основателя Рима. Чтобы они ведали храмовыми делами безотлучно, Нума назначил им жалованье от казны, а отличив их девством и прочими знаками святости, дал им общее уважение и неприкосновенность. (4) Точно так же избрал он двенадцать салиев для служения Марсу Градиву[73]; им в знак отличия он дал разукрашенную тунику, а поверх туники бронзовый нагрудник и повелел носить небесные щиты, именуемые «анцилиями»[74], и с песнопениями проходить по городу в торжественной пляске на три счета. (5) Затем он избрал понтифика[75] – Нуму Марция, сына Марка[76], одного из отцов-сенаторов, – и поручил ему наблюдать за всеми жертвоприношениями, которые сам расписал и назначил, указав, с какими именно жертвами, по каким дням и в каких храмах должны они совершаться и откуда должны выдаваться потребные для этого деньги. (6) Да и все прочие жертвоприношения, общественные и частные, подчинил он решениям понтифика, чтобы народ имел, к кому обратиться за советом, и в божественном праве ничто не поколебалось от небреженья отеческими обрядами и усвоения чужеземных; (7) чтобы тот же понтифик мог разъяснить не только чин служения небожителям, но и правила погребенья, и способы умилостивить подземных богов, а также какие знамения, ниспосылаемые в виде молний или в каком-либо ином образе, следует принимать в расчет и отвращать. А чтобы их получать от богов, Нума посвятил Юпитеру Элицию[77] алтарь на Авентине и чрез птицегадание вопросил богов, какие знамения должны браться в расчет.
21. (1) К обсуждению этих дел, к попеченью о них обратился, забыв о насилиях и оружии, весь народ; умы были заняты, а постоянное усердье к богам, которые, казалось, и сами участвовали в людских заботах, исполнило все сердца таким благочестием, что государством правили верность и клятва, а не покорность законам и страх перед карой. (2) А поскольку римляне сами усваивали нравы своего царя, видя в нем единственный образец, то даже соседние народы, которые прежде считали, что не город, но военный лагерь воздвигнут среди них на пагубу всеобщему миру, были пристыжены и теперь почли бы нечестием обижать государство, всецело занятое служеньем богам.
(3) Была роща, круглый год орошаемая ключом, который бил из темной пещеры, укрытой в гуще деревьев. Туда очень часто приходил без свидетелей Нума, будто бы для свиданья с богиней; эту рощу он посвятил Каменам, уверяя, что они совещались там с его супругою Эгерией[78]. (4) Установил он и празднество Верности. Он повелел, чтобы к святилищу Верности[79] жрецы приезжали на крытой колеснице, запряженной парой, и чтобы жертвоприношение совершали рукою, спеленутою до самых пальцев, в знак того, что верность должно блюсти и что она свята и остается святыней даже в пожатии рук. (5) Он учредил многие другие священнодействия и посвятил богам места для жертвоприношений – те, что понтифики зовут «Аргеями»[80]. Но все же величайшая из его заслуг в том, что на протяжении всего царствования он берег мир не меньше, чем царство.
(6) Так два царя сряду, каждый по-своему – один войною, другой миром, возвеличили Рим. Ромул царствовал тридцать семь лет, Нума – сорок три года[81]. Государство было не только сильным, но одинаково хорошо приспособленным и к войне и к мирной жизни.
22. (1) Нума умер, и вновь наступило междуцарствие. Затем народ избрал царем Тулла Гостилия[82], внука того Гостилия, который прославился битвой с сабинянами у подножия крепости; отцы утвердили это решение. (2) Новый царь не только не был похож на предшественника, но воинственностью превосходил даже Ромула. Молодые силы и дедовская слава волновали его. И вот, решив, что в покое государство дряхлеет, стал он повсюду искать повода к войне. (3) Случилось, что римские поселяне угнали скот с альбанской земли, альбанские, в свой черед, – с римской. Властвовал в Альбе тогда Гай Клуилий. (4) С обеих сторон были отправлены послы требовать возмещения убытков. Своим послам Тулл наказал идти прямо к цели, не отвлекаясь ничем: он твердо знал, что альбанцы ответят отказом и тогда можно будет с чистой совестью объявить войну. (5) Альбанцы действовали намного беспечнее; встреченные Туллом гостеприимно и радушно, они весело пировали с царем. Между тем римские послы и первыми потребовали удовлетворения, и отказ получили первыми; они объявили альбанцам войну, которая должна была начаться через тридцать дней. О том они и доложили Туллу. (6) Тут он приглашает альбанских послов высказать, ради чего они явились. Те, ни о чем не догадываясь, сначала зря тратят время на оправдания: они-де и не хотели бы говорить ничего, что могло б не понравиться Туллу, но повинуются приказу: они пришли за возмещеньем убытков, а если получат отказ, им велено объявить войну. (7) А Тулл в ответ: «Передайте вашему царю, что римский царь берет в свидетели богов: чья сторона первой отослала послов, не уважив их просьбы, на нее пусть и падут все бедствия войны».
23. (1) Эту весть альбанцы уносят домой. И вот обе стороны стали всеми силами готовить войну, всего более схожую с гражданской, почти что войну меж отцами и сыновьями, ведь оба противника были потомки троянцев: Лавиний вел начало от Трои, от Лавиния – Альба, от альбанского царского рода – римляне. (2) Исход войны, правда, несколько умеряет горечь размышлений об этой распре, потому что до сражения не дошло, погибли лишь здания одного из городов, а оба народа слились в один. (3) Альбанцы первые с огромным войском вторглись в римские земли. Лагерь они разбивают едва ли дальше, чем в пяти милях от города; обводят лагерь рвом; Клуилиев ров – так, по имени их вождя, звался он несколько столетий, покуда, обветшав, не исчезли и самый ров, и это имя. (4) В лагере Клуилий, альбанский царь, умирает; альбанцы избирают диктатора, Меттия Фуфетия[83].
Меж тем Тулл, особенно ожесточившийся после смерти царя, объявляет, что кара всесильных богов за беззаконную войну постигнет, начав с головы, весь альбанский народ, и, миновав ночью неприятельский лагерь, ведет войско в земли альбанцев. Это заставило Меттия сняться с места. (5) Он подходит к противнику как можно ближе и, отправив вперед посла, поручает ему передать Туллу, что, прежде чем сражаться, нужны переговоры – он, Меттий, уверен: если полководцы встретятся, то у него найдется сообщение, не менее важное для римлян, нежели для альбанцев. (6) Хотя это выглядело пустым хвастовством, Тулл не пренебрег предложением и выстроил войско. Напротив выстроились альбанцы.
Когда два строя стали друг против друга, вожди с немногими приближенными вышли на середину. (7) Тут альбанец заговорил. «Нанесенная обида и отказ удовлетворить обоснованное договором требование о возмещении ущерба – такова причина нынешней войны, я и сам, кажется, слышал о том из уст нашего царя Клуилия, да и ты, Тулл, не сомневаюсь, выдвигаешь те же доводы. (8). Но, если нужно говорить правду, а не красивые слова, это жажда власти толкает к войне два родственных и соседних народа. Хорошо это или дурно, я сейчас объяснять не буду: пусть размыслит об этом тот, кто затеял войну, меня же альбанцы избрали, чтобы ее вести. А тебе, Тулл, хотел бы напомнить я вот о чем. Сколь велика держава этрусков, окружающая и наши владения, и особенно ваши, ты как их ближайший сосед знаешь еще лучше, чем мы: велика �











