Читать онлайн Кровь нерожденных
- Автор: Полина Дашкова
- Жанр: Современные детективы
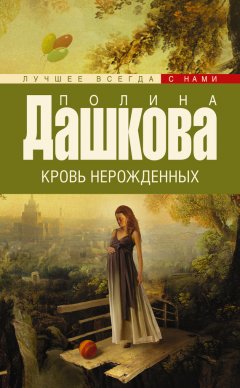
© Дашкова П.
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Глава первая
Она проваливалась в бесконечную черную муть. Звенело в ушах, тело не чувствовало никакой опоры. Она не могла понять, лежит она, или сидит, или вообще висит в воздухе, и это тошнотворное ощущение невесомости показалось знакомым. Так бывало в детстве, когда перекачаешься на качелях и, спрыгнув, не чувствуешь под собой твердой земли, пытаешься заново собрать вокруг себя пространство, а оно разваливается на куски…
С трудом разлепились отяжелевшие веки. По глазам резанул холодный люминесцентный свет. Она пыталась сообразить, где находится, но не могла. Наконец сквозь звон в ушах различила голоса.
Разговаривали две молодые женщины:
– Слушай, если ее надо к искусственным готовить, зачем столько промедола вкололи? Она так до утра проспит.
– Подождем еще немного и будем будить.
– А показания-то какие у нее?
– Откуда я знаю? То ли мертвяк, то ли урод. Тебе-то что?
– Ну, так… Интересно. Жалко ее. Оксан, а можно я плод послушаю?
– Да брось, нечего там слушать.
– Мне практика нужна.
– Ну, валяй, послушай, если охота.
Когда подошли к койке, женщина лежала с закрытыми глазами и не шевелилась. Она почувствовала, как откинули одеяло. Несколько секунд было тихо, ей стетоскопом прослушивали живот.
– Оксан, а ребеночек-то живой! Сердцебиение нормальное, сто двадцать. Сама послушай!
– Делать мне нечего! Мало ли – живой. Они на таком сроке часто живыми рождаются, даже пищат, ручками-ножками дрыгают. Потом-то все равно умирают.
– Может, и не надо искусственные делать? Женщине тридцать пять как-никак.
– Вот именно, тридцать пять. Старая первородящая это называется. У таких и получаются уроды.
Ее легонько похлопали по щекам.
– Женщина, просыпайтесь!
Она не шевельнулась.
– Оксан, пошли пока чайку попьем, пусть поспит.
Ее укрыли одеялом, задвинули ширму и отошли.
– Ты, Валя, не лезь куда не надо. Ты свою практику отбомбишь, и гуд бай. А мне отсюда деться некуда. Сколько здесь, сестрам нигде не платят.
Она полностью пришла в себя. Она, Лена Полянская, так испугалась, что дурноту как рукой сняло. Когда шаги сестер стихли, она быстро соскочила с койки и выбежала за ширму.
Это была не палата, а что-то вроде кабинета: стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, банкетка, обтянутая клеенкой, письменный стол. На столе стояла ее сумочка, на спинке стула висел зеленый хирургический балахон. Схватив сумочку и балахон, Лена выглянула в коридор. Там было пусто. Прямо напротив она увидела приоткрытую дверь, на которой был нарисован бегущий по ступенькам человечек: запасной выход. Лена быстро побежала вниз по лестнице.
Было темно и тихо. Босые ноги не чувствовали холода, а сердце колотилось так, что казалось – сейчас разорвется. На бегу она окончательно пришла в себя.
Пробежав несколько этажей, Лена остановилась перевести дух. «Куда и зачем я бегу? – подумала она. – Сейчас я выскочу на улицу в таком виде – и что дальше?»
Уже спокойно пройдя несколько ступенек, она посмотрела вниз и увидела поблескивающую в темноте цинковую дверь. За дверью был подвал.
Когда медсестра Оксана Сташук и студентка-практикантка Валя Щербакова вернулись, койка была пуста.
– Ну вот и хорошо, – сказала Оксана, – больная сама проснулась. В туалет, наверное, пошла. Сейчас вернется, начнем готовить.
– Оксан, давай все-таки погодим капельницу ставить. Пусть врач еще разок посмотрит.
– Валя, прекрати! Надоело! Тебе заново все объяснять, да? – Оксана посмотрела на часы. – Она у меня должна уже пятнадцать минут под капельницей с окситоцином лежать.
В кабинет вошел высокий мужчина в белом халате и марлевой маске.
– Ну, девочки-голубушки, как наша роженица? – бодро спросил он.
– Вы меня, конечно, извините, Борис Вадимович, – густо покраснев, начала Валя, – но я тут плод прослушала, у него сердцебиение нормальное, и двигается он. Вы бы сами посмотрели, а потом уж стимуляцию назначали.
Ординатор Боря Симаков смерил маленькую, кругленькую практиканточку таким взглядом, что другая на ее месте провалилась бы сквозь землю. Но Валя продолжала:
– Я, конечно, понимаю, вам за это ничего не будет, но нельзя же…
Тут Борис Вадимович не выдержал:
– Ты, сопля зеленая, куда лезешь? Ты сюда зачем пришла? Работать нас учить?! Я тебе устрою практику! Оксана! – резко развернулся он к медсестре. – Ты капельницу поставила или нет?
– Нет, Борис Вадимович, больная спала. Как я буду ее, спящую, обрабатывать?
– А что, разбудить нельзя было?
– Будили. Она же под промедолом, – оправдывалась Оксана, подойдя к Симакову поближе и коснувшись его упругой грудью. – Вы только не волнуйтесь. Она уже сама проснулась. Сейчас начнем.
– Ладно, девицы. Не тяните только, – смягчился врач, – а ты, колобок, – он снисходительно потрепал Валю по круглой розовой щеке, – лучше песенки не пой, а то лиса съест.
Валя почувствовала, как глаза наполняются слезами. Она вообще часто плакала, а тут такое… Этот балагур Симаков угробит живого ребеночка – глазом не моргнет. А у женщины детей нет и больше уже не будет наверняка. Последний ее шанс…
Случайно взглянув на стол, Валя заметила, что исчезла сумочка, красивая кожаная сумочка Полянской Елены Николаевны. Одежду отнесли в камеру хранения сразу, а сумочку с паспортом не успели – пока переписывали паспортные данные, заполняли больничную карту, кладовщица ушла домой. Со спинки стула исчез зеленый хирургический халат.
Валя шмыгнула носом, слезы высохли. «Вот и умница вы, Елена Николаевна, – подумала она, – вот и правильно. Только как вы босиком, в больничной рубашке да в балахоне до дома доберетесь?»
Валя вспомнила, как всего полтора часа назад они вдвоем с Оксаной раздевали спящую, бесчувственную женщину, расшнуровывали высокие ботинки, стягивали свитер через голову. Красивая, холеная, она была в их руках как кукла.
«На ее месте я бы отсюда и голышом ушла», – подумала Валя, а вслух сказала:
– Вы уж простите меня, Борис Вадимович. Характер такой дурацкий – вечно лезу не в свое дело. Сейчас же начнем готовить больную.
Лене хотелось спать. Она то и дело проваливалась в тяжелое забытье, но только на несколько мгновений: боялась заснуть и упасть на склизкий пол.
В подвале было темно, только полоса лунного света пробивалась сквозь пыльное приоткрытое окно высоко, под самым потолком.
Как ни противно было ступить босыми ногами на грязный пол, Лена решила обойти подвал. Глаза уже привыкли к темноте, но все равно идти приходилось ощупью. Она осторожно двинулась вдоль стены, больше всего на свете боясь наступить на крысу.
В подвале была свалена поломанная мебель, тюки с тряпьем, фанерные ящики и прочий хлам. Несколько ящиков валялось прямо под окном, единственным окном со сбитой металлической решеткой – остальные были намертво зарешечены.
Ящики оказались достаточно прочными. Лена поставила один на другой и попробовала влезть. Получилось низковато, приоткрытое окно было на уровне груди. Понадобился еще ящик.
Наконец удалось соорудить нечто вроде лестницы. На рассвете она выберется на улицу и пойдет в ближайшее отделение милиции. И что скажет? Ладно, это потом…
Из ящиков торчали гвозди, Лена до крови исцарапала себе руки и ноги. Распотрошив тюк с тряпьем, она вытянула несколько изодранных простыней, разобрала всю конструкцию, обмотала простынями каждый ящик и составила их в том же порядке. Потом подтащила разворошенный тюк, уселась на нижний ящик, а ноги положила в мягкие сухие тряпки. Все, теперь можно было расслабиться и спокойно дождаться рассвета.
Спать уже не хотелось. Устроившись поудобнее, Лена попыталась вспомнить, что же с ней произошло.
В кабинете ультразвука ей намазали живот какой-то желеобразной гадостью. Пожилой врач качал головой, глядя на мерцающий экран. Было шесть часов вечера…
После того как ей сказали, что ребенок мертвый, захотелось скорее уйти. Лена вытерла живот полотенцем, зашнуровала сапоги. Она не поверила этому милому доктору и была совершенно спокойна. Но он почему-то схватил ее за руку и стал щупать пульс.
– Подождите, подождите, деточка! Куда же вы сейчас пойдете в таком состоянии? Я просто не имею права вас отпускать, миленькая вы моя. Сейчас вот укольчик сделаем, вы посидите немного, успокоитесь. Я вам пока направление выпишу, завтра утречком в больницу, а сейчас уж посидите, отдохните, а потом ступайте себе домой. Я ведь понимаю, вам непросто такое пережить, но все будет хорошо, время лечит…
Врач тараторил ласково, при этом крепко держал Лену за руку и заглядывал ей в глаза. Тогда даже показалось, будто он действительно сочувствует, переживает за нее. Фамилию его Лена вспомнить не могла, а вот лицо, такое доброе, интеллигентное, с аккуратненькой седой бородкой, как у Айболита, стояло у нее перед глазами.
Дальше был полный провал – дыра в памяти. А потом – тяжкое пробуждение на больничной койке.
И тут Лена похолодела: а что, если этот Айболит успел ей вколоть вместе со снотворным что-то, стимулирующее роды? Если сейчас, в этом грязном подвале, она родит крошечного ребеночка, который погибнет у нее на руках?
«Так. Спокойно! – скомандовала себе Лена. – Надо вспомнить, как начинаются роды. Господи! Откуда мне помнить? Только по чужим рассказам… Схватки. Сначала редкие, потом чаще и больней».
Лена закрыла глаза и прислушалась к себе. Нет, ничего не болело, только сердце колотилось и коленки дрожали. И вдруг, неожиданно для себя, она впервые заговорила с ребенком: «Все в порядке, малыш. Мы с тобой молодцы». И прямо под рукой она почувствовала легкое, упругое движение. Так таинственно и нежно отозвалось в ней это движение, что она на несколько секунд забыла, где находится, только слушала себя, свой еще небольшой, но уже одушевленный живот.
– Нет, – сказала она вслух, – ничего не вкололи. Ты у меня здоровый, крепкий малыш. Только промедол, но это мы переживем. Ты родишься в срок, и никто нас с тобой больше не тронет!
И опять, но уверенней и сильней, чем в первый раз, ребенок шевельнулся.
Амалии Петровне Зотовой, заведующей гинекологическим отделением Лесногорской городской больницы, было шестьдесят лет. Высокая, полноватая той приятной полнотой, которая только красит женщину после пятидесяти – морщин меньше, и фигура имеет солидный, царственный вид, – Амалия Петровна ухаживала за собой тщательно и с любовью.
Каждое утро она начинала с жесткой получасовой гимнастики, принимала контрастный душ. Раз или два в неделю посещала очень дорогой и престижный салон красоты. Ее идеально подстриженные и уложенные седые волосы были слегка подцвечены специальной французской краской, которая придавала им голубоватое сверкание. Еще три года назад Амалия Петровна пользовалась для этих целей обыкновенными синими чернилами, разведенными в четырех литрах воды. Три года назад она не могла себе позволить даже такую мелочь, как целые, нештопаные колготки…
А сегодня в ушах и на пальцах Амалии Петровны посверкивали крупные бриллианты самой высокой чистоты, а в «ракушке» под окнами трехкомнатной квартиры стояла новенькая серебристая «Тойота».
Всю последнюю неделю Амалии Петровне не везло. Не было сырья, а его требовали срочно, причем не для очередной серии препарата на продажу, а для какого-то конкретного, очень важного человека. Речь шла не о деньгах, а о «крыше», о крупном чиновнике то ли из Минздрава, то ли из МВД.
Когда неделю назад Амалии Петровне позвонили, она ответила коротко: «Надо – значит будет». Однако, просмотрев свой резервный список, обнаружила, что раньше чем через месяц никакого нового поступления сырья не предвидится. Она стала обзванивать своих поставщиков. Их было немного, всего четверо – трое в Москве и один в Клину. Но и у них пока было пусто.
На третий день Амалию Петровну пригласили для разговора в ресторан «Христофор Колумб» на Тверской, и разговор состоялся весьма серьезный.
Впрочем, возникшую проблему нельзя было назвать неожиданной. Три года дело набирало обороты, росло число заказчиков. Еще два месяца назад Амалия Петровна предупредила:
– Мы работаем без сырьевых запасов. Уходит все – до миллиграмма. Холодильник пуст.
– Ну что же делать? – ответили ей тогда. – Ищите новые варианты, разрабатывайте новые источники. Это ваша прямая обязанность. Нельзя же выстраивать наших заказчиков в очередь.
Легко сказать: «новые источники»!
В тот же вечер она еще раз обзвонила поставщиков и назначила каждому из них встречу в разных местах Москвы на разное время, с интервалами в два часа.
От Лесногорска до Москвы Амалия Петровна доехала на своей «Тойоте» за тридцать минут. С часу дня до десяти часов вечера она побывала в четырех валютных ресторанах в центре Москвы. Заказывала себе везде одно и то же: фруктовый салат с обезжиренными взбитыми сливками и апельсиновый сок. Примерно одинаковыми были и беседы, состоявшиеся в четырех ресторанах.
– Но я же не могу первую попавшуюся бабу убедить, что ее ребенок – урод, и отправить к вам! – так или примерно так отвечал, выслушав Амалию Петровну, каждый из четырех ее собеседников.
– Именно так ты и сделаешь. Только выбирай старых первородящих. Там всегда можно что-то потом придумать, – наставляла она.
– Это очень, очень рискованно. Почему такая срочность? Неужели нельзя немного подождать?
– Подождать нельзя, – тихим ледяным голосом отвечала Амалия Петровна, – но тебя это уже не касается. Можешь идти. До свидания.
Ни один из поставщиков не ушел.
В десять тридцать вечера у Амалии Петровны состоялась последняя встреча, уже не в ресторане. Сев в свою «Тойоту» у американского бара на площади Маяковского, она вырулила на Садовое кольцо, в сторону Патриарших прудов. Подъехав к скверу, остановила машину у края тротуара, почти упершись в бампер черного «БМВ». Выйдя из машины, она открыла дверцу «БМВ» и уселась на заднее сиденье.
– Завтра, с девяти до шести. Четыре возможных варианта.
Она медленно и четко произнесла три московских адреса и один клинский, затем вышла из «БМВ», села за руль своей «Тойоты» и поехала домой, в Лесногорск.
Весь следующий день она нервничала. На утреннем обходе придиралась к сестрам, рявкала на лечащих врачей, потом зачем-то вызвала к себе в кабинет старенькую санитарку тетю Клаву, которая работала в больнице сорок лет, и наорала на нее так, что старушка заплакала и написала заявление об уходе.
В шесть часов вечера Зотова закрылась в своем кабинете, достала пачку сигарет и закурила. Вообще курила она крайне редко, здоровье свое берегла, но, когда волновалась, сигарета ее успокаивала.
В пять минут седьмого раздался телефонный звонок из Москвы.
– Амалия Петровна, здравствуйте! Вы уж извините за беспокойство, но мне пришлось к вам отправить больную на «скорой». Очень неприятный случай: двадцать четвертая неделя, женщине тридцать пять лет…
Повесив трубку, Зотова облегченно вздохнула, погасила сигарету и вызвала к себе ординатора Борю Симакова.
Глава вторая
Лена Полянская была папиной дочкой. Ей было два года, когда мама, альпинистка, мастер спорта, сорвалась со скалы. Елизавета Генриховна не могла жить без своих восхождений, и, когда ребенку исполнилось два, Николай Владимирович Полянский взял отпуск за свой счет и отпустил жену на Эльбрус. Потом он всю жизнь не мог себе этого простить.
Он растил дочь один, так и не привел в дом ни одной женщины. Любая женщина, даже самая лучшая, все равно была бы для его Леночки мачехой…
С первого класса школы до последнего курса журфака университета Лена Полянская была отличницей. Она не гналась за пятерками – ей просто нравилось учиться.
В старших классах сверстницы выщипывали брови «в ниточку», дрыгались под ритмичную музыку на вечеринках или, как тогда говорили, на «сейшенах», курили в школьном туалете и обсуждали свои отношения с мальчиками.
Лена на «сейшены» не ходила – ей было там неуютно и скучно, к тому же танцевать она не умела. Брови-«ниточки» и модная тогда стрижка «паж» с челкой до носа ей категорически не шли, к тому же папа очень просил бровей не выщипывать и косу, отросшую к семнадцати годам до пояса, не остригать. Отношения с мальчиками если и возникали, то обсуждать их в школьном туалете не хотелось. Вообще хотелось только учиться и читать запоем по-русски и по-английски.
Она читала все подряд, с какой-то суеверной жадностью, и к семнадцати годам вдруг обнаружила, что ничего, кроме как поглощать и усваивать информацию, не умеет: ни себя, ни других не понимает и даже не знает, в какой ей хочется поступить институт.
Николай Владимирович Полянский в тридцать девять лет стал доктором физико-математических наук, а Лена неожиданно для него и для себя поступила на факультет журналистики МГУ.
Николай Владимирович так и не женился, а Лена успела дважды побывать замужем. Первым ее мужем был сокурсник, маленький, худенький мальчик с нежными пепельными усиками. Он был ниже Лены на полголовы. Знакомясь с ним, обязательно говорили: «Вы так похожи на Лермонтова!», на что он хмуро и небрежно отвечал: «Да, я знаю».
Звали его Андрюша. Жил он отдельно от родителей, в крошечной комнатке в коммуналке на Сретенке. В этой комнате и состоялась пьяная свадьба с салатом «оливье», шпротами, окурками в тарелках и самозабвенными поцелуями в темном коммунальном коридоре, где на голову падали то корыто, то велосипед.
Николай Владимирович в это время был на конференции в Праге. Когда он вернулся, Лена с гордостью показала ему Андрюшу и свежий штамп в паспорте. Знакомясь с зятем, Николай Владимирович заметил:
– Вам, наверное, все говорят, будто вы похожи на Лермонтова. Вы не верьте. На самом деле ни капли не похожи…
В комнатке на Сретенке Лена не прожила и месяца. Она вернулась к папе, а с Андрюшей вежливо здоровалась, встречаясь на факультете. Через полгода они мирно развелись.
Второй брак был более серьезным и продолжительным.
Сразу после окончания университета Лену пригласили работать спецкором в один из самых популярных молодежных журналов того времени. Шел 1983 год. Один за другим умирали генсеки. Продолжалась афганская война. Кончались запасы сибирской нефти. А у Лены Полянской начался головокружительный роман.
Он был писатель, не очень известный, но вполне официальный. Его нравоучительные скучноватые повести довольно часто печатались на страницах популярного молодежного журнала, в котором работала Лена.
Звали его Юрий Изяславович. Он был старше Лены на десять лет и имел богатое прошлое с неприличным количеством брошенных жен и детей. В нем была та увесистая, хамоватая мужественность, которая убивает женщин наповал: хриплый басок, тяжелый подбородок, широкие плечи. Лена опомнилась после двух лет безрадостной совместной жизни…
Ее переживания пришлись на 1985 год. Чтобы заглушить тоску и унижение, она кинулась в работу, в карьеру, заработала себе имя и к 1992 году, когда тиражи еще недавно гремевших изданий стали катастрофически падать, уже была заведующей отделом литературы и искусства в российско-американском женском журнале «Смарт», которому не страшны были никакие финансовые потрясения.
Тогда же, в 1992-м, внезапно умер ее папа. Здоровый, полный сил человек сгорел за три месяца от рака желудка. За неделю до смерти он сказал:
– Ты бы, Леночка, завела себе ребенка. Одна на свете остаешься…
Лена действительно оставалась одна на свете. У нее не было никого, кроме старенькой полубезумной тетушки Зои Генриховны, родной сестры ее матери.
Завести ребенка Лена решилась только через три года, когда ей исполнилось тридцать пять. Замуж она больше не вышла, забеременела от человека, который в отцы не годился, был только производителем, чем-то вроде племенного быка…
Ординатор Боря Симаков влетел в кабинет Зотовой и выпалил с порога:
– Амалия Петровна! У нас ЧП! Больная пропала!
– Какая больная? Боря, что ты несешь?
– Та самая, Амалия Петровна, та самая!
– Успокойся, Борис. Сядь. Как там у нас с искусственными родами? Все готово?
– Именно искусственные роды и пропали!
Под слоем нежнейших французских румян щеки Амалии Петровны стали серыми.
– Как она могла пропасть? – шепотом спросила Зотова. – Ее что, похитили? Время – десять вечера, у ворот охрана…
– Ну, вероятно, она просто встала и ушла.
– Как ушла?! Куда? Как и куда может уйти женщина в родах, в больничной рубашке, без одежды и документов? – Амалия Петровна говорила очень тихо, но Борису казалось, что она орет. – Эта больная должна была лежать под капельницей, у нее уже должно быть полное раскрытие, потуги! Что ты несешь, Борис?!
– Стимуляцию ей сделать не успели. Ее одежда в камере хранения.
– А паспорт?
– Где ее паспорт, я не знаю.
– В общем, так, Борис. Далеко она уйти не могла. Сейчас ты обшаришь всю больницу. В палаты можешь не заходить. Осматривай туалеты, бельевые, прачечную, склад, подвал и чердак. Она где-то здесь.
Борис впервые за весь разговор взглянул прямо в светло-голубые, ледяные глаза Зотовой. Зрачки сузились до точек, глаза казались почти белыми. Лицо из пепельного сделалось свекольно-красным.
«Ну и страшная же ты баба, – подумалось Борису, – ну и вляпался же я, идиот!»
– Хорошо, – спокойно сказал он. – Я ее найду – если найду. И дальше что? За волосы поволоку рожать? Или, может, мне ее вообще убить?
– Надо будет – убьешь, – усмехнулась Зотова. – В благородство захотел поиграть? Ты, сопляк, на какие деньги живешь? На какие деньги жену с ребенком кормишь? Знаешь, сколько в других больницах такие, как ты, ординаторы получают? Я ведь тебя предупреждала, когда мы начинали работать, – всякое может случиться. Вот, милый мой, и случилось.
– Дело в том, Амалия Петровна, – медленно произнес Симаков, – дело в том, что, когда мы начинали работать, речь шла о серьезных научных исследованиях, о моей диссертации. Прошло три года. Никакой наукой не пахнет. Деньгами – пахнет, это да. Можно сказать, воняет деньгами. И вот сегодня вы привозите женщину, которую усыпили промедолом, требуете ее, спящую, срочно стимулировать, без всяких к тому показаний.
– Внутриутробная гибель плода – это тебе не показания? – перебила Зотова.
– Да живой там плод, живой, – нервно хохотнул Борис, – и уродств, несовместимых с жизнью, там нет наверняка…
Зотова изо всех сил шарахнула кулаком по столу, тут же поморщилась от боли и, потирая ушибленное запястье, тихо произнесла:
– Ты, Боренька, мальчик умный, добрый и невинный, как ангел, – голос ее сделался вкрадчивым, даже ласковым, – но ты плохой врач. Ты ошибся в выборе профессии. Врач не должен быть истериком. Думаю, мы не сумеем больше работать вместе. Мне даже кажется, мы больше не можем жить в одном городе, тем более таком маленьком. Поэтому прямо сейчас, Боренька, ты напишешь заявление об уходе и прямо завтра начнешь искать для себя и для своей молодой семьи новое место жительства, чем дальше от Лесногорска, тем лучше. И запомни, мальчик мой: я сюда никого не привозила. Поступила женщина на «скорой» со срочными показаниями. Вероятно, у этой женщины еще и психические отклонения, потому что нормальный человек в таком состоянии из больницы не сбежит. И вот теперь бродит где-то сумасшедшая роженица в больничной рубахе, и виноват в этом ты, Боренька. Но я тебя прощаю. Вот тебе бумага, ручка. Пиши заявление – и до свидания.
Когда Борис ушел, Амалия Петровна несколько минут сидела, тупо глядя на захлопнувшуюся за ним дверь кабинета. Правильно ли она поступила, выгнав Симакова и открыто пригрозив ему? Она чувствовала: дело выходит на новый круг. Начинается новый этап, и на этом этапе такие, как Симаков, будут только мешать. За его благородным негодованием стоят лишь слабость и трусость.
Он, конечно, будет молчать. Да и не о чем говорить. Не о чем и некому. Не такая она, Амалия Петровна, дура, чтобы посвящать его во все. Она давно поняла – Симакова в дело вводить нельзя. Он нужен был на определенном этапе. А теперь на его место надо искать совсем другого человека – сильного, надежного, который не будет корчить из себя святую невинность и требовать каждый раз очередной порции лапши на уши. Разумеется, такому человеку и платить придется по-другому, но это ничего. Лишь бы он не утомлял ее всякими интеллигентскими выкрутасами, как Симаков: деньгами, видите ли, воняет…
Да, с Симаковым она поступила правильно. Конечно, найти подходящего человека на его место непросто. Но это – потом. Сейчас главное – сырье.
Амалия Петровна решительно сняла телефонную трубку и набрала номер.
– Мне нужны трое, сюда, в больницу. Нет, ничего страшного. Просто у одной больной внезапно обнаружились психические отклонения, она сбежала прямо с операционного стола. Мои санитары ушли, их рабочий день давно кончился. Пока я дозвонюсь-добужусь, ваши люди будут здесь. Охрану мне дергать не хотелось бы – больная может проскочить через ворота. Спасибо, жду.
Через сорок минут у ворот больницы остановилась черная «Волга». Из нее вышли трое мужчин в кожаных куртках, с широкими плечами и квадратными затылками.
Свет фонарика блуждал по скользким ступеням. Трое мужчин неторопливо спускались в подвал.
– Все, – сказал один из них, – подвал только остался. Вряд ли она вообще в больнице. Наверное, давно дома.
– Как это, интересно, она домой доберется в одной рубашке и босиком? – спросил второй.
– Да очень просто, – хмыкнул третий, – сядет в электричку и поедет. А что босиком – так сейчас никто ни на кого не смотрит.
Они вошли в подвал.
– Черт, здесь все ноги переломаешь. Посмотри, может, какой-нибудь выключатель есть?
– Выключатель-то есть, да, видно, завхоз на лампочках экономит.
Они остановились и закурили.
У Лены с детства было очень острое обоняние, прямо-таки собачий нюх. Все запахи она чувствовала четко и ясно, а теперь, беременная, не могла ездить в метро из-за дикой смеси ароматов. Дешевые и дорогие духи сливались с потом и грязными носками. Дух горячего хлеба в чьем-то пакете переплетался с запахом мочи и гнилых зубов бомжа, заснувшего напротив. А уж запах табачного дыма она чуяла за версту…
Вот уже больше часа она сидела на своем сооружении из ящиков, согрелась и сама не заметила, как задремала.
Ей приснился школьный двор, заполненный нарядными детьми и взрослыми. Первоклашка с огромным бантом в русой косичке крепко держала Лену за руку. Девочка была удивительно похожа на маленькую Лену. Она даже стояла, как Лена на детской фотографии, – на одной ноге, будто цапелька…
– У меня будет девочка, – прошептала Лена сквозь сон, но тут же проснулась. Ей в нос ударил резкий запах табачного дыма.
Курил не один человек, а двое или даже трое. Сигареты были крепкие, американские.
Сначала Лена решила просто спрятаться за ящиками. Не станут же они перерывать весь хлам в темном подвале!
Она тихо встала, стараясь ничего не задеть и даже не дышать. Но ящики были придвинуты ею же вплотную к стене. Разбирать сейчас всю конструкцию, отодвигать от стены было опасно.
Луч фонарика медленно скользил по подвалу. Пока он был далеко, но приближался. Раздался шорох, потом грохот. Скорее всего они намерены осмотреть здесь каждую щель. Но подвал очень большой, и это дает шанс.
Лена вспомнила любимый телесериал своего детства «Семнадцать мгновений весны». Там тоже обыскивали подвал, и героиня с двумя младенцами спряталась в канализационном люке. У Лены был всего один младенец, причем в животе, а не на руках. Но не было люка, не было времени найти его, открыть и спрятаться – если такое вообще возможно.
Быстро и бесшумно она вскарабкалась на ящики и сжалась в комок под самым окном. Окно было освещено луной так, что подними они головы – увидят ее силуэт. Дождавшись очередного грохота швыряемой в разные стороны рухляди, Лена открыла окно. Прямо за ним была узкая каменная ниша глубиной около метра. Прикрыв окно снаружи, она уселась на дно ниши, усыпанное сухими листьями.
Было холодно, стучали зубы, колотила дрожь. Сквозь чуть приоткрытое окно она слышала грохот, мат и опять тот же запах табачного дыма. Они стояли под самым окном, возле ее конструкции из ящиков. Лена слышала каждое слово.
– Смотри, здесь окно. Кто это так постарался, ящики аккуратно сложил, тряпками обмотал? Может, там что ценное лежит? Может, старушка Зотова еще и наркотой приторговывает?
– Брось, и так ей хватает. Много ли бабульке надо?
– Слышь, Колян, ты до окошка-то долезешь?
– А на хрена?
– На всякий случай. Давай-ка, попробуй.
Несколько секунд было тихо. Луч фонарика уперся прямо в пыльное оконное стекло. Лена зажала рот рукой. Ей казалось – еще чуть-чуть, и она завопит как резаная.
«Что я делаю? Господи, что я делаю? Какая-то глупость, дешевый боевик, – неслось у нее в голове. – Сейчас они меня увидят. Сейчас этот Колян доберется до окна – и все. Что все? Убьют они меня? Свяжут, опять усыпят, сделают искусственные роды? Зачем? Скрыть врачебную ошибку? Не слишком ли много хлопот?»
Вдруг раздался треск, грохот. Потом послышалась оглушительная матерная тирада вперебивку со стонами и всхлипываниями. Ящики не выдержали веса здоровяка Коляна и обрушились.
– Нога, нога моя! – услышала Лена всхлипывающий мужской голос.
– Цела твоя нога, придурок, – ответил другой голос, – хорош выть. Пошли, ща тебе первую помощь окажут.
– Ага, в гинекологии, – хихикнул третий.
На столе перед Зотовой лежала новенькая больничная карта, в которой была записана только первая страница. Амалия Петровна аккуратно переписала фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес. Сложив блокнотный листочек, она сунула его в карман халата. Затем щелкнула зажигалкой и подожгла уголок больничной карты.
Подперев щеку, она задумчиво смотрела, как медленно, неохотно съеживается и рассыпается в прах плотная белая бумага.
«Полянская Елена Николаевна, 1960…» – мелькнуло в последний раз на догорающем бланке.
Немного подумав, Зотова вытащила листочек из кармана и тоже подожгла. Теперь она все знала наизусть. Теперь она никогда не забудет этих паспортных данных.
Когда стало совсем тихо, Лена, подождав для верности еще несколько минут, стала осторожно подтягиваться, чтобы влезть назад в подвал. Она все-таки решила туда вернуться. Она так промерзла, что казалось – никогда не согреется. А в подвале тепло. Там ее искать уже не будут. Утром она вылезет и спросит первого встречного, где милиция. Скажет, что ее ограбили, или еще что-нибудь придумает. Не бродить же ей ночью в таком виде неизвестно где. Тем более они сейчас наверняка обшаривают больничный двор и его окрестности.
Перекинув ноги через оконный проем, она посмотрела вниз. Не меньше чем в трех метрах от нее, на дне подвала, светлела груда разбросанных ящиков и белья. Между нею и полом была голая каменная стена.
«Но мне же нельзя прыгать», – с тоской подумала Лена.
И тут она услышала мужские голоса – совсем рядом. Вспыхнули фары машины, ярко, очень близко. Зажмурившись, обхватив ладонями живот, она прыгнула вниз, прямо на тюк с тряпьем.
Глава третья
Когда рассвело, из подвального окна показалась взлохмаченная голова, грязное бледное лицо. Дворник Степанов, бодро сметавший нападавшие за ночь листья, не удивился – в подвал больницы иногда заползали ночевать бомжи. В городе почти не осталось старых зданий с удобными, теплыми подвалами, а ночи уже холодные. Надо же где-то спать этим бедолагам!
У ворот больницы недавно поставили охрану, двух сонных надменных громил в пятнистой форме, с автоматами за плечами. Громилы курили «Мальборо», каждые полчаса сплевывали сквозь зубы и молчали, как глухонемые. Окурки они бросали прямо под ноги, да еще растирали своими башмачищами. Степанову охранники сразу не понравились. Не понравилось ему и то, что забор вокруг больничного двора построили бетонный, да еще – вот пакость – колючей проволокой обтянули поверху и бутылочных осколков понатыкали.
Однако в самой глубине двора была дырка в заборе, незаметная за кустарником. Кто и когда ее проделал, Степанов не знал. Но дырка была, через нее-то бомжи и пробирались иногда к теплому подвалу.
Непорядок, конечно, все-таки медицинское учреждение. Ну да ладно. Они не грязнее крыс. Только вот крыс никто не трогает, шастают по городу, будто хозяева. А бомжей гоняют все кому не лень…
Бродяжка, заметив Степанова, спряталась.
– Да вылезай уж, не бойся, – позвал дворник, – а то сейчас врачи с дежурства пойдут.
Голова показалась опять. Это была женщина, не старая, не пьяница – странная какая-то.
– Ну, помочь, что ли? – Степанов подошел и протянул руку.
Женщина с его помощью выбралась наружу, и тут Степанов удивился. На ней была больничная рубашка, сверху – короткий зеленый балахон, какие надевают врачи в операционной. Босые ноги в свежих ссадинах. Но что больше всего удивило Степанова – на плече у нее висела маленькая, шикарная, явно очень дорогая кожаная сумочка.
«А сумочка-то наверняка краденая. Надо бы в милицию…» – подумал Степанов. Но тут женщина произнесла:
– Скажите, пожалуйста, где здесь ближайшее отделение милиции?
Степанов повел ее к дыре в заборе. Хотя эта женщина и не была никакой бомжихой – он понял это, вглядевшись в ее лицо, и окончательно убедился, когда она спросила про милицию, – Степанову почему-то не хотелось вести ее через ворота, мимо охранников.
Пролезая через пролом, она спросила:
– Извините, это Москва?
– Лесногорск, – пожав плечами, ответил Степанов, – до Москвы сорок минут на электричке.
Дежурный в отделении милиции долго разглядывал странно одетую гражданку, потом листал ее паспорт. Было шесть часов утра, ему очень хотелось спать. Наконец, сладко зевнув, он отдал ей паспорт и произнес:
– Я все-таки не понял, гражданочка, о чем заявить-то хотите? Ограбили вас, изнасиловали? Что случилось?
– Все, спасибо, извините. Я не буду ничего заявлять. Не возражаете? Мне домой надо, а в таком виде, босиком…
Опустившись на лавку для задержанных, женщина горько заплакала. Молоденький дежурный растерялся.
– Ну что вы, девушка, сюда не надо вам садиться, – он встал, протянул ей пачку сигарет, – на, покури, успокойся.
Она замотала головой:
– Спасибо, я не курю. Простите, у вас здесь можно где-нибудь умыться?
– А, это пожалуйста. Пошли. Эй, погоди, у меня тапочки есть. Ноги за ночь устают в ботинках. На, надень.
– Спасибо вам большое, – слабо улыбнулась Лена.
Когда она вернулась, умытая и причесанная, дежурный увидел, что она красивая, намного красивее, чем на паспортной фотографии. И никак нельзя дать ей тридцать пять лет. Длинные темно-русые волосы, большие серые глаза, лоб высокий, выпуклый слегка, и на нем будто написано высшее образование.
– Я тут чайку согрел, угощайтесь. И вот вам бумага, ручка. Вы заявление все-таки напишите.
Лена глотнула крепкого сладкого чаю и стала писать:
«Я, Полянская Елена Николаевна, 1960 г.р., домашний адрес: Москва, ул. Новослободская, дом…»
Впервые в жизни ей приходилось писать заявление в милицию. Если описывать все подробности, получится длинно, если без подробностей – никто ничего вообще не поймет.
– А на чье имя писать? – вскинула она глаза на дежурного.
– Пишите на имя начальника Лесногорского городского отделения МВД капитана Савченко К. С.
– Насколько подробно все описывать?
– Ну, желательно подробней.
– Тогда длинно получится.
– Ничего, разберемся.
Заявление уместилось на двух страницах. Лена написала, как в женской консультации ее усыпили, как она очнулась на больничной койке и из разговора медсестер поняла, что ее собираются готовить к искусственным родам; как она сбежала и просидела ночь в подвале, где ее не нашли по чистой случайности.
«Я не знаю, с какой целью все это было проделано, – закончила она, – кому понадобились я и мой ребенок (у меня беременность двадцать шесть недель), но факт насилия, на мой взгляд, очевиден». Число и подпись.
Милицейский «газик» не спеша ехал по Ленинградскому шоссе. Лену знобило, хотя на плечи ей накинули телогрейку. Только сейчас она поняла, как устала. Заявление не давало ей покоя. Наверное, не стоило его все-таки писать…
Оказавшись дома, она скинула больничное тряпье и встала под горячий душ. Мылась долго, согревалась и смывала с себя всю эту жуткую, нелепую ночь.
«Почему я не написала, что искавшие меня в подвале упомянули фамилию Зотова? Наверное, эта Зотова имеет отношение ко всей истории. Впрочем, вряд ли кто-то вообще будет заниматься моим заявлением. У них и так дел хватает. Ну и хорошо, и отлично. Пусть все это забудется, исчезнет, как страшный сон. Ничего не было – ни больницы, ни подвала. Там, правда, остались мои вещи – любимый белый свитер из альпаки, который связала тетя Зоя, отличная шерстяная юбка – в ней можно было бы ходить до девятого месяца, просто пуговицы переставить. Ладно, переживу. Главное, все кончилось. Теперь можно наконец лечь в родную чистую постель, вытянуть ноги, поспать часа три-четыре и все, все забыть…»
Выйдя из ванной в теплом махровом халате, Лена поставила чайник на огонь и, позвонив на работу, наговорила на автоответчик главному редактору, что задержится сегодня и приедет часам к двум, так как неважно себя чувствует.
Потом она вернулась в ванную, с какой-то суеверной брезгливостью, двумя пальцами подняла с пола больничные тряпки и кинула их в пластиковый мешок, чтобы прямо сейчас, пока закипает чайник, выбросить все это в мусоропровод на лестничной площадке.
Еще с детства у Лены была привычка брать с собой ключи, отправляясь выносить мусор: английский замок мог запросто защелкнуться. Много лет на крючке в стенном шкафу в прихожей висели запасные ключи от квартиры и от почтового ящика, которые Лена машинально брала и машинально вешала на место, когда шла выносить мусор или доставать газеты.
Она привычно протянула руку и наткнулась на пустой крючок. Включив свет в прихожей, обшарила дно шкафа, перетряхнула всю стоявшую там обувь. Ключей не было.
«Успокойся, – приказала себе Лена, – ты просто забыла повесить их на место. Сядь и подумай, куда ты могла деть ключи. Надо ведь просто поискать как следует. Но сначала – выкинуть эту гадость». Она заметила, что говорит вслух.
Достав связку ключей из сумочки, Лена открыла дверь. Руки немного дрожали, и связка со звоном упала на кафель лестничной площадки, у дверного коврика. Наклонившись, чтобы поднять ключи, она увидела у самого края коврика окурок. Он был свежий, от него тошнотворно пахло табаком.
Быстро выбросив пакет с тряпьем в мусоропровод, Лена кинулась назад в квартиру, захлопнула дверь, заперла ее на цепочку и села на низенький телефонный столик в прихожей, пытаясь унять дрожь и успокоить дикое сердцебиение. Она старалась медленно, глубоко дышать носом, ни о чем не думая, только тупо считая вдохи и выдохи.
Но уже на втором вдохе она встала и распахнула приоткрытую дверь туалета. Запах… Запах мужской мочи. Она зажгла свет. Эти скоты даже не спустили за собой. Нажав рычаг слива и вылив в унитаз почти всю бутылку жидкого моющего средства, Лена уже спокойно выключила огонь под захлебывающимся чайником и так же спокойно, стараясь не торопиться, оглядела обе комнаты.
Теплилась слабая надежда, что хоть что-нибудь пропало, кроме ключей, что это были просто воры. «Ага, – усмехнулась Лена, – пописать зашли».
Но ведь воры всякие бывают – открыли дверь отмычкой, тихо и аккуратно обыскали квартиру, ничего не порушили, взяли только драгоценности и деньги, бросили окурок у двери, захватили ключи, чтобы навестить гостеприимных хозяев еще разок-другой…
Нет, ерунда. Зачем им ключи? Нормальный человек в таком случае обязательно поменяет замок, и нормальный вор не может не понимать этого. К тому же у вора есть отмычка.
Полторы тысячи долларов, отложенные на машину, оказались на месте, в верхнем ящике письменного стола. Воры нашли бы моментально. В деревянной шкатулке среди серебряных безделушек лежали старинные прабабушкины серьги, золотые, с настоящими бриллиантами, и тоненькое золотое колечко с изумрудом, папин подарок на шестнадцатилетие. Все было цело, а ведь шкатулка стояла на самом виду, на туалетном столике.
Может, все-таки позвонить в милицию? И что сказать? «Пропали запасные ключи, окурок у двери валяется, в туалете мужской мочой воняет?» Нет, не то. Нужен хороший юрист, чтобы посоветоваться… Да, срочно нужен юрист.
Лена взглянула на телефонный столик, на котором всегда лежала ее разбухшая, старая, потрепанная записная книжка. В этой книжке были телефоны практически всех ее знакомых за последние пятнадцать лет: ее сокурсников, коллег, друзей, приятелей, людей, у которых она когда-то брала интервью, авторов, которых редактировала и публиковала, – словом, номеров было, наверное, больше тысячи.
Книжку эту Лена никогда не выносила из дома, не перекладывала в другое место. Она как бы срослась с телефонным столиком, стала его частью, а потому и не замечалась.
Но книжки не было. И в тот момент, когда Лена это обнаружила, зазвонил телефон. Она схватила трубку. Вот сейчас человеческий голос – все равно чей – прекратит этот кошмар и все встанет на свои места…
– Алло, я слушаю!
Ответом было молчание.
Телефонное молчание всегда можно отличить от неполадок на линии: оно живое, дышащее, жуткое. И тем не менее, прежде чем повесить трубку, Лена сказала:
– Вас не слышно. Перезвоните.
Теперь уже думать и приходить в себя было некогда. Лена натянула свободное трикотажное платье, в небольшой кожаный рюкзачок бросила зубную щетку, пасту, бутылочку шампуня, нераспечатанные колготки, пару маек, прочие мелочи. Ей часто приходилось ездить в командировки, набор необходимых вещей был всегда под рукой. Собраться она могла за пять минут.
Заколов еще совершенно мокрые волосы, Лена накинула на голову шерстяной шарф. Сапоги, длинное теплое пальто, рюкзак, сумка… Еще секунду подумав, она вбежала в комнату, взяла доллары из ящика, часть запихнула на дно рюкзака, под вещи, часть положила в маленькую сумочку. Потом надела на палец папино кольцо, а прабабушкины сережки бросила в карман пальто – некогда было разматывать шарф и вдевать их в уши. Теперь последнее – пресс-карта.
Международная пластиковая пресс-карта, размером чуть больше сигаретной коробки, валялась на холодильнике, под мешком с хлебом. В другой ситуации Лена, наверное, потратила бы на поиски полчаса, а сейчас нашла моментально.
Теперь все. Перед тем как захлопнуть дверь, она подсунула под внутренний половичок ампулу с йодом, а вторую – под половичок на лестничной площадке, перед своей дверью.
Лифт был занят. Лена ждать не стала, пошла пешком. Пройдя два лестничных пролета, она услышала, как лифт остановился на ее пятом этаже, и рванула по лестнице вниз.
У подъезда стояла машина «скорой помощи», обыкновенный белый, заляпанный грязью микроавтобус с красными полосами и цифрами 03 на боках. Шофер, куривший в кабине, не обратил на вышедшую из подъезда женщину никакого внимания. Быстро пройдя мимо, Лена заставила себя оглянуться и запомнить номер.
Не замечая мелкого ледяного дождя, она побежала к метро.
Глава четвертая
Зотова пришла домой в половине пятого утра совершенно разбитая. Час назад мальчики позвонили ей по сотовому телефону и сообщили, что в квартире никого нет. Она велела им найти запасные ключи, телефонную книжку и какую-нибудь фотографию хозяйки, но при этом следов не оставлять и ждать в машине где-нибудь поблизости.
Амалия Петровна любила свою просторную, идеально чистую и уютно обставленную квартиру, в которую переехала два года назад из однокомнатной клетушки в «хрущобе». Вот уже двенадцать лет, после развода со своим последним мужем, она жила одна. Детей у нее не было и быть не могло – не из-за проблем со здоровьем, она была удивительно здоровым человеком, при желании могла бы нарожать кучу детей. Но желания не было.
Амалия Петровна терпеть не могла все, что связано с беременностью, родами, младенцами. Все это, по ее мнению, делало женщину беззащитной и жалкой, придавало ей нечто животное.
Во время родов любая, даже самая сильная женщина превращалась в бессмысленную, воющую от дикой боли самку. Куда девались красота, интеллект, независимость?
Амалию Петровну всегда поражало, почему неуемные бабы, пережив столько боли и унижения, решаются рожать по второму и третьему разу. Лично ей страсть к размножению была глубоко противна.
Но зато ее увлекало ощущение своей полной власти и над бабой, и над вылезающим из нее красным, склизким детенышем. Потом этот детеныш может стать кем угодно – серым обывателем, гением, убийцей, – но в момент родов и он, и его обезумевшая от боли мамаша зависят от ее воли. Несколько неверных движений, небольшая задержка во времени – да мало ли что может случиться? В учебнике судебной медицины черным по белому написано: «Наибольшее число ошибок, приводящих к роковым последствиям, встречается в практике акушеров-гинекологов… Врачебные ошибки в медицинской практике не являются преступлением и не влекут за собой уголовной ответственности».
Ошибки случались у всех – от усталости, по недомыслию, от лени и небрежности. У Амалии Петровны процент ошибок был меньше, чем у ее коллег, и никогда они не были случайными. Всегда и во всем она отдавала себе отчет.
Нет, Зотова не была сумасшедшей садисткой. Она была отличным, опытнейшим врачом. Но иногда, крайне редко, позволяла себе небольшие «промашки». Ее право на «ошибку», от которой зависят жизнь и смерть, было вполне законным, и это давало ей ощущение собственной силы и значимости…
В половине восьмого утра ее разбудил телефонный звонок.
– Доброе утро, Амалия Петровна. Капитан Савченко беспокоит. К нам тут заявление поступило.
– Какое заявление? В чем дело? – Зотова терла глаза. Она никак не могла по-настоящему проснуться, к тому же ждала совсем другого звонка.
– По телефону читать не хочется. Может, вы к нам в отделение зайдете? Или, если хотите, я сам к вам подойду через часик. Устраивает?
– Константин Сергеевич, что случилось? Объясните толком, какое заявление?
– Да вы не волнуйтесь, Амалия Петровна, ничего серьезного, ерунда какая-то. Но поговорить надо.
– Хорошо. Я жду.
На самом деле капитан Савченко понимал, что поступившее заявление вовсе не ерунда. Недаром младший лейтенант Круглов задержался после ночного дежурства, чтобы доложить именно об этом заявлении ему, Савченко, лично.
Когда Савченко прочитал страницы, исписанные красивым почерком, в голове у него кто-то будто рявкнул: «Все. Началось!»
– Сумасшедшая какая-то писала. Можно было бы и не докладывать. Ну, что стоишь? Спать иди.
Он посмотрел на Круглова и встретил недоуменный взгляд голубых глаз младшего лейтенанта.
– Нет, что вы, товарищ капитан, она не сумасшедшая, она нормальная.
– И где сейчас эта твоя нормальная?
– Как где? Я Кузнецова попросил домой ее отвезти. Она ведь босиком была, замерзла, устала.
– Отлично, Круглов, отлично. Ты теперь всех босых бомжих будешь на казенной машине по домам развозить? Задержать ее надо было, вот что!
– Да за что ее задерживать? Не бомжиха она. Нормальная женщина, к тому же беременная. Паспорт у нее в порядке.
– Ладно, Круглов, проехали, – тяжело вздохнул Савченко. – Ты хоть этот бред не регистрировал?
– Зарегистрировал…
Савченко поморщился.
– Все, младший лейтенант, свободен. Домой иди, спать.
– Но я…
– Сказал, свободен!
– Слушаюсь, товарищ капитан!
Круглов козырнул и вышел.
А капитан Савченко, немного подумав, перечитав заявление еще раз, позвонил Зотовой.
Идти к ней ужасно не хотелось. Но с заявлением что-то надо было делать. Он чувствовал – расхлебывать историю с беременной журналисткой из Москвы придется ему, Савченко. А почему, собственно? Он-то здесь при чем?
Так получилось, что два года назад капитан стал должником Амалии Петровны. Его младшая дочь, шестнадцатилетняя Машенька, забеременела. Сначала никто ничего не заметил. Просто девятиклассница Маша Савченко стала хуже учиться, часто плакала. Девочка она высокая, с широкой крестьянской костью, вся в отца. Выпирающий животик стал заметен только на шестом месяце.
Состоялся семейный совет. Старший сын Володя кричал, что найдет и убьет «гада, который обрюхатил сестренку». Маша горько плакала, говорила, что виновата сама и ребеночка хочет оставить.
В конце концов все смирились со случившимся и стали ждать прибавления семейства. Но тут выяснилось, что у Машеньки какие-то серьезные сложности со здоровьем, шансов родить нормально у нее мало, кесарево сечение тоже делать опасно. Машу возили в Москву, консультировались с лучшими специалистами. Все они в один голос говорили, что гарантировать ничего не могут.
И тут вмешалась Зотова. Лесногорск – город маленький, о проблемах в семье начальника милиции знали все, поэтому ничего не было удивительного, когда заведующая гинекологическим отделением городской больницы позвонила Савченко домой.
– Приводите Машеньку ко мне, Константин Сергеевич. Я посмотрю.
Это была последняя надежда. До родов оставалось меньше месяца.
Рожала Маша трое суток, и Зотова была с ней неотлучно. Первый крик новорожденного внука капитана Савченко раздался в два часа ночи, и Амалия Петровна сама позвонила капитану домой.
– Поздравляю вас, Константин Сергеевич. Мальчик. Три семьсот, пятьдесят четыре сантиметра. С Машенькой все нормально, уже завтра сможете навестить. Я положу ее в отдельную палату, сама буду следить, как проходит послеродовой период.
И тогда Савченко, одуревший от счастья, крикнул в трубку:
– Амалия Петровна! Я ваш должник на всю жизнь!
Потом семья Савченко пыталась вручить Зотовой то дорогие французские духи, то золотую цепочку, то еще что-то. Она каждый раз отказывалась, говоря:
– Ну, что вы, Константин Сергеевич, разве в подарках дело? Потом как-нибудь сочтемся.
А через месяц Зотова пришла к ним в гости с тортом и большим букетом роз – «навестить малыша».
Улучив момент, она вывела капитана на лестничную площадку покурить и после нескольких ничего не значащих фраз начала:
– У меня к вам серьезный разговор, Константин Сергеевич. В нашей больнице сейчас ведется важная научная работа. Мы разрабатываем серию препаратов – совершенно новых лекарств, – и у нас возникает в связи с этим множество контактов разного рода. К нам приезжают весьма серьезные люди, заинтересованные в результатах наших исследований, – крупные бизнесмены, депутаты, государственные чиновники, сотрудники посольств. Так вот, у меня к вам большая просьба. Вокруг больницы должно быть спокойно. Нет, не в смысле общественного порядка, у нас для этого есть своя охрана. Просто городок маленький, всякие могут поползти разговоры, слухи. А нам для работы необходим полный покой, чтобы нас не тревожили по пустякам. Вы меня понимаете?
– Нет, – искренне признался Савченко, – я не понял, конкретно от меня что требуется?
Зотова улыбнулась:
– Да ничего особенного. Просто, если вдруг какие-нибудь недоразумения возникнут, касающиеся нашей больницы, заявления какие-нибудь поступят, сигналы, что-то в этом роде, – вы уж будьте так добры, ставьте меня в известность. И вот еще. У нас, как вы знаете, работает охрана, двое ребят из частного охранного агентства. На них у больницы есть две ставки. Мы можем платить ребятам сами, а ставочки эти перевести на милицию. Я же знаю, сколько ваш брат милиционер получает от государства – гроши. А две ставки – два миллиона в месяц. Деньги, конечно, не ахти какие, но на улице не валяются. Мы будем переводить их вашему отделению, а вы уж сами разберетесь, как ими распорядиться.
– Вы что, хотите заняться благотворительностью? – усмехнулся Савченко. – Идемте, горячее остынет, жена огорчится.
– Погодите, Константин Сергеевич, не волнуйтесь, – мягкие холодные пальцы Зотовой прикоснулись к руке капитана, – я старая, усталая женщина, и мне совсем не хочется впутываться в какую-нибудь авантюру. Наши научные исследования совершенно законны. И вас я слишком уважаю, чтобы предложить вам что-то скользкое. Поверьте, я считаю вас умнейшим человеком в нашем городе и потому надеюсь, вы поймете меня правильно. Хочу вам сказать, что наши препараты могут сделать настоящий переворот в медицине. Они будут спасать и, в общем, уже спасают неизлечимых больных…
Скрепя сердце Савченко в конце концов согласился, хотя сам не знал на что.
Но чем дольше он наблюдал за больницей, тем больше жалел о своем согласии. Не нравилось ему все это: колючая проволока и осколки стекла, натыканные поверху больничного забора, уголовные физиономии охранников, шикарные иномарки, въезжающие во двор. Интуиция подсказывала: что-то не так с маленькой лесногорской больницей, что-то в ней нечисто. Что-то не так и с самой Зотовой, разъезжающей в новенькой «Тойоте» и купившей шикарную трехкомнатную квартиру.
Как-то раз он поделился своими сомнениями с главным врачом больницы, стареньким, всегда испуганным Яковом Соломоновичем Зыслиным.
– Ну что вы, Константин Сергеевич, – Зыслин даже замахал своими сухонькими ручками, – на гинекологическом отделении вся больница держится. Амалия Петровна – кормилица наша. Мы же бюджетники, зарплату платить нечем. Врачи еще как-то держались на одном энтузиазме, но сестры, нянечки – прямо стаями увольнялись. А теперь благодаря этим исследованиям у нас и деньги появились, и оборудование новейшее. И потом, когда это только началось, меня лично посетил один очень крупный чиновник из Минздрава…
Но заверения Зыслина капитана не очень успокоили.
Между тем ежемесячные два миллиона с похвальным постоянством поступали на банковский счет отделения милиции.
Два года все было спокойно. Когда капитан встречался с Зотовой на улице, она приветливо здоровалась, улыбалась, подробно расспрашивала о здоровье Машеньки и маленького Ванюши. Никаких других разговоров с Савченко не вела.
И вот поступило заявление…
Амалия Петровна открыла ему дверь, и Савченко впервые переступил порог ее квартиры. Все здесь сверкало чистотой и достатком. Сверкала и сама хозяйка – высокая, подтянутая, ухоженная. Савченко заметил, что она в свои шестьдесят выглядит моложе его сорокапятилетней жены.
«Надо же, – подумал он, – как ей это удается? Ведь старая уже баба, а посмотреть, так Оля моя рядом с ней – почти старушка. Наверное, потому, что детей нет, живет для себя…»
– Проходите, Константин Сергеевич, рада вас видеть. – Улыбаясь фарфоровым ртом, Зотова провела его в комнату, усадила в глубокое кожаное кресло. Савченко хотел было снять ботинки, чтобы не испачкать пушистый светлый ковер, но хозяйка остановила его: – Не стоит беспокоиться. Расслабьтесь, отдыхайте. Я сейчас кофейку сварю.
Через несколько минут Зотова поставила на журнальный столик поднос с серебряной джезвой, двумя тонкими фарфоровыми чашечками и вазочкой печенья. Налив кофе, она подвинула Савченко запечатанную пачку сигарет «Кэмел» и пепельницу.
– Ну, Константин Сергеевич, что случилось?
Капитан достал из кармана кителя сложенные вчетверо странички заявления и молча протянул Зотовой.
Пока она читала, капитан курил и внимательно следил за ее лицом. На этом холеном, искусно подкрашенном лице не дрогнул ни один мускул. Прочитав, она аккуратно сложила листочки и отдала Савченко.
– Значит, двадцать шестая, а не двадцать четвертая, – задумчиво произнесла она и покачала головой, – вот старый плут!
Савченко удивленно поднял брови:
– Простите, не понял. Кто старый плут?
– А? Нет, это не важно. Так, мысли вслух… Секундочку, я возьму свои сигареты. Эти для меня слишком крепкие.
Она быстро встала, открыла откидную крышку зеркального бара и достала пачку тоненьких сигарет «Вог», уселась в кресло, закурила.
– Однако много я стала курить в последнее время, надо сдерживаться. Впрочем, это тоже не важно. И что же вы, Константин Сергеевич, собираетесь предпринять?
Ледяные бледно-голубые глаза впились в лицо капитана, куда-то в подбородок. Савченко показалось, что сейчас от этого взгляда на коже появятся ровные кровоточащие порезы, как от бритвенного лезвия.
– Я бы сначала вас хотел послушать, Амалия Петровна, – отхлебнув кофе, сказал он.
– Ну-у, что меня слушать? Вы – власть, вам и решать. На мой взгляд, писала явно больная женщина, психически больная, вы понимаете меня. Знаете, иногда на женщин, даже вполне здоровых, беременность действует странным образом. Уж я-то знаю. В организме происходит настоящая гормональная буря, психика может резко измениться. Впрочем, не буду утомлять вас медицинскими подробностями.
– А вот дежуривший ночью младший лейтенант утверждает, что женщина была вполне нормальная.
– Ну, младший лейтенант – не медик. Как, кстати, его фамилия?
Сам не зная почему, Савченко фамилии не назвал.
– Он ведь ночь отдежурил, – продолжала Зотова, – устал. Заявление-то небось и зарегистрировать не успел?
– Почему? Успел. В том-то и дело, что успел. И теперь, понимаете ли, я обязан отреагировать в течение трех дней, поставить заявителя в известность о принятом решении.
– Какие варианты решений?
– По закону их два: первое – о возбуждении уголовного дела, второе – об отказе в возбуждении уголовного дела.
– Ну и отлично. Пусть это будет отказ. Ведь на кого же заводить уголовное дело? Не на кого! Отпишите ей, как положено, на бланке, вот и все. В чем проблема?
– Прежде чем отписать на бланке, как вы говорите, я должен знать, что произошло на самом деле, что вообще происходит в вашей больнице.
– В больнице? А при чем здесь наша больница? Откуда вы знаете, что эта сумасшедшая сбежала именно из нашей больницы? Может, она из Лыткина, из психиатрической? И, кстати, где эта женщина сейчас?
– Лыткинская психушка здесь ни при чем. Лыткино от нас в двадцати километрах. Нет, Амалия Петровна, она сбежала от вас, из вашего отделения.
– Вы не ответили, где она сейчас, – ласково напомнила Зотова.
– Откуда мне знать? – пожал плечами капитан.
Зазвонил телефон. Зотова подняла трубку.
– Да, я слушаю, – почти выкрикнула она и тут же, извинившись перед Савченко, ушла в другую комнату.
Разговор продолжался минуты три, капитан не слышал ни слова. Вернувшись, Амалия Петровна достала из пачки еще одну сигарету. У нее заметно дрожали руки. Глубоко затянувшись, она произнесла:
– Так вы, Константин Сергеевич, хотите знать, что произошло на самом деле? Извольте, я расскажу. К нам на «скорой» доставили беременную женщину с мертвым плодом. Ей срочно нужно было стимулировать родовую деятельность, иначе она могла погибнуть. Но женщина эта из больницы сбежала, без одежды, в больничном белье.
Зотова говорила быстро и резко, с какими-то каркающими интонациями.
– А почему из центра Москвы понадобилось везти ее в наш город? – мрачно спросил Савченко.
– Ну, во-первых, в Москве сейчас закрыта треть роддомов – на ремонт, на дезинфекцию и так далее. В таких случаях обычно везут в специальный роддом, а их вообще мало. У нас хорошие специалисты, с нами связались, места были. Мы – Московская область, а не Владивосток. Так что ничего необычного.
– Но пострадавшая сообщает, что ее усыпили. Это законно?
– У нее началась истерика, когда ей сообщили о смерти плода, пришлось сделать инъекцию успокоительного препарата. Она заснула. Поймите, бывают ситуации, требующие немедленного вмешательства. Здесь была именно такая ситуация.
– А если плод живой? Такое возможно? Ведь женщина пришла в милицию своими ногами и, судя во всему, вовсе не была похожа на умирающую. У нее даже хватило сил написать заявление.
– Ну, в нашем деле тоже возможны ошибки. Однако лучше перестраховаться.
– Хорошо. Женщина из больницы ушла, показав тем самым, что от вашей помощи отказывается. Зачем ее потом искали?
– Никто ее не искал. Мало ли кто и зачем мог зайти в больничный подвал? Санитары, слесари, столяры – кто угодно.
– Да, конечно. Столяры постолярничать зашли. Ночью. Не спалось им, столярам. – Савченко поймал себя на том, что теряет терпение. Ответы Зотовой загоняли капитана в тупик.
Возможно, если бы не тот их разговор двухлетней давности, если бы не странный крутеж иномарок вокруг больницы и, наконец, если бы не эти злосчастные сорок миллионов, переведенные за двадцать месяцев на его отделение, которые он распределял на премии и отпускные своим ребятам, самого себя, конечно, тоже не обижая, – если бы не все это, он бы махнул рукой и обошелся официальной отпиской. Но было и еще одно обстоятельство. Полянская Е. Н. – не домохозяйка, не ларечница. Она журналистка, работает в известном журнале. А если она обратится к кому-нибудь еще? Если начнут копать? Что могут накопать на вверенной ему территории – один Бог знает. Ну, и Зотова, конечно, тоже знает, и эти, на иномарках… Только он, лопух, в счастливом неведении.
Да, в том, что неведение это – счастливое, капитан уже не сомневался. Однако кушал же он их подачки, да не один, а всем отделением. Так кушал, что морда теперь в дерьме.
– Я сварю еще кофе. Или, может, коньячку? – услышал капитан голос Зотовой.
– Спасибо, Амалия Петровна, не откажусь. Кофе у вас отличный. А вот коньячку не надо.
Оставшись один, капитан принял решение и, когда Зотова вернулась с подносом, сказал:
– Давайте, Амалия Петровна, так договоримся. Будем считать, что по заявлению я все проверил. Ваших слов достаточно. Вы в своей области специалист. А вот с теми двумя ставками надо кончать. Непорядок получается. Нехорошо. Конечно, моим ребятам премии не мешают, но дело это скользкое.
– Деньги эти не мешали не только вашим ребятам, но и вам лично, дорогой вы мой Константин Сергеевич. Так ведь? Что же сейчас, государство больше платить стало? Два года брали, не брезговали, а теперь испугались. Я же вам объяснила, бояться совершенно нечего. Все законно.
Савченко почувствовал, как кровь приливает к лицу. Он встал.
– В общем так, Амалия Петровна. Мы с вами все выяснили. Будем считать разговор оконченным. Денег больше не переводите. – Он развернулся и направился к двери.
– Постойте, Константин Сергеевич. Вы кофе не допили. – Зотова встала и взяла его за локоть. – Вы хотели узнать, что в больнице происходит. Извольте, я расскажу.
Капитан осторожно убрал ее руку.
– А что, собственно, может происходить в больнице? Людей лечат. Я в медицине не разбираюсь. Всего доброго.
– Значит, все-таки боитесь, – сочувственно покачала головой Зотова. – И правильно делаете, – добавила она чуть слышно и открыла входную дверь. – До свидания, Константин Сергеевич. Спасибо, что зашли. Очень была вам рада. Навещайте меня, старуху, иногда. Большой привет Маше, Ванечке и всей вашей семье.
Глава пятая
Редакция журнала «Смарт» занимала два этажа в многоэтажном здании на Хуторской улице, за Савеловским вокзалом. Еще совсем недавно этот огромный стеклянный урод, подрагивающий от проезжающих прямо под ним электричек, был безраздельной вотчиной ЦК ВЛКСМ, частью издательского комплекса «Молодая гвардия». Каждый этаж был занят молодежным журналом – от «Молодого коммуниста» до «Юного натуралиста».
Двадцатиэтажный, насквозь прозрачный журналистский муравейник одним боком выходил на Савеловскую железную дорогу, а тремя другими – на какие-то склады, казармы и гаражи. В здании было четыре лифта, часто ломались все одновременно.
В конце восьмидесятых некоторые редакции стали сдавать часть своих кабинетов в аренду разным новым изданиям. Постепенно комсомольско-молодежные журналы переставали существовать, на какое-то время их вытеснила порнография, но и она скоро прискучила свободному рынку – все хорошо в меру.
В итоге получилась каша из разных изданий, процветающих и нищих, солидных и непристойных, фашистских и православных. Одни этажи заполнились компьютерами, шикарной офисной мебелью, длинноногими секретаршами. На других был разор и запустение, старые матерые журналисты пили водку, курили дешевые сигареты и готовы были ухватиться за любую, самую паскудную работенку, лишь бы деньги платили.
Для Лены Полянской этот стеклянный урод был родным домом. Здесь она проходила практику, когда училась в университете, здесь во многих журналах печатала свои статьи и очерки. На каждом этаже у нее были знакомые, приятели, друзья.
Два этажа, занятые редакцией журнала «Смарт», были самыми шикарными во всем здании. Комсомольский дух прежних обитателей выветрился совершенно, и пахло теперь как в богатом капиталистическом офисе – гигиеническим парфюмом, кондиционированным озоном, дорогой туалетной водой.
Тихонько стрекотали компьютеры, мягко и мелодично позванивали телефоны, сотрудники бесшумно проплывали по пушистым коврам – все в дорогих строгих костюмах, а если кто изредка и появлялся в джинсах, то это были настоящие, тоже очень дорогие джинсы.
Лена открыла кабинет, сняла пальто, размотала шарф. Распустив еще влажные волосы, она причесалась перед зеркалом и, вглядываясь в свое отражение, заметила, как осунулось за эту ночь лицо. Она не только не спала, но и не ела ничего со вчерашнего дня.
Буфеты на первом и двадцатом этажах были еще закрыты, да и еда там довольно поганая. Но у секретарши главного редактора всегда имелся отличный чай и всякие валютные деликатесы в холодильнике.
Причесавшись, приведя себя в порядок, Лена набрала по внутреннему телефону номер секретарши.
– Катюш, доброе утро.
– Ой, Леночка, ты чего так рано? Ты же предупредила, что будешь после двух.
– Ну, так получилось. Я к тебе зайду чайку попить?
– Конечно, заходи, сейчас поставлю.
Когда Лена вошла в приемную, секретарша Катя, сочная двадцатипятилетняя блондинка, заваривала чай. На журнальном столике стояла тарелка с бутербродами.
– Я тоже позавтракать не успела, – сообщила Катя, – хочешь йогурт? У меня их полный холодильник. Главный стаканчиков пять в день съедает, а я их терпеть не могу. Мне бы только колбаски, рыбки солененькой, а все это кисломолочное – фу! С того и толстею, что жирное-соленое люблю.
– Ничего, тебе идет, – утешила Лена, с удовольствием отправляя в род ложку сливочного йогурта, – женщина вообще должна быть в теле.
– Ага, тебе хорошо говорить. Сколько тебя знаю, ты всегда худенькая. Даже сейчас ни грамма лишнего не прибавила, только животик выпирает. А я, если, не дай Бог, забеременею, вообще жиртрестом стану.
Зазвонил телефон. Дожевывая кусок сырокопченой колбасы, Катя взяла трубку.
– Редакция журнала «Смарт». Приемная главного редактора.
– Здрасте, девушка, – услышала она высокий мужской голос, – у вас работает Полянская Елена Николаевна?
– А с кем я говорю? – спросила Катя.
Секунду в трубке молчали, потом произнесли:
– Руководитель оздоровительного центра «Аист». Она к нам на занятия будет ходить или нет? А то записалась, деньги заплатила и не ходит.
– Минуточку, – Катя прикрыла ладонью трубку и прошептала: – Лен, ты знаешь, что такое оздоровительный центр «Аист»? Про тебя спрашивают.
Лена взяла трубку.
– Полянская слушает.
Трубка молчала и дышала.
– Ну, что, – вздохнула Лена, – будем говорить или помолчим?
Ответом были частые гудки.
Повесив трубку, она отхлебнула чаю и поймала удивленный взгляд Кати.
– Лен, это кто? – спросила та почему-то шепотом.
– Так, ерунда. Даже говорить не хочу.
– А если опять позвонят?
– Посылай как можно дальше. Не стесняйся в выражениях, – посоветовала Лена.
Вернувшись в свой кабинет, Лена принялась разбирать новые рукописи и наткнулась на пакет из Вашингтона. Это был рассказ известной американской писательницы Джозефины Уордстар, который Лена давно ждала. С этой семидесятилетней американкой она познакомилась пять лет назад, во время своей первой поездки в США, и с тех пор часто обменивалась с ней письмами.
Два-три романа Джозефины были опубликованы в России самым безобразным пиратским способом, с безграмотным анонимным переводом и полным нарушением авторских прав. Возмущению Джози не было границ, она даже послала одного из своих адвокатов в Россию, но судиться оказалось не с кем: пиратское издательство бесследно испарилось.
Понадобилось много времени, чтобы уговорить Джози прислать какой-нибудь рассказ в «Смарт», и вот наконец она решилась, сопроводив рукопись длинным письмом, адресованным Лене лично.
В письме она подробно рассказывала о трагической гибели своей сиамской кошечки Линды, о скандальном разводе своего старшего сына Джеймса и балетных успехах двадцатилетней внучки Сары, а в конце просила Лену перевести рассказ лично, не отдавать никаким переводчикам.
Лена с удовольствием углубилась в добротную, уютную англоязычную прозу. Рассказ назывался «Sweet heart», что на русский можно перевести как «Лапушка», и начинался словами: «It’s enough for me!» – «С меня довольно!»
«С меня довольно! – подумала Лена, – они мне надоели. Я не собираюсь играть в эти бандитские игры…»
В рассказе герой спрашивал героиню: «И что ты собираешься делать дальше?»
«Жить, – отвечала героиня Сюзи, – жить и ждать своих маленьких радостей…»
В коридоре послышались голоса, захлопали двери. Начинался рабочий день. В кабинет вошел младший редактор, двадцатитрехлетний оболтус Гоша Галицын. Он только недавно закончил Институт иностранных языков, «родимый малинник», как он выражался.
В «Смарт» Гошу взяли работать потому, что он был сыном главного редактора, и отец предпочитал держать непутевое чадо у себя под крылышком, хотя американской стороной такие вещи не одобрялись.
Целыми днями Гоша играл в компьютерные игры, слонялся по коридорам и распивал чаи с секретаршами на всех этажах. Когда он только начинал работать, Лена попыталась загрузить его переводами и редактурой, как просил ее Галицын-старший, но недели через две поняла, что лучше Гоше вообще ничего не делать – ущерба меньше.
– Видишь, Ленка, как я хреново работаю, – весело говорил он, – я ведь хотел быть рок-музыкантом, ударником. Я, кстати, классный ударник. У нас группа была – полный отпад. «Мавзолей» называлась. Ты, может, слышала? Нет? Ну, не важно, ты – другое поколение. От нас вся Москва тащилась, и Питер тоже. Конечно, иногда мы под кайфом работали, без этого нельзя. А как предки увидели мои вены…
Ух, что было! Папашка озверел, даже хотел меня в армию сдать. Но вовремя очухался, отмазал. Просто испугался – вдруг в Чечню пошлют? Я же у них единственный. Устроил он меня в этот гребаный иняз, а там – одни бабы! И пять лет меня то отец, то мать на машине в институт возили, из института забирали, дома на десять замков запирали.
– Что же ты дальше делать собираешься? – спросила его тогда Лена.
– Не знаю. Перекантуюсь как-нибудь. Я еще не определился. Ты же папашке не стукнешь, что я не работаю, а дурака валяю?
Лена чувствовала себя неловко. Вообще-то, конечно, надо было бы хоть намекнуть Александру Викторовичу Галицыну, что его сын не хочет и не может работать младшим редактором, но, с другой стороны, «стучать» на Гошу не хотелось. Каждый раз на вопрос Галицына-старшего: «Ну, как мой Егор?» – Лена уклончиво отвечала: «Ничего, справляется».
– Привет, начальница! – сказал Гоша и плюхнулся в вертящееся кресло напротив Лены. – Все работаем?
– Привет бездельникам! – ответила Лена, не отрывая глаз от рукописи.
Насвистывая какой-то залихватский мотивчик, Гоша завертелся в кресле.
– Эй, Полянская, посмотри же на меня! – воскликнул он. – Я как-никак сегодня первый день за рулем! – Он подбросил на ладони связку ключей. – Слушай, Ленка, такой класс! Я сам отремонтировал старую папашкину «Волгу», она на даче в гараже три года ржавела. А я взялся – и починил. Представляешь? Прямо на ней и приехал.
– Молодец, Гошенька, – улыбнулась Лена, – может, ты автомехаником станешь?
– Может, стану, – Гоша еще разок крутанулся в кресле, – я сейчас ехал – так приятно, такой кайф, будто уже лет десять за рулем. А ведь я в первый раз. Правда, когда здесь, у нас, парковался, чуть в «скорую» не въехал. У нас на стоянке почему-то «скорая» стоит.
– Какая «скорая»? – вздрогнула Лена.
– Обыкновенный «микрик». Я еще удивился, кому это в нашей стекляшке с утра плохо стало. Да, слушай, там внизу, в ларьке, такие классные штуки продают, «кенгуру» называются, чтобы ребенка носить. Ты же у нас в мамы готовишься. Я посмотрел, настоящие, французские, не какой-нибудь Китай или Гонконг. И стоят всего полтинник, пятьдесят тысяч. Ты бы спустилась, посмотрела.
– Да, Гошенька, спасибо, я сейчас спущусь, – тихо сказала Лена.
– Пойдем вместе, – поднялся с кресла Гоша, – я тебе свою тачку покажу.
Они спустились в стеклянный вестибюль первого этажа. В одном из ларьков среди всевозможных «колониальных» товаров были разложены яркие «кенгурушки».
– Я же говорил, класс! Ты какую купишь, голубую или розовую?
– Зеленую, – ответила Лена и посмотрела на улицу. Да, «скорая» была та самая. Номер она разглядеть не могла, но сомневаться не приходилось. Даже силуэт шофера в кабине показался знакомым.
Гоша между тем уже надевал ей на плечи мягкие ремни «кенгурушки» с разноцветными медвежатами на зеленом фоне.
– Слушай, тебе идет, честное слово, очень красиво. А когда ребеночка своего туда посадишь, знаешь, как здорово будет!
Лена машинально расплатилась, сняла с плеч ремни «кенгурушки» и отдала продавщице, которая запаковала покупку в пластиковый мешок.
– На «волжаночку» на мою посмотри! – Гоша потянул Лену за руку к стеклянной стене вестибюля.
В этот момент Лена увидела, как дверца кабины «скорой» открылась и выскочил шофер в кожаной куртке на метровых плечах. Он быстро вошел в дверь. Вязавшая за столиком вахтерша не обратила на него никакого внимания.
Народу в вестибюле было совсем мало, и шофер широким шагом направился к Лене и Гоше.
– Значит, я его все-таки задел. Сейчас он меня долбать будет, – по-кошачьи улыбнулся Гоша. – Он меня, а я его.
Лена стояла неподвижно, прижимая к груди пакет с «кенгурушкой».
– Эй, здесь буфет или столовая есть? – услышала она голос, который, несомненно, был ей знаком.
Выйдя из оцепенения, она резко развернулась и, схватив Гошу за руку, бросилась к лифтам.
– Ты что? – удивился Гоша, когда лифт пополз вверх.
– Сейчас, – прошептала Лена, – сейчас, Гошенька, я тебе все объясню…
Шофер несколько секунд недоуменно глядел вслед убежавшей парочке.
«Так ведь это пацан из „Волги“, он в нас чуть не въехал. Надо было разобраться. Да ладно, хрен с ним, с сосунком», – подумал он.
Оглянувшись, шофер увидел, как по вестибюлю к нему, прихрамывая, направляется Колян.
– Слышь, это она была. Точно она. Я по фотографии узнал!
– Ну, конечно, она теперь тебе везде мерещиться будет. Прямо так, издалека, сквозь стекло, ты ее и разглядел.
– Я бы ее сквозь глухую стенку разглядел, – рявкнул Колян.
– Ты Ржавому сказал?
– Сказал.
– И что?
– А ничего. Ты иди спокойно, пожрать купи. Будем сидеть, ждать, как и собирались. А выйдет – уж не пропустим.
– А если она нас узнала и пойдет через другой выход? – засомневался шофер.
– Совсем офигел? Она ж нас не видела никогда! А через другой выход ей все равно придется мимо стоянки топать. Ржавый уже все здесь обошел. А рванула не она, а пацан. Я его тоже узнал. Он в «Волге» сидел. Увидел тебя, испугался, что ты ему иск предъявишь.
Ларечница объяснила, как найти буфет. Работал только тот, что на двадцатом этаже. Шофер вызвал лифт, а Колян заковылял назад, к машине. Нога, перетянутая тугим жгутом, уже не болела, но противно ныла. Слава Богу, только растяжение, нет перелома. Но тоже приятного мало, при его-то работе. А тут еще этот гад Ржавый улегся в кузове на носилки и храпит. Ему, Коляну, сейчас бы полежать как раненому. Но у них, блатных, свои законы. А Колян – не блатной, так, приблатненный, для Водилы и Ржавого почти что фраер ушастый. Кто же ему, лопуху, полежать даст? И зачем он с ними связался?
Покряхтывая, Колян влез в машину. Нога заныла сильней.
«Это ж надо, – подумал он, – ладно бы – серьезное дело было, а то гоняемся втроем за беременной бабой».
Гоша выбежал из подъезда, вскочив в машину, завел мотор. Ему нужно было быстро миновать переполненную стоянку, обогнуть здание и подъехать к выходу из типографии, который находился с противоположной стороны. Ловко проскальзывая между машинами, он заметил, что из кабины «скорой» на него глядит совершенно бандитская рожа.
У выхода из типографии он притормозил, и Лена села на заднее сиденье. Для того чтобы попасть на магистраль, нужно было опять проехать стоянку. Но путь успел перегородить грузовик, который тяжело разворачивался, выезжая из ворот склада. На этом они потеряли несколько минут, а когда наконец смогли проехать, Водила уже подходил к «скорой» с пакетом бутербродов.
– Давай за «Волгой»! – крикнул Колян.
Гоша проскочил железнодорожный переезд под опускающимся шлагбаумом под гудок электрички. «Скорая» не успела. Сразу за электричкой, по соседнему пути, не спеша шел бесконечный товарняк.
– Все, Лена! Оторвались мы от них. Видишь, как просто! Ну, куда поедем? – развеселился Гоша.
– К американскому посольству.
– Далеко удираешь. Слушай, а что им все-таки от тебя нужно?
– Выясню – расскажу.
– Как собираешься выяснять?
– Понятия не имею.
– Слушай, Лен, я вспомнил. У папашки знакомый «важняк» есть, ну, следователь по особо важным делам. На Петровке работает. Кротов Сергей Сергеевич. Мы с ним лет сто назад вместе отдыхали, в Ялте, предки тогда еще о Канарах и не помышляли… Так вот, у папашки, ты ведь знаешь, разряд по шахматам. У Кротова тоже. На этом они и сошлись. Потом еще несколько раз в Москве встречались, он к нам в гости приходил с женой. Жена у него – балерина, красивая, но стервозная. Кажется, у меня в записной книжке был его телефон.
Они остановились у светофора, и Гоша быстро перелистал маленькую, потрепанную книжечку.
– Вот. Нашел, – он протянул книжечку Лене, – перепиши. Позвони прямо сегодня, сошлись на папашку. А можешь и на меня.
Загорелся зеленый, но, проехав несколько десятков метров, они застряли в безнадежной пробке на пересечении Новослободской и Садового кольца.
– Ну все. Это на полчаса, – заверил Гоша. – А что у тебя за дела в посольстве?
– Паспорт надо забрать, с визой. Меня опять Колумбийский университет пригласил.
– Везет тебе, Елена Николаевна, – вздохнул Гоша, – ты который раз в Штаты летишь?
– Третий, – ответила Лена.
Сквозь заднее стекло она всматривалась в гудящее стадо застрявших в пробке машин.
– Да не нервничай ты, нету их, они нас потеряли, – успокоил ее Гоша, – расскажи мне лучше, какое у тебя было первое самое сильное впечатление от Нью-Йорка?
– Гошенька, прости, не могу я сейчас ничего рассказывать. Давай потом как-нибудь, ладно?
– Ладно. Только не забудь, обязательно расскажи – именно про первое впечатление. Слушай, а ты к лекциям готовишься или так, импровизируешь?
– Готовлюсь, конечно. Только получается потом сплошная импровизация. Им так интересней. Потому, наверное, и приглашают в третий раз.
– И когда летишь?
– Через неделю. Честно говоря, я хотела отказаться. Мне с моим пузом трудно читать лекции – соображаю медленно, устаю быстро. А там – сплошное общение, с утра до вечера. Теперь, конечно, полечу. Чем дальше от этих бандитов, тем лучше. Может, пока меня не будет, все и уляжется.
– Может, и уляжется, – задумчиво произнес Гоша, глядя в зеркало. Среди машин он заметил «скорую», которая умудрилась каким-то чудом прорваться сквозь пробку и стояла совсем близко.
– Лен, ты только не волнуйся. Там «скорая» сзади, справа. Может, не они? Мало ли в Москве «скорых»?
– Они, – сказала Лена, быстро взглянув туда, куда указывал Гоша. – Сейчас из пробки выйдем, оторвемся.
– Нет. Я сейчас быстро выйду и сяду в троллейбус. А тебе, Гошенька, в это дерьмо лучше не лезть.
– И не думай. Здесь нельзя выходить. Сиди спокойно, оторвемся. А куда мне лезть, я сам уж как-нибудь разберусь.
Но Лена уже захлопнула заднюю дверцу снаружи.
Колян увидел, как она пробегает между машинами к тротуару. Он обернулся и крикнул Ржавому:
– Быстро вылезай и за ней! Опять уйдет!
Ржавому, конечно, не нравилось, что фраерок командует, но он сам понимал – бежать придется ему. Колян хромой, Водила за рулем.
Лена стояла на троллейбусной остановке в небольшой толпе и не отрываясь смотрела на перекресток, на «скорую». Она увидела, как из кузова выскочил человек и рванул к остановке.
Подъехал троллейбус. Человек бежал изо всех сил. Сквозь гудки и рев машин раздался оглушительный милицейский свист. Наперерез Ржавому быстрым шагом шел постовой милиционер. Но в последний момент Ржавый успел впрыгнуть в закрывающуюся дверь.
Троллейбус полз по Садовому кольцу. «Скорая» легко догнала его и ехала следом. А на небольшом расстоянии от «скорой» двигалась Гошина «Волга». Гоша хотел помочь Лене Полянской. И еще хотел приключений.
Получив в американском посольстве паспорт с визой, Лена вышла на Садовое кольцо и огляделась. Бандита, который успел вскочить в троллейбус, поблизости не было. Не было и «скорой». Зато она сразу заметила «Волгу».
Гоша широко улыбнулся, когда она открыла дверцу.
– Все, Ленка, уехали они. Этот, который за тобой рванул, крутился здесь еще минут двадцать, потом поговорил по сотовому телефону, сел в «скорую», и они все вместе куда-то укатили.
– Ну зачем ты влезаешь в это дело? – спросила Лена, усаживаясь рядом с Гошей.
– А мне интересно! Куда поедем?
– На Пресню. Шмитовский проезд знаешь?
В добротном довоенном доме на Шмитовском жила тетка Лены, старшая сестра ее матери, Зоя Генриховна Васнецова.
Маму свою Лена не помнила, знала только по фотографиям и с детства пыталась поймать в лице тети Зои что-то такое, что помогло бы представить маму живой. Но отец говорил – сестры не были похожи ни капли. Младшая, Елизавета, была маленькая, худенькая, нежная – девочка-мотылек. И на свои любимые горные вершины она взлетала легко, как мотылек, и всю свою короткую двадцатипятилетнюю жизнь прожила легко и радостно.
Зоя была старше на десять лет. Крупная, монументальная, она шла по жизни тяжелым, мужским шагом и, маршируя по-солдатски, поднималась к другим вершинам – вершинам партийной карьеры.
Жесткость и непоколебимость, отпущенные на двоих сестер, достались старшей Зое, а на долю младшей, Лизы, выпали легкомыслие и женственность, которых с лихвой хватило бы на обеих.
Всю жизнь Зоя Генриховна проработала в Краснопресненском райкоме партии, дошла до должности первого секретаря, но тут как раз партии не стало. Не стало и мужа Зои Генриховны, Василия Васнецова, начальника отдела кадров крупного московского завода. Детей не было, и Зоя осталась одна в трехкомнатной квартире. Единственное, что волновало и радовало ее, – это бурная общественная деятельность. Она вмешивалась в жизнь улицы, делала замечания дворникам и ларечникам, доводила до исступления продавщиц в молочном магазине, могла, как мальчишку, отчитать какого-нибудь гориллоподобного охранника коммерческого банка или ночного клуба, к которому нормальный человек и подойти-то боится; могла даже ворваться в банк или казино и устроить скандал из-за того, что машины на их стоянке перегородили тротуар, или из-за снятой со свежеотремонтированного фасада мемориальной доски, гласившей: «В этом доме с 1920 по 1921 год жил революционер Пупкин».
Кроме того, у нее хватало энергии кричать на коммунистических митингах, бесплатно, на общественных началах, распространять коммунистические газеты и вести активную работу в совете ветеранов при жэке. В результате всего этого Зоя Генриховна постепенно превратилась из статной, властной красавицы в склочную, неопрятную старуху, почти что районную сумасшедшую.
Лена любила тетю Зою, кроме нее, родных не осталось. А сиротой быть грустно, даже когда тебе тридцать пять. Она приносила тетушке сумки с продуктами, покупала одежду, наводила порядок в запущенной квартире.
Тетин телефон Лена знала наизусть, а потому ей казалось, что в записной книжке его нет…
Глава шестая
Валя Щербакова задремала в ординаторской. Она дежурила вторую ночь подряд и очень устала. Ей приснился кошмарный сон, будто Симаков кладет подушку на новорожденного ребенка и душит его. Валя проснулась от собственного крика. Над ней стояла медсестра Оксана.
– Эй, ты чего орешь? Давай поднимайся. Там роженицу привезли.
– Какую роженицу?
– Обыкновенную. Срочные роды. Иди мой руки. Сейчас принимать будем.
– Что – мы с тобой? Вдвоем? – испугалась Валя.
– А кто же? Симаков вчера ночью уволился, ты же знаешь. Поругался с Зотовой, написал заявление об уходе. Они из-за той, вчерашней, поругались, которая сбежала.
– А ее так и не нашли?
– Нет, не нашли. Все, хватит болтать.
В предродовой на койке сидела девчонка лет восемнадцати и поскуливала жалобно, как щенок. По бледному, совсем детскому лицу стекали капли пота.
– Давай, Валюха, мерь ей давление, а я посмотрю раскрытие, – распорядилась Оксана и тут же ударила себя по лбу: – Ой, подожди у меня же там чайник включен! Я сейчас.
Валя выбежала за ней в коридор и шепотом спросила:
– Мы что, правда вдвоем будем принимать?
– Да, подруга, вдвоем, – Оксана похлопала ее по плечу, – в нашем отделении сейчас ни одного врача.
– А педиатр? Вдруг с ребеночком что не так? – испугалась Валя.
– Утром будет педиатр, – успокоила ее Оксана и убежала.
Из предродовой послышался громкий вопль:
«Ой, мамочки! Ой, помогите!» Девчонка стояла, держась за живот.
– Ну-ка, ложись! – скомандовала Валя.
– Я вот тут… Я правда нечаянно, простите, – девчонка с ужасом смотрела на прозрачную лужицу у себя под ногами.
– Воды у тебя отошли. Скоро родишь, – утешила Валя.
Как происходят роды, она знала наизусть, но принимать самой ей приходилось впервые. Она ужасно волновалась. «Хорошо, если все пойдет правильно, как в учебнике, а если вдруг какая-нибудь неожиданная патология? Господи, помоги!»
Незаметно перекрестившись, Валя просмотрела карту роженицы. Никаких особенностей там отмечено не было.
– Как тебя зовут? – спросила Валя, измеряя девчонке давление.
Спросила просто так, чтобы отвлечь роженицу разговором. В карте было написано: «Иваненко Надежда Федоровна».
– Надя, – всхлипнув по-детски, ответила роженица. Ей действительно едва исполнилось восемнадцать.
– Кого ждешь?
– Мальчика, – убежденно ответила Надя.
– Значит, будет тебе мальчик, – пообещала Валя и стала объяснять, как надо дышать и расслабляться.
По ее расчетам, оставалось еще минут тридцать. Родовая находилась рядом, но Валя решила на всякий случай прикатить из коридора каталку. Она наслушалась страшных историй о том, как ребенок по дороге в родовую выпадает на кафельный пол и расшибает голову. Так зачем рисковать? Ведь совсем не трудно отвезти роженицу на каталке, тем более ей самой идти тяжело.
Оксаны все не было. Выглянув в окно в коридоре, Валя увидела у освещенных ворот медсестру в одном халатике: та курила и весело болтала с охранниками.
Встав на подоконник, Валя крикнула в открытую форточку:
– Оксана! Ты что?!
– Ну иду, иду. – Оксана, не торопясь, покуривая на ходу, зашагала к больнице.
Вернувшись в палату, Валя решила на всякий случай посмотреть роженицу, которая уже просто захлебывалась криком. А посмотрев, тихо ойкнула.
– Давай-ка, Надюша, перебирайся на каталочку. Рожать поедем.
В этот момент вошла Оксана, румяная и улыбающаяся.
– Валь, ну ты чего? Еще часа полтора осталось по моим расчетам… – Она сладко зевнула и потянулась.
– Не знаю, как ты там рассчитывала, но уже головка врезалась. – Валя помогла роженице перелечь на каталку.
– Да? Ну ладно, – пожала плечами Оксана. – Рановато что-то. Слушай, а зачем ее с такими почестями, на каталке? Ишь, королева! Сама дойдет! Ну-ка давай, женщина, своими ножками, – скомандовала она, – и орать кончай.
– Ты, Оксаночка, лучше приготовь детский набор. Я сама ее довезу.
– Надо же, какие нежности! – фыркнула Оксана.
Родившийся через двадцать минут мальчик, пухлый, розовый, пописал прямо на Валин халат. Глядя на новорожденного и на его блаженно улыбающуюся восемнадцатилетнюю маму, Валя чуть не заплакала. Это был первый принятый ею, Валей Щербаковой, малыш, и все прошло отлично, как по учебнику.
До конца ночного дежурства оставался час.
– Валь, я пойду домой, ладно? – Оксана зевнула во весь рот. – Ты сама все сделаешь, запишешь. Не могу больше, засыпаю.
– Иди уж, – махнула рукой Валя.
Запеленатого, уснувшего наконец малыша она отнесла в палату для новорожденных, уложила в кроватку, постояла несколько минут, любуясь им. Малыш причмокивал и корчил смешные рожицы.
Остальные девять кроваток были пустыми. «Странно, – подумала Валя, – как мало сейчас рожают у нас в Лесногорске. Может, все в Москву едут?»
Она знала, что в этой больнице, в этом отделении, родилась она сама, и почти все ее знакомые, друзья, одноклассники, и те, кто помладше…
«Вот такого же малыша вчера ночью чуть не загубили, – тяжело вздохнула Валя, – наверное, хорошо, что здесь больше почти никто не рожает».
Дома она рухнула в постель и проспала до трех часов дня как убитая, а проснувшись и попив чаю, отправилась в магазин купить какой-нибудь еды к маминому приходу с работы.
Возле универсама Валя встретила своего старого знакомого Митю Круглова. Они выросли в одном дворе, учились в одной школе, только он двумя классами старше. Митя был отличником, не ругался матом, не пил портвейн по подъездам, не нюхал клей и прочую гадость на пустыре за школой. А сейчас вообще стал младшим лейтенантом милиции. Вале он очень нравился, она даже была влюблена в него немножко…
Он шел без формы, в куртке и джинсах, и вел на поводке свою старенькую овчарку Жанну.
– Привет, Валюш! Как дела? – улыбнулся он.
– Спасибо, хорошо. Представляешь, – вдруг неожиданно для себя выпалила Валя, – я сегодня первый раз в жизни сама роды приняла. Ночью.
– Поздравляю. И кто родился?
– Мальчик.
– У тебя сейчас что, практика?
– Да, в нашей больнице, в гинекологии.
– А ты вчера ночью случайно не дежурила?
– Дежурила. Я почти все время ночью.
– К вам женщину ночью на «скорой» привезли. Может, слышала? Полянская Елена Николаевна.
– А ты откуда знаешь? – удивилась Валя.
– Она к нам в отделение рано утром пришла. Босиком, в больничной рубашке… Заявление такое странное написала. Я ее домой на машине отправил.
– Ох, Митенька, это очень неприятная история. – И Валя выложила ему все, что произошло прошлой ночью.
Митя слушал молча, не перебивая, потом спросил:
– Может, это просто случайность? Какая-нибудь ошибка медицинская? Не верится, что нарочно… Кому это надо и зачем?
– Вот и я все голову ломаю, – призналась Валя. – Кому и зачем?
– Если я тебя правильно понял, препарата у вас для меня до сих пор нет?
– Ну почему, есть. Это вопрос одного-двух дней.
– Прошло уже больше недели. Ты можешь мне объяснить, в чем проблема?
– Зачем тебе наши производственные тонкости?
– Ваши производственные тонкости мне и правда ни к чему. Мне нужен препарат. А у вас, говнюков, как я понял, все запасы проданы.
В общем, так. Даю тебе еще сутки, и то жирно будет.
Хозяин кабинета, пыхтя, поднял свое болезненно-толстое тело из глубокого кресла. Он был огромен и красен лицом. Фамилия Буряк ему удивительно подходила. Он посмотрел на собеседника сверху вниз.
– Что сидишь? Свободен.
Собеседник, седовласый рекламный красавец, ослепительно улыбнулся. Его звали Вейс. Собственно, это была его фамилия, но все знакомые называли его только так – Вейс, а те, кто знал его в уголовном мире, вообще считали это кличкой.
– Не волнуйся ты так. Ты бы заранее меня предупредил, а то сразу – вынь да положь! У нас же свои технологии, свои сроки, – пытался урезонить толстяка Буряка Вейс.
– Волноваться тебе надо! – выкрикнул Буряк неожиданно высоким фальцетом. – Не предупредили его, бедного! Будто ты не знал, что для меня всегда должен быть запас! Все. Выметайся!
– Нервный ты стал, однако…
Когда за Вейсом почти закрылась дверь, Буряк окликнул его:
– Эй, подожди. Извини, я вспылил.
– Ничего, бывает. Это ты меня извини, – пожал плечами седовласый красавец.
Когда он садился в машину, лицо его все еще было бледно.
– В Лесногорск, – сказал он шоферу и, закрыв глаза, откинулся на мягкую спинку сиденья.
Черный «БМВ» выехал за Кольцевую дорогу, мимо окна замелькали унылые мокрые перелески. Октябрь кончался, листья совсем облетели, было голо и сумрачно. Вейс смотрел на косые, почерневшие от ледяного дождя деревянные избы, серые панельные поселки городского типа. Вдоль шоссе еще кое-где неприятно лоснились кучи подмороженных арбузов, жалкие ошметки ушедшего давным-давно лета.
Он думал о том, как хорошо ехать мимо всего этого в чистой, теплой машине, слушать мягкую, успокаивающую композицию Луи Армстронга и знать, что не замараешь замшевых английских ботинок хлюпающей грязью, что не надо тебе под ледяным дождем ждать автобуса вместе с понурыми бабками, тетками, пьяными и матерящимися мужиками, а потом трястись в этом автобусе, в давке, нюхая испарения тел и слушая бесконечный унылый мат.
Да, у него возникла проблема, случился досадный сбой. Но это даже хорошо. Слишком гладко все шло три года. Отлаженный механизм работал сам и сбоев не давал. В таком тихом омуте обязательно заводятся хитрые черти. Чтобы они не заводились, не подтачивали всю конструкцию изнутри, нужны встряски. Хорошо, когда они такие легкие и неразрушительные, как теперешняя.
Буряк, конечно, подождет, и не сутки, а еще неделю. За это время сырье появится, можно будет заткнуть ему пасть. Но главное сейчас – продумать варианты новых источников самому, не сваливать эту головную боль на старушку Зотову. Ей теоретические построения не по зубам. Она – практик, исполнитель. А он, Вейс, теоретик, руководитель, мозг и сердце всего дела.
Но слегка припугнуть Зотову не мешает. Она и только она виновата в этой дурацкой истории со сбежавшей из больницы бабой. Она относится к беременным женщинам как к покорным, бессмысленным животным, которые слепо повинуются любому слову врача и не способны ничего предпринять самостоятельно. Вейс даже зауважал эту неизвестную женщину, решившуюся сбежать из больницы. Здорово она щелкнула по носу надменную Амалию Петровну. И поделом!
В голове мелькнула фраза, которую он с удовольствием скажет старухе, когда войдет: «Милая моя, мы же с вами не в виварии работаем!»
– Милая моя, мы же с вами не в виварии работаем! – произнес он, переступив порог, и добавил: – Пусть это будет для вас хорошим уроком.
Зотова рассказала ему все подробно, в лицах изложила свой разговор с капитаном Савченко. Она надеялась, что Вейс поймет: в случившемся нет ее вины. Наоборот, она сделала все, что могла. Единственное, о чем Амалия Петровна умолчала, – об увольнении Симакова. Зачем признаваться в еще одной своей ошибке? Зачем знать Вейсу, что она ввела в дело ненадежного человека?
– Трое ваших ребят уже столько времени гоняются по Москве за этой проклятой бабой. У них есть записная книжка, фотография, ключ от квартиры. Но они оказались полными идиотами, – закончила она свой рассказ, и Вейс заметил, что на словах «трое ваших ребят» она сделала особенное ударение.
– А, собственно, что мы будем делать с этой Полянской, когда ребята возьмут ее? – медленно произнес он после того, как Зотова замолчала. – Ведь у нее, как выяснилось, двадцать шесть недель, а для нас крайний срок – двадцать пять. Может ничего не получиться. – Он не спрашивал Амалию Петровну, а рассуждал вслух, но Зотова восприняла сказанное как вопрос и обрадовалась: он с ней советуется как с равной.
– Во-первых, все может получиться. Одна неделя такой уж большой роли не играет. Да и вообще, с точностью до недели срок можно определить далеко не всегда. Возможно, там именно двадцать пятая, мой человек в консультации, который делал УЗИ, – опытный врач. Во-вторых, я считаю, с этой бабой надо обязательно что-то делать. Ее в любом случае необходимо обезвредить. Она журналистка, у нее могут быть серьезные связи. Заявление в милицию она уже написала, может обратиться куда-нибудь еще.
– Ну и что? Пусть обращается! Мне кажется, Амалия Петровна, вы подменяете реальную проблему мифической. Реальная проблема – достать сырье. От кого вы его получите – от этой ли женщины, или от любой другой, меня не волнует. Что, на всю Москву и Московскую область единственная беременная на нужном сроке?
– Получилось так, что пока в нашем распоряжении оказалась одна-единственная. И она сбежала. Вы же не можете организовать охоту на всех беременных Москвы и Московской области! Просто не надо было пускать в производство весь резерв.
Неожиданно для себя Зотова заговорила так, как никогда себе не позволяла и не должна была позволять ни в коем случае…
Лена открыла дверь своим ключом, и навстречу ей с запоздалым лаем приковыляла старая такса Пиня. Пес пытался подпрыгнуть, чтобы лизнуть гостью, но не сумел и закрутился неуклюжим волчком, изо всех сил выражая свою собачью радость.
– Ну, здравствуй, Пинюша, здравствуй, мальчик! – Лена погладила таксу, пес лизнул ее руку.
От былой роскоши трехкомнатной васнецовской квартиры не осталось и следа. Ремонт здесь в последний раз делали лет двадцать назад. Обои кое-где отставали от стен, штукатурка на потолке облупилась. На кухне еще стоял старинный, прошлого века, красавец буфет, но вся остальная мебель была образца шестидесятых – тонконогая, шаткая, геометрически безобразная.
После смерти мужа у Зои Генриховны появилась странная страсть – продавать все более или менее ценное, что есть в доме. Она относила в скупку старинное столовое серебро, фарфор, картины, драгоценные украшения. И все это уходило за бесценок.
Сначала Лена пыталась как-то остановить тетушку. Она зарабатывала вполне достаточно, чтобы прокормить и себя, и старушку. Да и пенсия у Зои Генриховны была не такая уж маленькая.
Но ярая коммунистка продавала вещи из принципа. «Надо избавляться от всего этого пошлого мещанства!» – восклицала она. И тут Лена была бессильна.
А уж когда тетя отнесла в скупку обручальные кольца, свое и покойного мужа, Лене стало не по себе. Она стала подозревать, что у тетушки действительно что-то не в порядке с психикой. Если у человека дурной характер, который к старости становится все хуже и хуже, то очень сложно поймать момент, когда он перерастает в душевную болезнь…
Зои Генриховны дома не было. Лена сняла сапоги, прошла на кухню к телефону и набрала номер, только что переписанный у Гоши. Ей повезло. Кротов оказался на месте и сам взял трубку.
– Сергей Сергеевич, здравствуйте. Моя фамилия Полянская. Я работаю в журнале «Смарт». Ваш телефон мне дал Егор Галицын.
– Вы хотите взять у меня интервью? – спросил мягкий, низкий голос.
– Нет. Мне необходимо с вами посоветоваться по личному делу. В общем, даже не совсем личному. Очень срочно.
В прихожей раздались голоса и лай Пини. Один голос принадлежал Зое Генриховне, два других – молодым, сильно поддатым мужичкам. Лена напряглась, и ее собеседник это почувствовал, не стал задавать лишних вопросов, а назначил встречу на сегодня.
Едва Лена успела положить трубку, в кухню влетела тетушка. За ее спиной маячили две испитые веселые рожи.
– Здравствуй, детка, – Зоя Генриховна подставила для поцелуя сухую холодную щеку, – рада тебя видеть. Наконец нашла покупателей. Как хорошо будет без старого дурака, – она шлепнула ладонью по дубовому боку буфета. – Сразу просторно станет на кухне, светло! Ненавижу все эти бордюрчики, завитушки, стеклышки цветные. Так и веет пошлостью.
Лена с грустью наблюдала, как два алкаша, пыжась и краснея, пытаются сдвинуть с места одну из любимых вещей ее детства.
Когда Лена была маленькая и гостила у тети, этот буфет казался ей сказочным замком. За дверцами стояли чашки и банки. Цветные стекла делали их странными, таинственными, похожими на чудовищ, драконов, принцесс и принцев. Она могла часами сидеть на кухне и разглядывать сквозь стекла обитателей буфета, придумывая про них разные истории.
– Тетя Зоя, давай я его лучше к себе заберу!
– Нет, – тетушка была неумолима. – Пусть катится вон! Нечего пыль собирать. Куда ты его поставишь?
– Найду место, это не проблема. Жалко, ведь последняя старинная вещь.
– Вот именно! Нечего жалеть вещи. Они только место занимают и отвлекают от главного.
«От чего – главного?» – хотела спросить Лена, но промолчала. Разговор стал раздражать тетушку, а ссориться с ней Лена не любила.
– Тетя Зоя, я поживу у тебя пару дней. В квартире напротив полы лаком покрыли, у меня от этого запаха голова болит, спать не могу.
– Конечно, детка, живи сколько хочешь, – рассеянно ответила тетушка. Ее внимание уже полностью переключилось на пыхтящих мужичков.
– Что же вы, товарищи грузчики, мало каши ели – даже с места сдвинуть не можете! – произнесла она своим партийным голосом.
– Не можем, бабуль, никак не можем. Вещь старинная, добротная, из цельного дуба. Давай уж завтра утречком, еще ребят приведем. Здесь человека четыре надо, не меньше. Он ведь, подлец, в лифт не влезет, а по лестнице волочь – пупок надорвешь, вдвоем-то.
– Вот народ! – укоризненно покачала головой Зоя Генриховна. – Совсем разучились работать при вашей демократии. Все, товарищи грузчики, до завтра свободны, – распорядилась она.
– Ну, бабуля, а на поллитру?
– На какую такую поллитру? – прищурилась Зоя Генриховна. – За что же это вам давать? Не заработали!
– Идемте, я вас провожу, – кивнула Лена возмущенным грузчикам.
В прихожей она достала из сумочки пятьдесят тысяч.
– Ребята, – сказала она тихо, – не надо завтра приходить. Мы буфет продавать не будем.
– Вот и правильно, – пряча полтинник, заулыбался тот, что потрезвее, – вещь-то хорошая, старинная, а уйдет за гроши. Мы ж заметили, бабулька-то у вас… – Он присвистнул и выразительно покрутил пальцем у виска.
Когда Лена вернулась на кухню, Зоя Генриховна читала газету «Завтра» и что-то подчеркивала красным карандашом, ставила восклицательные и вопросительные знаки на полях, при этом посасывая карамельку.
– На буфетные деньги, – сообщила она, не глядя на Лену, – куплю кроватку и коляску твоему байстрюку. Еще на пеленки останется. И не спорь со мной!
– Я не спорю, – вздохнула Лена. – Откуда у тебя слова такие – байстрюк! Скажи еще – бастард.
– Я еще не то скажу, – пообещала тетушка, – пороть тебя некому. Принесла в подоле – и глазом не моргнет.
– Тетя, мне тридцать пять лет. В каком подоле?
– В таком. И чтобы родила мне мальчика. Поняла? – Это было сказано таким командным тоном, что Лена не выдержала и засмеялась.
– Что смеешься? Мальчика можно в военное училище отдать и жить спокойно – там ему с пути сбиться не дадут. А девчонку куда отдашь? Только замуж. А вырастет такая, как ты, демократка, принесет в подоле, тогда будешь знать!
Глава седьмая
Валя решила немного прогуляться. Спешить было некуда. Сегодня ей опять предстояло ночное дежурство, кусок дня оставался свободным – в институт ехать не надо, спать уже не хочется, а мама вернется с работы не раньше семи.
Выглянуло солнышко, последнее октябрьское солнышко, впереди был пасмурный, холодный ноябрь, самый нелюбимый месяц в году. Именно в ноябре у Вали случались всякие неприятности, именно в ноябре Лесногорск обнажался во всем своем панельном убожестве, не прикрытый ни листвой, ни снегом, и все вокруг становилось мрачным, бессмысленным, безнадежным – но лишь до первого настоящего снега, до первого ясного, морозного декабрьского дня. Тогда и маленький Лесногорск, и весь мир вокруг обретал краски, очертания, смысл… Можно было жить дальше и ждать Нового года.
Возле универмага торговали журналами. На столах, покрытые полиэтиленом, были разложены «Плейбой», «Космополитэн», «Бурда моден». Валя любила и умела вязать, поэтому иногда у журнальных развалов просматривала журналы по вязанию. На этот раз в традиционных «Верене» и «Анне» не было ничего интересного.
– А вот посмотрите «Смарт», – посоветовала озябшая продавщица, – там в конце обязательно есть одна-две модели. И вообще журнал хороший. Там и психология, и кулинария, и косметика. Рассказы бывают отличные.
Прочитав анонс на яркой обложке, Валя нашла на последних страницах две чудесные модели с простыми, но очень красивыми узорами. Как раз такие кофточки ей давно хотелось связать. Она спросила о цене.
– Вообще-то десять, но номер за позапрошлый месяц. Уступлю за семь, – продавщице хотелось продать сегодня хоть что-нибудь. Торговля шла плохо, ноги окоченели, стоять надоело.
Конечно, семь тысяч были для Вали большими деньгами, но она решила сделать себе подарок – за все пережитые волнения, за первые, так счастливо принятые роды.
Дома она уютно устроилась на кухне с чашкой чая, сушками и журналом «Смарт». Просмотрев статьи о мужской психологии, женской привлекательности, о поисках своего стиля в макияже и одежде, Валя углубилась в чтение рассказа Агаты Кристи, который, как сообщалось, публиковался впервые. Проглотив рассказ за полчаса, Валя прочитала в конце: «Перевела с английского Елена Полянская».
Сердце екнуло. «Надо хотя бы вещи ей вернуть, – сказала себе Валя, – ведь как бессовестно все получилось».
На последней странице были напечатаны в столбик названия отделов, фамилии заведующих и телефоны.
«Отдел литературы и искусства, Полянская Елена Николаевна».
Валя тут же сняла трубку и стала по коду дозваниваться в Москву, в редакцию журнала «Смарт». Наконец ей удалось поговорить с секретаршей главного редактора. После этого она оделась и быстро пошла в больницу. До начала дежурства оставалось еще четыре часа, но ей нужно было застать кладовщицу.
Валя очень волновалась – во-первых, потому, что не была уверена, правильно ли поступает, во-вторых, потому, что совершенно не умела врать.
Кладовщица тетя Маня знала Валю с детства, так как дружила с ее бабушкой.
– Здравствуй, Валюшенька, как дела? Чайку налить тебе? – Тетя Маня пила чай из огромной фаянсовой кружки, вкусно похрустывая карамельками.
– Спасибо, тетя Маня, я вообще-то спешу. Больная выписывается, надо вещи забрать. Посмотрите, пожалуйста, Полянская Елена Николаевна, у нас в гинекологии лежала. Я сама ее вещи сдавала под расписку.
Тетя Маня закряхтела, поднимаясь. Ей очень не хотелось прерывать чаепитие.
– Да вы сидите, я сама найду, можно? И потом расписку напишу, – краснея, предложила Валя.
– А, ну ладно, иди, деточка, посмотри сама. Валя сразу нашла светлый плащ, клетчатую шерстяную юбку, белый свитер из альпаки. Еще тогда, ночью, стягивая этот свитер через голову бесчувственной женщины, она обратила внимание, что он связан вручную. «Интересно, – подумала тогда Валя, – она сама вязала?» Женщины, которые сами вязали и шили себе вещи, почему-то сразу вызывали у нее симпатию.
Валя написала расписку и попрощалась с тетей Маней. В пустой ординаторской на первом этаже она заранее оставила большую спортивную сумку. Запершись изнутри, Валя аккуратно упаковала вещи, каждую в отдельный пластиковый пакет, застегнула «молнию» сумки и с независимым видом вышла из больницы.
Завтра, поспав немного после ночного дежурства, она отправится в Москву, в редакцию журнала «Смарт» и отдаст вещи. Тогда совесть ее будет чиста.
Зотова задумчиво листала толстую потрепанную телефонную книжку. Каких телефонов здесь только не было – знаменитых артистов, министров, сотрудников иностранных посольств, известных писателей, композиторов, режиссеров. Впрочем, сейчас все эти имена и телефоны Амалию Петровну не интересовали. Она обращала внимание только на те номера, возле которых стояли имена без фамилий, без отчеств и должностей. Так записывают телефоны не деловых знакомых, а близких людей. А если имя написано в уменьшительно-ласкательной форме, то именно стоящий рядом с ним номер следует набрать в первую очередь.
Метод, конечно, не самый верный. Книжка очень старая, и не исключено, что тот, кто когда-то был записан с отчеством, фамилией и должностью, успел стать близким человеком, но не обзванивать же всех – их около тысячи!
Между тем бесфамильных телефонов оказалось всего-то четыре, не считая тех, возле которых стояли коды других городов, и тех, что были написаны по-английски. Таким образом, круг сужался и задача облегчалась.
Первым был номер некоего Андрюши. Зотова решила начать с него.
К телефону подошел ребенок. Сладчайшим голосом Амалия Петровна произнесла:
– Деточка, позови, пожалуйста, дядю Андрюшу.
– А он уехал в Германию, – удивленно ответил ребенок, – давно, уже год.
– Тогда позови, пожалуйста, тетю Лену.
– Тетя Лена, вас к телефону! – закричал ребенок.
У Зотовой вспотели ладони. Через бесконечные пять минут она услышала шамкающий старческий голос:
– Але, слушаю…
Следующий телефон принадлежал некоей Оле, однако выяснилось, что Оля давно переехала и ее новый телефон неизвестен.
Потом был номер какой-то Регины, но там никто не снимал трубку, и в итоге остался последний – Юрий.
Юрий подошел к телефону сам. У него был приятный хрипловатый баритон.
– Кто вам дал этот телефон? – удивился он после того, как Зотова сообщила, что разыскивает Лену Полянскую.
– Ну, так получилось случайно, – стала мямлить, смутившись, Амалия Петровна, – я – старая знакомая Леночки, мне очень нужно ее найти.
– Ничем не могу вам помочь, – холодно ответил Юрий, – сюда больше не звоните.
Зотова продолжала задумчиво листать телефонную книжку и вдруг на внутренней стороне картонного переплета заметила полустершиеся слова. Приглядевшись, она обнаружила, что писал это кто-то другой, не сама Полянская – ее почерк Амалия Петровна успела изучить.
«Ленуся! Позвони, пожалуйста, тете Зое. Не забудь. У нее день рождения седьмого мая».
Дальше стояла дата десятилетней давности, номер телефона, а под всем этим была нарисована смешная ушастая рожица.
Именно этот номер и набрала Амалия Петровна. Ответил молодой женский голос.
– Деточка, – прошамкала Зотова по-старушечьи, – тетю Зою позови, будь добренька.











