Читать онлайн Всё об Орсинии
- Автор: Урсула Ле Гуин
- Жанр: Историческая фантастика, Зарубежная фантастика, Классика фантастики, Социальная фантастика
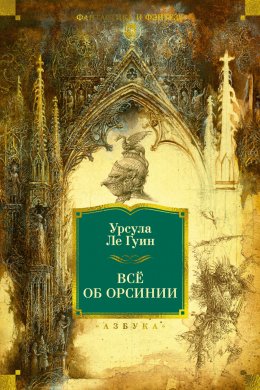
Ursula K. Le Guin
THE COMPLETE ORSINIA
Introduction copyright © 2016 by Ursula K. Le Guin
MALAFRENA copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
“Folk Song from the Montayna Province” copyright © 1959 by Ursula K. Le Guin
“Red Berries (Montayna Province)” copyright © 2016 by Ursula K. Le Guin
“The Walls of Rákava (Polana Province)” copyright © 2016 by Ursula K. Le Guin
ORSINIAN TALES copyright © 1976 by Ursula K. Le Guin
“Two Delays on the Northern Line” copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
“Unlocking the Air” copyright © 1990 by Ursula K. Le Guin
The moral rights of the author have been asserted Published by arrangement with Synopsis Literary Agency and Ginger Clark Literary, LLC
© И. А. Тогоева, перевод, 1997, 2004, 2008
© М. Д. Лахути, перевод, 2025
© Е. М. Доброхотова-Майкова, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Предисловие
Перевод Е. Доброхотовой-Майковой
В старших классах я, как многие американские интеллектуальные дети, чувствовала себя чужаком в чужой стране. Я спасалась в публичной библиотеке Беркли и полжизни проводила в книгах. Не только в американских, но и в английских и французских романах и стихах, в переводных русских романах. Неожиданно очутившись в колледже среди другой чужой страны, на Восточном побережье, я выбрала своей специальностью французскую литературу и продолжала читать европейскую для себя. Париж 1640-го или Москва 1812-го были для меня знакомее и роднее, чем Кембридж, штат Массачусетс, в 1948-м.
Как ни любила я учебу, ее целью было обеспечить себе возможность зарабатывать на жизнь преподаванием, чтобы писать. И я всерьез трудилась над рассказами, но здесь мои европейские предпочтения осложняли дело. Меня не влекли темы и цели современного американского реализма. Я не восхищалась Эрнестом Хемингуэем, Джеймсом Джонсом, Норманом Мейлером и Эдной Фербер. Мне очень нравился Джон Стейнбек, но я понимала, что так писать не могу. В «Нью-Йоркере» я любила Тёрбера, но пропускала Джона О’Хару, чтобы читать англичанку Сильвию Таунсенд Уорнер. Почти все, кому мне хотелось подражать, были из Европы, но я знала, что глупо писать про Европу, где я никогда не бывала.
Наконец я придумала, что сумею обойти это затруднение, если буду писать про ту часть Европы, где не бывал никто, кроме меня.
Я помню, когда мне пришла эта мысль: в Эверетт-Хаусе колледжа Радклифф, в столовой студенческого общежития, где можно было допоздна заниматься и печатать на машинке, не мешая тем, кто уже спит. Мне было двадцать, я около полуночи работала за одним из обеденных столов и вдруг впервые увидела мою страну.
Незначительное государство в Центральной Европе, из тех, которые разгромил Гитлер, а теперь громил Сталин. (Захват Советским Союзом Чехословакии в 1947–1948 гг. был первым событием, пробудившим во мне политические чувства.) Не очень далеко от Чехословакии и Польши, но не будем забивать себе голову границами. Не из частично исламизированных народов, а более ориентированное на Запад… Как Румыния, быть может, с языком, испытавшим славянское влияние, но с латинскими корнями? Да!
Я начинаю чувствовать, что подбираюсь ближе. Начинаю слышать названия. Орсения – на латыни, на английском – Орсиния. Вижу реку Мользен, бегущую по открытой солнечной местности к старой столице, Красною (красный – славянское «красивый). Красной стоит на трех холмах: дворец, университет, собор. Собор Святой Феодоры, вопиюще несвятой святой, имя моей матери… Начинаю осваиваться, чувствовать себя как дома. Орсения, матрия мия, моя родина. Я могу здесь жить и узнавать, кто здесь еще живет и что они делают. Могу рассказывать о них истории.
Так я и поступила.
Первый роман я начала писать на листках маленькой тетрадки в Париже в 1951-м (я наконец-то попала в Европу). Он получился бесстрашным, беззастенчивым и безумным, назывался «Происхождение» и являл собой попытку изложить историю орсинийской семьи с конца пятнадцатого века до начала двадцатого. Я слишком мало знала людей, чтобы написать роман, а знаний европейской истории мне только-только хватило, чтобы поддержать мою вымышленную историю, которая включала Возрождение, Реформацию и возникшую из-за нее гражданскую войну, несколько завоеваний, Австро-Венгерскую империю и парочку революций. Герои были по большей части мужчинами, потому что в начале пятидесятых литература в основном рассказывала о мужчинах, история вся была о мужчинах, и я думала, книги должны быть о мужчинах. Я написала роман как в горячке и отправила Альфреду Кнопфу, а в ответ получила письмо с отказом, где говорилось (если излагать вкратце), что десять лет назад он напечатал бы эту чертову бредятину, но сейчас ему так рисковать не по карману.
Такая формулировка отказа от такого человека – достаточный стимул для начинающего литератора писать дальше. Рукопись я никому больше не посылала. Я знала, что Кнопф прав: это чертова бредятина. У меня было подозрение, что он меня пожалел, поскольку был знаком с моим отцом, но я понимала также, что редакторская строгость ему бы такого не позволила. Книга ему скорее понравилась, он мог бы ее напечатать. Этого было довольно.
Все мои следующие (непроданные) романы были про современную Америку, за исключением одного, действие которого происходило в Орсинии. Я начала его в 1952-м. В разных редакциях он назывался «Малафрена» и «Необходимая страсть». В нем говорилось о европейском поколении, которое достигло совершеннолетия в 1820-х и разбило себе сердце в революциях 1830-го. От первых редакций книги у меня остался лишь второй машинописный экземпляр страницы, помеченной: «Стр. 1 2-й версии». Текст дает представление о стиле черновых версий романа, написанных под влиянием европейской литературы того периода, 1820-х, когда романтизм набирал обороты.
Темные, безмолвные и мрачные, горы вырисовывались на фоне предгрозового вечернего неба. Воды Малафрены под ними волновались, а ветер, дующий с запада, где догорал закат, смешивал протяжный рев соснового леса с голосом озера в его каменных берегах. Гроза и тьма быстро собирались над озером, лес клонился на усиливающемся ветру, но выше, под бегущими облаками, горы все так же взирали на равнины и дальние края, равнодушные к смятению озера и небес.
Огоньки немногочисленных домов на восточном берегу Малафрены горели ярко и немного мерцали, как планета, которая порой проглядывала над склоном западного пика и тут же пропадала за облаками; ветер уже нес в себе обещание дождя. Человек, который одиноко стоял на берегу, наблюдая, как поднимается буря, а горы окутываются тьмой, почувствовал на лице первые капли и вскинул голову. Он поднял воротник, чуть ссутулился от ветра и двинулся по берегу к дому, стоящему почти над озером, на длинном узком склоне, который сбегал с горы и коротким полуостровом вдавался в озеро. Некоторые окна горели, их желтоватый свет озарял сад, где деревья и […]
Рукопись не «умерла» (как «Происхождение» и другие непроданные романы). Она пережила несколько долгих периодов безмолвия и темноты, но оставалась близка моему сердцу. Я думала о ней, бралась за нее, потом вновь откладывала. Я переписала ее. Я снова переписала ее в 1961-м. В семидесятых, когда моя лучшая подруга умирала от рака, я в подавленном состоянии вернулась к книге и задумалась, могу ли ее переписать. Тремя годами позже, в 1978-м, в таком же подавленном состоянии из-за болезни матери, я вернулась к этой мысли. Думая, что, возможно, уже заработала писательскую репутацию и могу предложить издателям серьезный исторический роман, действие которого разворачивается в несуществующей стране, я показала рукопись моему агенту, бесстрашной Вирджинии Кидд. Она сказала, что попытаться стоит. Я переписала книгу.
Вот отрывки из моего дневника, написанные во время работы над черновиками.
(2 февр. 1975): Перечитываю «Необходимую страсть» впервые за пять лет. Я занималась ею в 69-м, согласно пометке, – значит прошло уже шесть лет. Меня поразили несколько вещей. Во-первых, насколько молоды главные герои! Теперь я так не смогу. Пьера хороша, хотя финал и ее в нем роль слабоваты. Лаура тоже хороша – самая автобиографичная из моих героинь. Толстовские кусочки – особенно один – чистое подражание, но влияние Лоуренса поверхностно, и от него можно избавиться: я писала по опыту! Только надо было стараться еще больше! Самое странное – что это «Обделенные» [опубликованные в предыдущем, 1974 г. ] в куда большей мере, чем я осознавала, работая над ними. Не только герой и ситуация сходны, но и слова: «Настоящее паломничество – это возвращение домой», «Настоящее путешествие – это возвращение» и так далее. У меня нет разнообразия идей – у меня ОДНА идея. И еще кусок про путь в Радико. Откуда я знала тогда, в 1951-м, что буду чувствовать сейчас? Во мне есть Амадей, а я отвернулась от него, а он терпеливо ждал. Самоубийство, разумеется, символическое, то есть не полная, телесная смерть: частичная смерть. Я видела это тогда, видела дорогу и заброшенную башню. «Я обернулся, не ведая, не рухнет ли она». [Строчка из стихотворения в книге] «Дикие ангелы»[1]; сегодня я держала в руках первый переплетенный экземпляр, который принес Боб Дюран.
Я трудилась над этой книгой, как только умею, фразы из нее часто повторяются у меня в голове: что-то я в ней сказала правильно. Она до сих пор меня не отпускает, и мне больно, что я не вижу способа оживить ее и напечатать. Наверное, можно еще раз ее переделать, но это исключительно опасно – отступить, не reculer pour mieux sauter…[2] И даже если у меня получится, кому нужен подлинный роман XIX века, написанный в третьей четверти двадцатого? Теперь это уж в двух смыслах исторический роман. Но черт побери, там есть удачные места, он намного лучше моих трех первых фантастических романов – более зрелый, более широкий, несмотря на слабости и дурноты. Я была на верной дороге, когда его писала. Это лучше «Обделенных» в одном: здесь больше юмора и разнообразия персонажей. Даже старый Атро и его отношения с Шевеком предвосхищаются/повторяются (там, откуда берутся романы, нет До и После) старым Геллескаром и его отношениями с Итале. Работая над «Обд.», я об этом не подозревала – вообще не вспомнила Геллескара. Столько всего я предвосхитила/повторила! Неудивительно, что измерение Времени во второй книге пожелало стать таким важным! Я здесь, я была здесь, я была здесь всегда. Трижды или четырежды в НС у людей случаются дежавю, либо они испытывают чувство «Я был здесь всегда». Да, я была. И остаюсь.
(12 II 75): Итале, дорогой, ты говоришь делать насущное, необходимое, то, что следует делать дальше, и отмахиваться от всего несущественного, пустякового, в котором легко увязнуть. Как мне отличить одно от другого? Мне точно нужно сложить постиранную одежду. В комнате я приберусь, да, возможно. Ответить на все письма? И если нет, то на какие? Колодец, говорит мне И цзин, нужно переложить. Путь, говорю я себе, нужно отыскать заново. Я оставила тебя в Малафрене примерно в том же состоянии много лет назад.
Интересно, что ты делал в 1848-м.
(16 окт. 1978): Я днем и ночью переписываю НС, начиная с части второй. У меня нет твердого убеждения, что это хорошее дело, правильное дело – необходимое дело, пользуясь словами Итале. В лучшем случае это будет старая овца в новой волчьей шкуре, если я вообще сумею закончить эту работу. Но мне кажется, я себя вынудила [, обсудив возможность продажи такого романа с моим агентом Вирджинией Кидд, которая меня обнадежила]. Что ж, надо покончить с той частью моей жизни, которой положила начало НС, и тем открыть дверь в следующую, пока неведомую и невообразимую часть, поскольку всё со всех сторон говорит мне, когда мне хватает мужества слушать: «Ты должна начать заново, ты должна начать сначала…» И накануне своего сорокадевятилетия в следующую субботу я знаю про мою работу не больше, чем знала в девять.
(26 окт. 78): Изабер все-таки прыгнул с башни.
Мне часто не хватает смелости моих интуиций.
Интересно, когда фраза или сцена застревает в голове, значит ли это, что в ней что-то неправильно?
(30 окт. 78): Луиза ухаживала за матерью; она не может ухаживать за Итале из-за сексуального отвращения. Именно она отсылает Итале прочь – саморазрушительная фрустрированная сексуальность.
Описывать высокое к славе Господней.
Это величайшее наслаждение. «Я на то пришел»[3]. Несравненно. Оттого, наверное, я этого боюсь. ДУРА.
(2 нояб. 78) 7 янв. 1827.
И приходится дорого платить – bien entendu![4] – думала я вчера вечером в Симфоническом, может быть, творчество во второй половине жизни всегда идет против шерсти, против течения в конце концов.
Бесполезно сражаться против зла по наивности, потому что не знаешь, что тебе противостоит, а когда узнаёшь и теряешь наивность, то познание зла либо разлагает тебя, либо морально увечит. Урок 1830-го? Да.
(9 нояб. 78) 8 августа 1830.
(18 нояб. 78): «Быть влюбленным… влюбиться» – теперь я понимаю это, теперь я знаю, что это значит; это то, что происходит со мной, когда я пишу. Я влюблена в работу, в сюжет, в персонажей, и пока это длится и некоторое время потом – в саму книгу. Я функционирую, только влюбляясь: во Францию и французов, в XVI век, в микробиологию, космологию, исследования сна и так далее. Я не смогла бы написать «Неделю за городом», если бы не влюбилась в исследования ДНК! Очень странно. Это женское? Влюбляются ли так же мужчины? Безусловно да, потому что все стихи о бессоннице и отказе от пищи, о том, что весь мир – лишь приложение к Любимой, написаны мужчинами. Полагаю, они тоже влюблялись в революцию 1830-го, или в мертвого русского, или во фразу на итальянском – что вам угодно. Полагаю, это творческое состояние, выраженное в человеческих чувствах и настроении, и удивительным образом проявляется одинаково, каким бы ни было – сексуальным, или духовным, или аскетическим, или интеллектуальным.
Отсюда личный бог, твой упрямый вечный подросток. О, говорит она, так Иисус просто не в моем вкусе. Я предпочитаю чумазых греков с реками в волосах. Ясно. Что мне ясно, Господи?
- Du bist’s, der was wir bauen…[5]
(6 дек. 78) 11:05 – закончила Малафрену. Опять.
11:07 – Но нет! Оставила 3 стр. в начале части II! Типично, типично!!!
Народные песни провинции Монтайна были первыми моими опубликованными стихотворениями.
Две крохотные песни – единственные существующие тексты на орсинийском. Слова взяты из передачи «Радио Орсения» в шестидесятых, но мелодии, увы, не сохранились.
Карта Орсинии публикуется впервые.
«Рассказы об Орсинии» возникали в непредсказуемое время – это касается и века, в который разворачивается их действие, и года, в который я их писала. Дата в конце рассказа относится (довольно неожиданно) к истории, а не к дате сочинения.
Годами я чувствовала себя своего рода приемником, который внезапно включается от срочной передачи из Орсинии, то из одного века, то из другого и от разных лиц. Моим долгом и привилегией было их толковать, однако научилась я этому не сразу.
Кажется, первым рассказом стали «Ночные разговоры». В Нью-Йорке в магистратуре я слушала итальянскую радиостанцию, и сентиментальный радиоспектакль о слепом так на меня подействовал, что я пыталась вообразить слепоту. И тут внезапно пробилась передача из Ракавы.
«An die Musik», написанный примерно десятью годами позже, стал первым сочинением, напечатанным в литературном журнале. Я отправила экземпляр Лотте Леман в знак восхищения. Моя большая печаль, что я потеряла добрые, щедрые слова, которые великая певица написала мне в ответ.
«Братья и сестры» датируются, думаю, концом пятидесятых. Это первый из моих рассказов, в котором я была уверена. С ним я понимала, что иду правильным путем, моим путем.
«Дорога на восток» – скорбный отклик на подавленное Советами венгерское восстание 1956-го. «Неделя за городом», написанная много позже, отправляет сына Стефана Фабра из «Братьев и сестер» в Монтайну, сельскую местность из «Малафрены», в тягостные годы советского господства.
Последний из рассказов, «Воображаемые страны», был написан, кажется, в конце семидесятых. Ничто и никто в нем не похоже ни на что и ни на кого в моей жизни, и все-таки он самый автобиографичный из всего, что я написала. В нем есть оттенок прощания, как будто я покидала Орсинию, но Орсиния не покидала меня еще некоторое время.
«Два сбоя в расписании поездов на Северной железной дороге», опубликованные после «Рассказов», тоже содержат элементы непосредственного личного опыта, преображенные так, чтобы быть скорее вымышленными, чем исповедальными. Некоторые писатели могут держать лаву голыми руками, но я не так крепка, моя кожа не асбестовая. И на самом деле я не хочу исповедоваться. Моя игра – преображение и выдумка.
Последней передачей из Орсинии, которою я получила, стал «Глоток воздуха». Мне радостно было вновь встретить Стефана Фабра и его жену Брюну и увидеть их свободными, пусть и на краткий миг.
Мне жаль, что с тех пор я не получала весточек от друзей в Красное. Надеюсь, что в Валь-Малафрене по-прежнему есть семейство Сорде, что собаки бродят по брусчатке дворца Рух, что собор Святой Феодоры стоит и тихие фонтаны Айзнара по-прежнему журчат.
Урсула К. Ле Гуин Портленд, Орегон Декабрь 2015
Малафрена
Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его;
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете, поздно едите хлеб печали,
тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.
Псалом 126
Перевод И. Тогоевой
Часть I
В провинциях
I
Пасмурной майской ночью город спал; тихо текла во тьме река. Над безлюдным университетским двором высилась церковь, исполненная, казалось, звона молчавших сейчас колоколов. Некий молодой человек, перемахнув через трехметровые чугунные ворота, спрыгнул на землю и оказался в прямоугольнике церковного двора, который осторожно и быстро пересек, и подошел к церковным дверям. Затем достал из кармана пальто скатанный в трубку лист бумаги, развернул его, пошарил в карманах, вытащил гвоздик, наклонился, снял башмак и, приложив лист бумаги и гвоздь как можно выше к дубовой, обитой железом створке двери, поднял башмак, чуть помедлил и, размахнувшись, ударил. Трескучее эхо прокатилось по темному, одетому камнем двору, и юноша застыл, словно удивляясь звучности этого эха. Где-то неподалеку послышались крики и лязг железа по камням мостовой. Юноша поспешно ударил по гвоздю еще раза три и, решив, что забил его достаточно крепко, бросился к воротам, так и держа один башмак в руке. В несколько прыжков он достиг ворот, перебросил через них башмак, перелез сам и хотел было уже спрыгнуть на землю, но зацепился полой за острую «пику». Послышался громкий треск рвущейся материи, и юноша исчез в темноте буквально за мгновение до того, как у ограды появились двое полицейских. Они, разговаривая по-немецки, долго и внимательно вглядывались в темноту церковного двора, затем обсудили высоту ворот, проверили, крепко ли заперт замок, даже потрясли его и двинулись прочь, стуча сапогами по мостовой. Лишь тогда юноша решился выглянуть из своего укрытия и стал шарить по земле в поисках башмака, трясясь от беззвучного смеха, но башмак найти так и не успел: стража возвращалась, и он бросился прочь, а над темными улицами Солария зазвенели колокола кафедрального собора, отбивая полночь.
На следующий день, когда те же колокола били полдень, в университете как раз закончилась лекция, посвященная отступничеству Юлиана[6], и уже знакомый нам юноша выходил вместе с приятелями из аудитории, когда его вдруг окликнули:
– Господин Сорде! Итале Сорде!
Шумливые студенты тут же как один потеряли дар речи и дружно заторопились, так что через минуту возле человека в форме офицера университетской охраны остался лишь тот, чье имя только что прозвучало.
– Господин Сорде, вас желает видеть господин ректор. Сюда, пожалуйста, господин Сорде.
Пол в кабинете был застлан сильно потертым, но все еще красивым красным персидским ковром. Левую ноздрю ректора, как всегда, украшало красноватое пятно – то ли бородавка, то ли родинка. У окна стоял какой-то незнакомец.
– Господин Сорде, объясните нам, пожалуйста, что это?
Незнакомец протянул Итале большой, примерно метр на метр, лист бумаги: это было разорванное пополам объявление о ярмарке рабочего скота, которая должна была состояться в Соларии 5 июня 1825 года. На чистой оборотной стороне листа крупными печатными буквами было написано:
- Суйте голову в петлю!
- Мюллер, Галлер и Генц[7]
- Веревку вам свили
- И тупым послушаньем
- Мозги заменили!
- Людям ведь невдомек,
- Какой страшный урок
- Господа эти дать нам решили!
– Это я написал, – признался юноша.
– И это вы… – ректор глянул в сторону незнакомца у окна и почти умоляющим тоном закончил: – прибили плакат на двери церкви?
– Да. Я. Я там был один. Это вообще полностью моя идея.
– Господи, мальчик мой… – Ректор помолчал, нахмурился и заговорил более решительным тоном: – Но, мальчик мой, если уж святость этого места…
– Я следовал одному историческому примеру[8]. Я ведь студент исторического факультета. – Бледное лицо Сорде вспыхнуло ярким румянцем.
– И до сей поры, надо сказать, были студентом весьма примерным! – вздохнул ректор. – Вот ведь что обиднее всего… Даже если это всего лишь глупая выходка.
– Извините, господин ректор, это не глупая выходка!
При этих словах Итале ректор сморщился, как от боли, и закрыл глаза.
– Вы же видите, намерения у меня были самые серьезные. Да иначе к чему вам было приглашать меня сюда?
– Молодой человек, – промолвил незнакомец, по-прежнему стоявший у окна и как бы не имевший ни бородавки на носу, ни звания, ни имени, – вот вы говорите о серьезных намерениях, а вы подумали о том, что у вас теперь могут быть серьезные неприятности?
Юноша мертвенно побледнел и некоторое время лишь молча смотрел на незнакомца, потом коротко и неуклюже ему поклонился, повернулся к ректору и сказал странным звенящим голосом:
– Просить прощения, господин ректор, я не намерен! Я готов покинуть университет. И вряд ли вы имеете право требовать от меня большего!
– Но я вовсе не прошу вас покидать университет, господин Сорде! Будьте любезны взять себя в руки и выслушать меня. Вам осталось доучиться последний семестр, и мы все же хотели бы, чтобы вы окончили университет без помех. – Ректор улыбнулся, и красновато-фиолетовая бородавка у него на носу смешно задвигалась. – А потому я прошу вас: обещайте, что впредь не будете посещать всякие студенческие сборища и в течение всего оставшегося семестра будете с заката и до восхода солнца находиться у себя дома. Вот, собственно, и все мои требования, господин Сорде. Ну что, даете слово?
Немного подумав, молодой человек ответил:
– Даю.
Когда он ушел, инспектор полиции аккуратно свернул листок со стихами и, улыбаясь, положил ректору на стол.
– Храбрый юноша, – заметил он.
– Мальчишка! Обыкновенный дерзкий мальчишка, уверяю вас.
– У Лютера в Виттенберге было девяносто пять тезисов, – сказал инспектор, – а у этого, похоже, только один.
Говорили они по-немецки. Ректор, оценив шутку, громко засмеялся.
– Он надеется служить? Стать адвокатом? Сделать карьеру? – продолжал инспектор.
– Нет, вернется в свое родовое поместье. Он ведь единственный наследник. У меня учился еще его отец – я тогда только начинал преподавать в университете. Они из Валь-Малафрены – знаете? – это в горах, в самой глуши, оттуда сотни километров до любого крупного города.
Инспектор лишь молча улыбнулся.
Проводив его, ректор снова со вздохом уселся за письменный стол, грустно глядя на портрет, висевший на противоположной стене; взгляд его, сперва довольно туманный, постепенно прояснился. На портрете была изображена красиво одетая дородная дама с очень пухлой нижней губой: великая герцогиня Мария, двоюродная племянница императора Франца Австрийского[9]. На свитке, который герцогиня держала в руках, сине-красный государственный флаг Орсинии был как бы поделен на четвертушки черным двуглавым имперским орлом. Пятнадцать лет назад на этой стене висел портрет Наполеона Бонапарта. А тридцать лет назад – портрет короля Орсинии, Стефана IV, в коронационных регалиях. Тридцать лет назад, когда нынешний ректор университета успел стать только деканом исторического факультета, он частенько вызывал юных студентов на ковер и песочил их за глупые проделки, а они, мгновенно превращаясь в кротких овечек, лишь смущенно улыбались, но кровь у них при этом не отливала от лица, как только что у Сорде, да и у самого ректора не возникало тогда ни малейших сомнений в своей правоте. А сегодня ему мучительно хотелось извиниться перед этим юным шалопаем, сказать ему: «Прости, мальчик… Ты же понимаешь!..» Ректор снова вздохнул и уставился на лежавшие перед ним бумаги, на которых должен был поставить свою подпись: это были результаты правительственной ревизии данных о студентах. Все на немецком. Ректор нацепил очки и нехотя стал читать первый листок; лицо его в солнечном сиянии майского дня казалось бесконечно усталым.
А юный Сорде тем временем ушел в парк на берегу реки Мользен и сел на скамью, прятавшуюся за невысокими ивами. Река, залитая солнцем, вилась перед ним дымчато-голубой лентой. Все кругом дышало безмятежностью – мирно журчала вода; ивовая листва, пронизанная солнечными лучами, отбрасывала на песок ажурные тени; голубь, разомлев от тепла, лениво разгребал лапками мелкие камешки в поисках пищи. Сперва поза Итале была довольно напряженной: руки стиснуты, брови насуплены – он явно переживал случившееся; затем он понемногу расслабился, вытянул длинные ноги и раскинул руки по спинке скамьи. Выражение его лица, украшенного густыми бровями, синими глазами и довольно внушительных размеров носом, становилось все более мечтательным. Его взгляд, устремленный на бегущие воды реки, стал уже почти сонным, когда рядом вдруг прогремел, точно выстрел, чей-то крик:
– Да вот же он!
Итале нехотя оглянулся. Так и есть: друзья все-таки его разыскали.
Светловолосый коренастый Френин, хмурясь, говорил:
– Ты вовсе не подтвердил свой тезис. Я отвергаю твое доказательство.
– Что слова – это поступки? Слова, которые я прибил…
– То, что ты прибил их к церковным дверям, – поступок!
– Но, оказавшись там, именно слова получили возможность действовать и приносить результаты…
– Ну и какие результаты принес твой поступок? – спросил Брелавай, высокий худой темноволосый юноша с ироничным взглядом.
– В собраниях не участвовать. С вечера до утра сидеть под домашним арестом.
– Господи! Теперь-то уж Австрия позаботится о твоем целомудрии! – рассмеялся Брелавай. – А ты видел, какая толпа собралась утром у церкви? Весь университет успел твоими стишками полюбоваться, прежде чем австрияки пронюхали! Боже, как они злились! Я был уверен, что они нас всех скопом в кутузку засадят!
– А откуда они узнали, что это я?
– Все вопросы к старосте, господин Сорде, – сказал Френин. – Das würde ich auch gerne wissen![10]
– Между прочим, ректор ни словом не обмолвился об «Амиктийи» в присутствии этого типа. Как ты думаешь, они нашу «Амиктийю» не прикроют?
– Спроси что-нибудь полегче.
– Послушай, Френин! – рассердился Брелавай – они с Френином целый час в тревоге повсюду искали Итале, устали и проголодались. – Ты же сам вечно твердишь, что мы только говорим, но ничего не делаем! А теперь, когда Итале наконец что-то сделал, ты сразу принялся ныть! Лично мне все равно, прикроют они «Амиктийю» или нет; туда сейчас одни дураки ходят, не удивлюсь, если среди них и шпионы есть. – Он плюхнулся рядом с Итале на скамью.
– Извини, Томас, но я бы все-таки хотел закончить свою мысль, – сказал Френин и тоже сел. – В «Амиктийи» тех, кто действительно серьезно относится к делу, человек пять, верно? Так что теперь, когда Итале оказался под надзором полиции, а все мы – под подозрением, пора решать, для чего, собственно, мы это общество создавали: только для того, чтобы пить вино и орать песни, или все же с какой-то более осмысленной целью? Вот для чего, например, ты, Итале, прибил к дверям церкви свои стихи? Чтобы покорно выслушать выговор ректора, закончить семестр и уехать в свое поместье? Или за этим последует нечто большее? И наши слова наконец действительно станут поступками?
– О чем ты думаешь, Дживан?
– Я думаю про Красной.
– И что мы там будем делать? – с сомнением протянул Брелавай.
– А что мы будем делать здесь, в Соларии? Здесь то же самое, что в провинциях, – одни чертовы бюргеры да столь любезные твоему сердцу тупые крестьяне. Нам не под силу бороться с этим средневековьем! Столица – вот единственное подходящее для нас место, если мы действительно имеем серьезные намерения. Господи, да разве Красной – это так уж далеко?
– Действительно, эта река пробегала мимо него всего два дня назад, – сказал Итале, глядя на голубой Мользен, поблескивавший за деревьями. – Слушай, Дживан, а ведь это неплохая идея! Надо подумать. И еще надо чего-нибудь поесть. Пошли. Эх, Красной, Красной! – воскликнул он, и все засмеялись.
Расстались они уже ближе к вечеру. Итале возвращался домой в прекрасном настроении, предвкушая нечто новое, неведомое. Неужели ему действительно предстоит иная жизнь? Неужели он уедет в столицу и будет вместе с друзьями трудиться там во имя свободы? Непостижимо! Прекрасно! Фантастика! Но как же все это устроить? Наверное, в столице найдутся люди, которые захотят им помочь, как-то приставят к делу? По слухам, там имеются тайные общества, состоящие в переписке с тайными обществами Пьемонта, Ломбардии, Неаполя, Богемии, Польши, Германии; ведь по всей территории Австрийской империи и ее сателлитов, по всей Европе раскинулась подпольная сеть борцов за свободу, и сеть эта похожа на нервную систему человека, спящего беспокойным, лихорадочным сном, полным кошмаров. Ведь даже в сонном Соларии люди называют Матиаса Совенскара, с 1815 года живущего в ссылке в своем родовом поместье, «наш король»! А он и есть король – законный, избранный по воле своего народа, наследный правитель свободной страны! А этого императора и его империю – к черту! Итале стремительно, точно летний вихрь, несся по тенистой улице; лицо его пылало, пальто было распахнуто.
В Соларии он жил у дяди, Анжеле Дрю, и сразу же, едва влетев в дом, еще до ужина, объявил, что отныне находится под домашним арестом с заката и до утренней зари. Дядя только посмеялся. У них в семье было много детей, и они, выделив племяннику комнату, заботились в основном о том, как бы получше его накормить, а в остальном полностью ему доверяли. Их собственные старшие сыновья спокойным нравом отнюдь не отличались, так что порой дядя с тетей даже немного удивлялись тому, что Итале действительно оправдывает оказанное ему доверие, хорошо учится, да и ведет себя вполне прилично.
– Ну, что ты на этот раз натворил? – добродушно спросил дядя.
– Прибил к церковной двери одно дурацкое стихотворение.
– И только? Слушай, а я не рассказывал тебе, как мы однажды ночью протащили в университетское общежитие целую толпу молодых цыганок? Тогда еще на ночь дверей не запирали… – И Анжеле в который раз принялся излагать давно известную историю. – А что за стишки-то? – наконец спросил он.
– Да так… политические.
Анжеле все еще улыбался, однако морщинка на лбу свидетельствовала о том, что он недоволен и разочарован.
– Что значит «политические»?
Итале пришлось не только прочесть стихотворение, но и растолковать его.
– Ясно… – растерянно протянул Анжеле. – Ну вот… Ну, я просто не знаю! Теперь ведь и молодежь совсем другая! А все эти пруссаки и швейцарцы! Эти Галлеры и Мюллеры! Пресвятая Дева Мария! Да что нам до них? Ну знаю я, кто такой фон Генц – важная шишка, глава имперской полиции, – но какое мне до него дело!
– Как это – какое дело?! Да ведь такие, как он, тут повсюду хозяйничают! Стоит рот раскрыть – сразу в тюрьму угодишь!
Итале всегда старался избегать политических споров с Анжеле, но сегодня – это, впрочем, бывало и прежде – ему казалось, что он непременно сумеет убедить дядю в своей правоте. Однако тот все больше упрямился и все сильнее тревожился, теперь уже не желая признать даже, что терпеть не может иностранную полицию, которая терроризировала не только студентов университета, но и весь город; и говорить о том, что он тоже считает Матиаса Совенскара королем Орсинии, дядя не пожелал.
– Просто в тринадцатом году мы приняли не ту сторону, – сказал он. – Надо было присоединиться к Священному союзу[11] и предоставить Бонапарту возможность повеситься на той веревке, которую он сам же и свил. Ты-то не знаешь, каково это, когда вся Европа охвачена войной! Вокруг только и говорят о войне, о том, что Пруссия проиграла, что русские победили, что армия «где-то там», а продовольствия не хватает, и даже в собственной постели никто не чувствует себя в безопасности. Война обещает огромные доходы, но не гарантирует ни мира, ни стабильности. Мир – это великое благо, парень! Будь ты хоть на несколько лет постарше, ты бы понимал!
– Но если за мир нужно платить собственной свободой…
– О да, разумеется, свобода, права… Не позволяй себя обманывать пустыми словами, мой мальчик! Слово – лишь набор звуков, которые ветер подхватил да унес, а мир послан нам Господом, и это непреложная истина.
Анжеле был совершенно уверен, что убедил Итале: ведь он так доходчиво все объяснил! И юноша в конце концов решил больше не спорить. Правда, за столом Анжеле, как бы в продолжение разговора, произнес гневную тираду в адрес правительства великой герцогини – по поводу новых законов о налогах, – хотя всего час назад он это правительство защищал. Закончил он свою речь на довольно жалобной ноте и виновато улыбнулся; в эти минуты он был очень похож на свою сестру, мать Итале. Юноша смотрел на дядю с любовью, прощая ему все: разве можно винить такого пожилого человека в бестолковости? Ведь дяде уже почти пятьдесят!
Миновала полночь, а Итале все сидел за письменным столом в своей комнатке под самой крышей, вытянув ноги, подперев голову руками и глядя поверх груды книг и бумаг в открытое окно, за которым во тьме шелестели и потрескивали ветви, раскачиваясь на сильном ветру. Дом дяди Анжеле стоял почти на самой окраине, и вокруг не было видно ни огонька. Итале думал про окно своей комнаты в родном доме на берегу озера Малафрена, и о поездке в Красной, и о гибели Стилихона[12], и о дымчато-голубой ленте реки за ивами, и о человеческой жизни – и все это была одна длинная и невыразимая словами мысль. По улице простучали тяжелыми сапогами – разумеется, австрийского производства! – двое полицейских зачем-то остановились у их дома, постояли и пошли дальше.
«Ну что ж, раз это необходимо…» – подумал Итале, испытывая даже какую-то радостную признательность, словно некие невысказанные слова подвели итог всем его размышлениям. Он снова прислушался к тихому шелесту листвы. Ночная вылазка в церковный двор и разговор с ректором теперь казались ему чем-то далеким и по-детски бессмысленным. Теперь ему представлялось, что, когда Френин сказал: «Я думаю про Красной», он ждал этих слов, они должны были прозвучать. Нет, Итале не намерен возвращаться в родное поместье и всю оставшуюся жизнь торчать в этой горной глуши! Теперь это уже попросту невозможно! А потому совершенно свободно – хотя и не без сожалений – можно оглянуться на прежнюю жизнь, на то, что до сегодняшнего дня он считал своей судьбой. В той, прежней жизни ему было знакомо все: каждая пядь земли, каждый человек, каждая мелочь в череде повседневных трудов и забот Валь-Малафрены – он знал это так же хорошо, как собственные тело и душу. А вот о жизни в столице он не знал ничего.
«Ну что ж, раз это необходимо!» – повторял он со все большей убежденностью, с радостью и тайным страхом. Ночной ветер, свежий, исполненный ароматов влажной земли, касался его лица, вздувал белые занавески; а Соларий продолжал мирно спать под весенними звездами.
II
Воспоминания Итале о детстве были как бы безвременны – вспоминались лишь определенные места и предметы, но не события, не периоды. Вспоминались комнаты в их доме, широкие доски пола, ступени лестницы, тарелки с синей каймой; «щетка» шерсти над копытом и мохнатые ноги огромного коня, которого привели к кузнецу; руки матери; пятна солнечного света на посыпанной гравием дорожке, круги от дождевых капель на поверхности озера, очертания гор на фоне темного зимнего неба… Среди всех этих воспоминаний лишь одно было отчетливо связано со временем: он стоит в комнате, где горят четыре свечи, и видит на подушке голову – глазницы как черные колодцы и блестящий, будто высеченный из металла, нос; а на стеганом одеяле – рука, неподвижная, словно это и не рука вовсе, а нечто неодушевленное, мертвое. И чей-то голос непрерывно что-то бормочет. Он понимает, что это комната деда, но самого деда там почему-то нет, зато есть дядя Эмануэль, отбрасывающий на стену огромную тень, и тень эта движется у него за спиной, точно живая. И за спинами всех людей – слуг, священника, матери – тоже шевелятся такие же страшные тени. Тихий голос священника похож на плеск воды, и эта вода слов, точно вода озера, лижет стены дедовой комнаты, поднимается все выше и выше, шумит в ушах, смыкается над головой… Итале чувствует, что задыхается, что ему не хватает воздуха, и вдруг, прерывая этот удушающий ужас, разгоняя полумрак, спины его касается теплая широкая ладонь и слышится тихий голос отца: «И ты здесь, Итале?» Отец выводит его из комнаты, велит бежать в сад и поиграть там немного. Итале рад; оказывается, за пределами той темной комнаты, где горят свечи, еще совсем светло, озеро освещено закатными лучами, а на фоне бронзового неба отчетливо видны очертания горбатой горы Охотник, точно присевшей над заливом Эвальде, и острой вершины Сан-Лоренца. Лауру, младшую сестренку Итале, уже уложили спать, и он, не зная, чем заняться, бродит по двору, дергает дверь сарайчика, но она заперта. Потом он подбирает у дорожки какой-то красный камешек и шепчет, точно сам себя убеждая: «Меня зовут Итале. Мне семь лет». Однако почему-то твердой уверенности в этом у него не возникает – он чувствует себя одиноким, потерянным, в саду уже сгущаются сумерки, поднимается ветер… Наконец появляется тетя Пернета, за что-то ласково ему выговаривает, подталкивает, обнимает и тащит домой: спать.
Его дед, Итале Сорде, в семидесятые годы прошлого столетия подолгу жил во Франции, много путешествовал по Германии и Италии. Когда он, сорокалетним, вернулся наконец в Валь-Малафрену к жене, кузине графа Гвиде Вальторскара, соседи, в общем, простили ему чрезмерную любовь к чужим странам, но некоторые из них так и сохранили к нему недоверие. Вернувшись, Итале Сорде привел в порядок поместье, перестроил дом и, кажется, угомонился. Обоих сыновей он послал учиться в Университет Солария, и оба после его окончания вернулись в Монтайну – старший стал управлять поместьем, а младший открыл юридическую контору в Партачейке. После 1790 года Итале Сорде из родной провинции не выезжал более ни разу. Со временем его переписка с друзьями за границей существенно уменьшилась, а затем и вовсе прекратилась, да и друзья либо умерли, либо позабыли о нем, понимая, что он и сам предпочел бы, чтобы о нем не вспоминали. Умер он в 1810 году; его помнили как отличного хозяина, талантливого садовника, благородного и доброго человека.
Все Сорде были нетитулованными землевладельцами – «думи», которым королевской хартией в 1740 году были пожалованы права, равные с дворянами. В восточных провинциях, правда, думи по-прежнему держались особняком, так и не вписавшись в старинную иерархическую систему. Но в центральных областях и на западе они, как и бюргеры в столице и других крупных городах, были значительно теснее связаны с аристократией благодаря смешанным бракам и достаточно пренебрежительному отношению к условностям и допотопным обычаям; в этих местах думи были и более многочисленны, и более влиятельны, хотя чаще всего даже не догадывались о своем реальном могуществе. Над людьми по-прежнему властвовала магия знатных, старинных имен, которых среди думи не было; зато у них была собственность.
Итале Сорде владел небольшим, но прекрасно ухоженным поместьем. Его дом, практически выстроенный заново, тремя сторонами смотрел на озеро, возвышаясь на выступе одного из отрогов горы Сан-Дживан, густо поросшей дубами и соснами. Если подходить к дому с востока, казалось, что он одиноко парит над бескрайними лесами и мрачноватым простором озера на фоне далеких гор. Но с дороги, ведущей от Партачейки, от перевала, хорошо видны были и окружавшие дом поля, и сады, и раскинувшиеся на холмах виноградники, и дома крестьян и арендаторов, и крыши соседних усадеб. В своем поместье Сорде выращивали виноград, груши, яблоки, рожь, овес, ячмень; климат в горах непростой, но здесь перепады температуры были не слишком велики. Когда случались особенно суровые зимы и толстый слой снега укутывал лесистые склоны гор, озеро Малафрена, как, впрочем, и другие озера, цепь которых тянулась до самой юго-западной границы Орсинии, не замерзало. Оно не замерзало уже, наверное, лет сто. Лето в этих местах было долгое, жаркое, с частыми могучими грозами. Важными событиями здесь считались засуха, проливные дожди или необычайный урожай винограда; во всяком случае, ясная погода во время жатвы была куда важнее исторических перемен; и право же, крайне малое отношение ко вкусу вина или сочности травы на горных пастбищах имело то, кто правит в данный момент страной: король Стефан, Наполеон, великий герцог Матиас, император Австрии Франц или великая герцогиня Мария. Здешние землевладельцы и арендаторы отгородились своими горами, точно стеной, от всего остального мира и лишь ворчали на чересчур настырных сборщиков налогов, как делали еще их прадеды.
Гвиде Сорде, унаследовавший имение после смерти отца, был типичным представителем немногословных земледельцев горного края: высокий, худощавый, темноволосый, с острым взглядом серых глаз. Его предки, местные крестьяне, сумели разбогатеть и стать думи еще в начале XVII века. Жена Гвиде, правда, родилась на равнине, в Соларии, значительно южнее Валь-Малафрены, но он считал Элеонору единственным ценным «приобретением» за пределами родных гор и привез ее в свое поместье навсегда.
В 1803 году у Элеоноры и Гвиде родился сын-первенец; еще через три года – дочка. Элеонора сама занималась воспитанием детей, но, когда Итале исполнилось одиннадцать, а Лауре – восемь, Гвиде, бережно относившийся к семейным традициям, решил, что образование детям необходимо более основательное: к Лауре три раза в неделю стал приходить учитель, а Итале отправили в школу при монастыре бенедиктинцев на горе Синвийя. По выходным он обычно приходил домой – от монастыря до поместья было всего километров десять, – а по четвергам, поскольку день тоже был наполовину свободным, спускался по горной тропе в Партачейку, островерхие крыши и крутые улочки которой виднелись из окон монастырской школы. Там он обедал с дядей Эмануэлем и тетей Пернетой в их высоком деревянном доме, со всех сторон окруженном садом, где было полно бархатцев, анютиных глазок, флоксов. Из Партачейки, зажатой между горами Синвийя и Сан-Дживан, открывался волшебный вид на север. Казалось, укутанный тенью перевал никак не может вести в те далекие, залитые солнцем лазурные холмы, а может лишь смотреть на них сверху, словно на сказочное царство по ту сторону Возможного. А когда над городом низко нависали грозовые тучи, холмы особенно ярко выделялись на фоне небес, золотистые в свете солнца, и казались волшебной страной, где не бывает ни мрака, ни бурь, ни гроз. Болтаясь без цели возле гостиницы «Золотой лев», Итале не раз видел, как отправляется в дальние города или прибывает оттуда почтовый дилижанс – высокий, скрипучий, запыленный, – и Партачейка, ворота его родной провинции, казалась ему окутанной флером путешествий в неведомые края, как порты для тех, кто живет у моря.
По субботам Итале, пройдя Партачейку насквозь, поднимался по пологим, заросшим дубняком предгорьям, мимо раскинувшихся на склонах виноградников и садов и выходил прямо к своему дому на берегу озера. По дороге он часто останавливался поболтать со старыми приятелями или со старым Броном, лучшим виноделом в Валь-Малафрене. Брон был длинноногим, тощим, мрачноватым стариком со вздернутыми плечами, которого Итале всегда с удовольствием расспрашивал обо всех событиях минувшей недели и который в ответ на рассказы мальчика о школьной жизни всегда замечал: «Оно, конечно, так! Дом Итаал, да только от работы уж точно никуда не денешься, а вот награда редко кого находит!»
Когда Итале исполнилось семнадцать, монахи Синвийи вручили ему первый приз за знание латыни, благословили его и отослали домой, где он стал учиться всему тому, что подобает знать и уметь будущему хозяину поместья: подрезать виноградные лозы, осушать поля, вести счета, охотиться, ездить верхом и править парусной лодкой «Фальконе». Эти занятия поглощали все его время, но голове пищи все равно не хватало. Итале стал беспокойным. Он сознавал свою ответственность перед семьей, чувствовал, что на него возлагаются большие надежды. Подобное отношение к своим обязанностям он усвоил от отца, который никогда не говорил о долге, но всегда беспрекословно ему подчинялся. Итале, однако, хотелось найти такую цель в жизни, служению которой стоило бы отдать себя целиком. Он принялся изучать жизнеописания великих людей. Первым героем, восхитившим его, был Эней; сперва легенды о нем рассказывал ему дед, потом он сам прочитал их в потрепанной школьной книге отца. Хотя книги доставать было нелегко, вскоре Итале познакомился и с другими героями былых времен – Периклом, Сократом, Гектором, Ганнибалом. И разумеется, с Наполеоном. Детство Итале пришлось на времена Империи, отрочество – на годы ссылки императора. Бессильный, побежденный, униженный, Наполеон даже в последние годы на острове Святой Елены все же высился над миром, над бескрайними просторами европейских стран, надо всеми бесчисленными, жалкими и до смерти перепуганными правителями, точно скованный Прометей… В библиотеке деда семнадцатилетний Итале обнаружил изрядное количество французских книг и с помощью сестры, у которой был учитель-француз, начал самостоятельно изучать французский язык и вскоре настолько в этом преуспел, что мог уже читать Вольтера. Лауре, которая попыталась было читать Вольтера с ним вместе, это быстро наскучило, и она вернулась к «Новой Элоизе» Руссо, любимой книге ее матери. Итале был этому даже рад: он еще и сам не знал, чем ему грозит очередное увлечение, а в монастырской школе Вольтера упоминали лишь наряду с нечистым. В дедовской библиотеке он обнаружил также несколько разрозненных номеров французской правительственной газеты «Монитор». Одну, за 1809 год, он прочитал от корки до корки и нашел, что она удивительно похожа на все остальные газеты, какие ему когда-либо попадались на глаза. Однако через некоторое время он случайно наткнулся на газеты, выходившие в начале 1790-х годов, и не сразу вспомнил, что за события, имевшие место в Париже, в ней описываются (монахи не были сильны в политической истории вчерашнего дня). Итале прочел речи Дантона, Мирабо, Верньо; имен этих он не знал. Правда, имя г-на Робеспьера он как-то раз слышал – оно упоминалось в одном ряду с Вольтером и дьяволом. Он стал последовательно собирать сведения об этом периоде. Ему казалось, что он сам участвует в Революции, когда читает речи, в которых звучит призыв затопить волнами гнева народного обитель зла и насилия; одна из речей заканчивалась словами, которые особенно взволновали его: «Vivre libre ou mourir!» – «Жить свободными или умереть!» Пожелтевшие газетные листы ломались на сгибах; голова Итале склонялась над сухими столбцами слов, некогда брошенных в лицо собранию Генеральных штатов[13] теми, кто вот уже тридцать лет как лежали в земле. И руки юноши леденели, точно на холодном ветру, губы пересыхали. Зачастую он не понимал и половины прочитанного, почти ничего не зная о конкретных событиях тех дней, но это было не важно, ибо он понимал самое главное: Революция действительно была!
Напыщенные речи революционных вожаков были исполнены лицемерия и тщеславия; это чувствовалось вполне отчетливо. И все же в них ставился вопрос о Свободе, которая воспринималась как не менее важная человеческая потребность, чем потребность в хлебе и воде! Не в силах унять возбуждение, Итале расхаживал по небольшой тихой библиотеке, потирая виски и тупо озирая книжные полки. Свобода отнюдь не является такой уж необходимостью, она даже опасна – об этом вот уже десять лет твердили европейские законодатели. Взрослыми людьми, точно детьми, следует руководить ради их же блага, и руководство должно быть поручено тем немногим избранным, которые познали науку управления государством. Что же в таком случае имел в виду этот француз Верньо[14], утверждая свой выбор – жить свободными или умереть? Ведь детям такой выбор предлагать нельзя. Значит, его слова предназначены для взрослых! Звучат они смело и ново, хотя, может быть, оратору порой не хватает логики – в отличие от тех, кто поддерживает военные альянсы, цензуру, репрессии, казни. Да, это, конечно же, НЕРАЗУМНЫЕ слова!
В тот день Итале опоздал к ужину и выглядел больным. Ел он мало, а после ужина сбежал из дому и в темноте спустился на берег озера, где бродил несколько часов, борясь с тем ангелом-вестником, что сегодня днем бросил ему вызов. Для этого поединка он старался использовать все свои знания и умения; в девятнадцать лет он чрезвычайно ценил разум и способность мыслить здраво; и все же противник одержал над ним победу, почти не прилагая усилий. Разве мог Итале противиться тому, чего втайне давно желал и искал? Идеалу истинного человеческого величия, не воплощенного в конкретном лице, но завоеванного братством всех народов земли? Пока хоть одна живая душа несправедливо осуждена томиться в неволе, я тоже не свободен – так думал сей неофит, и при этих мыслях лицо его становилось решительным и суровым, а глаза вдохновенно и счастливо светились. Итак, двадцатый год Итале оказался самым счастливым в его жизни. Порой, если мать невольно вторгалась в его молчаливые раздумья, он отвечал ей невпопад, словно возвращаясь откуда-то издалека, и матери было невдомек, почему синие глаза сына смотрят на нее с таким радостным узнаванием, словно он только что вернулся из дальнего странствия.
Мать гораздо раньше, чем сам Итале, поняла, что ему хочется уехать из дому; он же уяснил это для себя лишь тем летом, когда после работы уплывал на лодке по сверкающей в закатных лучах глади озера к его восточному берегу, где брала начало река Кьясса, стремившаяся по заросшим лесом склонам гор к холмистым долинам предгорий и сливавшаяся там с Мользеном. У своих истоков Кьясса напоминала скорее бурный ручей; Итале любил сидеть у воды и смотреть на нее, думая о том, что, должно быть, к концу лета эта вот вода добежит до моря, а он, Итале, так и останется здесь, на берегах спокойного озера Малафрена.
Родные пытались убедить Гвиде Сорде, что желание Итале покинуть на время отчий дом вполне естественно для молодого человека, но Гвиде считал это неразумным баловством. Кому-то же нужно управлять имением, а Итале – единственный наследник и должен понимать, что дело и долг превыше всего. Тогда Элеонора, следуя совету своего деверя, предложила послать Итале в Университет Солария.
– Ведь, в конце концов, и вы с Эмануэлем учились там благодаря твоему отцу, – заметила она.
– Там Итале не получит ничего из тех знаний, которые ему действительно необходимы, – спокойно возразил Гвиде, однако в голосе его послышался отзвук гнева – так поднявшийся легкий ветерок порой предвещает надвигающуюся грозу. – Пустая трата времени!
Элеонора никогда не стала бы бороться с неколебимым и самоуверенным провинциализмом своего супруга ради себя самой, но ради Итале она пошла и на это.
– Но ему необходимо повидать других людей и хотя бы немного познать мир! Разве он сможет научить чему-то своих крестьян, если будет всего лишь одним из них?
Гвиде нахмурился. Жена использовала против него его же собственное оружие и сделала это весьма искусно; он досадовал, что не может назвать истинную причину, по которой не хочет отпускать сына, сердился, что члены семьи не понимают его мотивов, которые не были понятны ему самому, обижался на всех, потому что знал: уступить все-таки придется. Это было ясно всем, даже Итале. Но спорить с Гвиде хватило терпения и такта только у Элеоноры.
Итак, в сентябре 1822 года монтайнский дилижанс повез Итале за перевал, в северную долину. Оглядываясь назад, он видел знакомые и вечно менявшиеся очертания гор над бесконечными складками предгорий – крутой восточный склон гордого Сан-Дживана, вершину Синвийи и за ними в голубоватой дымке Охотника, точно готовящегося к прыжку. Когда родные горы скрылись из глаз, Итале достал серебряные дедовы часы и заметил время: двадцать минут десятого. Дорога, ведущая в долину, была залита солнцем; на скошенных полях трещали кузнечики, крестьяне заканчивали уборку урожая, в деревнях было пусто и тихо. Это был тот самый золотой край, который он видел из-под нависших над Партачейкой грозовых туч. Названия здешних селений он знал только на слух – Вермаре, Чага, Бара. Бара находилась на самой границе провинции Монтайна, а чуть дальше, в Эрреме, Итале пересел в другой дилижанс, направлявшийся в Судану. Он не отрывался от окна, рассматривая местных жителей, их дома, их кур и свиней и стараясь понять, какие здесь внизу свиньи, куры, дома, люди.
Соларий показался ему каким-то сонным. Вокруг паслись тучные стада, дома тонули в густых садах, полных роз, даже широкий Мользен будто дремал, медленно неся свои сверкающие воды на юг под старым мостом в центре города. Студенты университета, не слишком утруждая себя занятиями, и не думали устраивать средневековые поединки, а предпочитали мирно пить вино в приятной компании и влюбляться в красивых местных девушек, которые отвечали им взаимностью. На второй год своего обучения Итале, отвергнутый ветреной дочерью булочника, гневно решил отказаться от любви и повернулся лицом к политике. Он стал вожаком студенческого общества «Амиктийя», которое правительство страны терпело с большим трудом. Все подобные организации считались в государствах, подобных Германии, практически вне закона; например, университетское студенческое общество в Вильно настолько раздражало государя всея Руси, что в 1824 году он его запретил окончательно и отправил в ссылку его руководителей, а студенты с тех пор находились под постоянным надзором полиции. Однако именно это и придавало членству в «Амиктийи» определенную остроту ощущений. Студенты, выпив немалое количество вина, с удовольствием пели запрещенный гимн: «За ночью вслед придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный…», добывали и распространяли запрещенные книги, обсуждали революционные события во Франции, в Неаполе, Пьемонте, Испании, Греции и возможность установления конституционной монархии, спорили о гражданском равенстве, о всеобщем образовании, о свободе печати – но все эти диспуты велись без какой бы то ни было ясной цели; студенты плохо представляли себе, чего, собственно, хотят добиться. Считалось, что подобные дискуссии запрещены, а раз так, то запрет, разумеется, следовало нарушить! Окончив третий курс, Итале решил, что ему, видимо, действительно пора уже навсегда вернуться домой, но тут случилось непредвиденное: среди ночи он оказался у дверей университетской церкви, да еще в одном башмаке, умирающий от смеха, а потом, на берегу реки, в солнечном свете, услышал слова Френина: «Я думаю про Красной».
III
Эмануэль Сорде откашлялся – уж больно тема разговора была взрывоопасной – и заметил с должной осторожностью:
– На этой неделе в газетах одни загадки! Интересно, состоится ли все же заседание Генеральных штатов?
– Национальной ассамблеи, вы хотите сказать? Она же не заседала со смерти короля Стефана, они не собирались ни разу.
– Да, целых тридцать лет.
– Как все-таки странно, не правда ли?
– Это лишь моя догадка, граф. «Курьер-Меркурий» молчит, так что, естественно, возникают определенные подозрения…
– Да уж! – Граф Орлант Вальторскар вздохнул. – Жена всегда раньше заставляла меня подписываться на айзнарский «Меркурий». Она считала, что в нем гораздо больше фактов. Кстати, что с ним стало?
– Он так долго был запрещен, что его владельцы разорились, – ответил графу Итале и с жаром прибавил: – С тех пор у нас нет ни одной свободной газеты!
– Даже если наши штаты все-таки действительно соберутся, – заговорил Гвиде, как всегда уверенно, неторопливо и негромко, – то ничего особенного и не произойдет: поболтают и разойдутся, как в девяносто шестом.
– Поболтают! – Его сын так резко поставил пустой бокал, что тот еще мгновение звенел. – Это ведь в любом случае достаточно важно, чтобы…
Но Эмануэль прервал его:
– Они, вероятно, смогли бы что-то наконец сделать хотя бы в отношении налоговой системы. Вот, например, венгерскому Государственному собранию удалось отобрать у Вены контроль над сбором налогов.
– Ну и что? Налоги ведь от этого не уменьшились! Уж этого-то никогда не случится.
– Зато эти деньги не будут потрачены на содержание иностранной полиции! – возразил Итале.
– А нам-то какое до нее дело – в наших горах?
На длинном холеном лице графа Орланта, покрытом старческим румянцем, отразились глубокое сожаление и растерянность. Ему было жаль всех – императоров, полицейских, сборщиков налогов и несчастных бедняков, попавших в сети материальных тягот; он знал, что от него ожидают не только сочувствия, но не в состоянии был соответствовать этим ожиданиям. Вот мрачный Гвиде, а рядом настороженный Эмануэль и взволнованный Итале… Юноша, более не в силах сдерживать себя, в итоге взорвался: «Придет время, когда!..» – но Гвиде прервал его, точно отклоняя брошенный старшему поколению вызов, и граф вздохнул с облегчением.
– Не пройти ли нам на балкон? – предложил хозяин дома, и они присоединились к дамам, удобно устроившимся на просторном, вымощенном плиткой балконе, обнесенном широкими перилами, который старый Итале велел построить с южной стороны дома, прямо над озером.
Был теплый вечер, последний вечер июля. В воде отражалось бледно-голубое небо, и вода тоже казалась абсолютно голубой, лишь в глубокой тени гор она имела коричневый оттенок. На востоке, где озеро скрывалось за крутыми склонами гор, все тонуло в туманной дымке. На западе, за горой Сан-Лоренц, небо еще горело закатными красками, так что и воздух, и белые плитки, которыми был вымощен балкон, и белые цветы душистого табака в горшках, и белое платье Лауры, и голубая поверхность озера – все как бы подсвечивалось розовым. Постепенно яркие тона начинали бледнеть, и над головой замерцала в вечерней тишине далекая Вега. Кипарис, росший у внешнего угла балкона, на фоне светящихся воды и неба казался совсем черным, а в воздухе, напоенном ароматами летних сумерек, негромко звучали голоса женщин.
– Боже мой! Какой дивный вечер! – вздохнул граф Орлант. В голосе его явственно слышался местный акцент.
Казалось, он удивлен тем, что ему, недостойному, выпало столь высокое счастье – присутствовать на этом вечернем пиршестве красок. Он стоял, глядя на раскинувшееся перед ним озеро, и с безмятежным видом любовался открывавшимся с балкона прекрасным видом. Элеонора и Пернета, как всегда, перебирали скопившиеся за последнюю неделю слухи и сплетни: Элеонора рассказывала невестке о событиях в Валь-Малафрене, а Пернета – о том, что произошло в Партачейке. Девушки, Пьера Вальторскар и Лаура, тихонько о чем-то беседовали и мгновенно перешли на шепот, стоило мужчинам появиться на балконе.
– …Он же совсем не умеет танцевать! – донеслись до Итале последние слова Лауры.
– И шея у него вся волосами заросла, точно старый пень – мхом! – лениво усмехнулась в ответ Пьера. Ей недавно исполнилось шестнадцать. Она была похожа на отца: такое же продолговатое лицо и ясный, безмятежный взгляд. Роста она была небольшого, а ее фигура и руки еще не утратили детской пухлости.
– Хоть бы кто-нибудь новый появился! А то и настоящего бала не получится… – прошептала Лаура.
– Интересно, а ванильное мороженое будет? – вдруг с неожиданным интересом спросила Пьера.
Пернета тем временем, прервав сложный обмен новостями с Элеонорой, спросила мужа:
– Эмануэль, это верно, что Алиция Верачой – троюродная сестра Александра Сорентая?
– Несомненно! Она в Монтайне со всеми в родстве.
– Значит, это его мать в тысяча восемьсот шестнадцатом вышла замуж за Берчоя из Валь-Альтесмы?
– Чья мать?
– Мужа Алиции.
– Но, Пернета, дорогая, – вмешалась Элеонора, – вспомни: Дживан Верачой умер в тысяча восемьсот двадцатом, как же его вдова могла вторично выйти замуж в тысяча восемьсот шестнадцатом?
Эмануэль только языком поцокал и поспешил ретироваться. Пернета не сдавалась:
– Но ведь Роза Берчой – свекровь Алиции, это же ясно!
– Ах, значит, ты имеешь в виду Эдмунда Сорентая, а не Александра! – воскликнула Элеонора. – И это ее отец умер в тысяча восемьсот двадцатом!
Эмануэль, брат Гвиде, хоть и был на шесть лет моложе, успел поседеть значительно сильнее; лицо у него было более живым и не таким суровым, как у старшего брата. Он не отличался особым честолюбием, был весьма общителен, а потому предпочел жить в городе, где имел адвокатскую практику. Он уже дважды отказывался от поста городского судьи, так ничем своего отказа и не объяснив, и большинство приписывало этот отказ его лености. Он действительно был довольно-таки ленив, весьма ироничен и, подшучивая над самим собой, называл себя «исключительно бесполезной и удачливой личностью». Он всегда считался с мнением брата и во всем с ним советовался, но соглашался с Гвиде неохотно. Богатый адвокатский опыт, постоянная работа с людьми сделали его характер обтекаемым и дипломатичным, тогда как Гвиде, точно кремень с острыми краями, сохранил и прежнюю твердость, и прежнюю неуступчивость. У Эмануэля и Пернеты детей не было: их единственный ребенок родился мертвым. Пернета, женщина живая, несколько суховатая и куда более желчная и ироничная, чем Эмануэль, никогда не комментировала заявления своего мужа насчет его необычайной удачливости и никогда не вмешивалась в воспитание своих племянников, хотя Итале и Лаура были для нее единственным светом в окошке, она обожала их и гордилась ими.
Итале присоединился к дяде, стоящему у перил на том краю балкона, возле которого высился старый кипарис. Лицо юноши пылало, волосы растрепались, галстук съехал набок.
– Ты читал в «Курьере-Меркурии» о заседании парламента провинции Полана? – спросил он Эмануэля. – Между прочим, я имел в виду как раз автора этой статьи, Стефана Орагона.
– Да-да, припоминаю. Значит, это он будет депутатом, если ассамблея все-таки состоится?
– Да. И такой человек нам сейчас очень нужен: он, как Дантон, способен говорить от имени всего народа.
– Ну а народ-то хочет, чтоб говорили от его имени?
Подобных вопросов члены общества «Амиктийя» друг другу не задавали, и Итале смутился.
– И что ты имеешь в виду под словом «народ»? – продолжал наступать Эмануэль, закрепляя достигнутый успех. – Наш класс землевладельцев вряд ли можно назвать «народом»… Так кто это? Купцы? Крестьяне? Городской сброд? По-моему, у всех классов и групп свои цели и требования…
– Это не совсем так… – задумчиво проговорил Итале. – Невежество необразованных ограничивает пользу образования у тех, кто его получил; нельзя ограничить свет. Нельзя построить равенство иначе как на фундаменте равенства – за четыре тысячи лет это доказывалось снова и снова…
– Доказывалось? – переспросил Эмануэль, и они схлестнулись не на шутку.
Их споры всегда начинались так – Эмануэль спокойно заставлял Итале защищать собственное мнение, и всегда в итоге Итале терял контроль над собой и брал верх исключительно за счет добродушной красноречивой убежденности. Тогда Эмануэль менял тактику и провоцировал у племянника иную форму защиты; и все это время он считал, будто делает это потому, что хочет уберечь юношу от повторения чужих мыслей, а вовсе не потому, что и сам жаждет слышать и произносить слова: наша страна, наши права, наша свобода!
Элеонора попросила Итале принести Пернете шаль, которую та забыла в двуколке. Когда он вернулся, закат уже догорел, легкий ветерок был полон ночных ароматов, небо, горы и озеро тонули в глубокой синеве, разрезанной светящимся туманом. Платье Лауры проступало на фоне кустов тем же мглистым сиянием.
– Ты похожа на жену Лота, – сказал ей брат.
– У тебя сейчас булавка из галстука выпадет! – заметила она в ответ.
– Ты не можешь видеть булавку в темноте.
– А мне и не нужно: с тех пор как ты увлекся Байроном, у тебя галстук вечно не в порядке.
Лаура, высокая, худенькая, с красивыми руками – длинные сильные пальцы, гибкие изящные запястья, – страстно любила брата. Но в жизни ею неумолимо правила исключительная душевная прямота. Если Элеонора порой и заставляла сына спуститься с облаков на землю, то ненамеренно. А вот Лаура, обожавшая Итале и нетерпимая к его недостаткам, всегда делала это сознательно. Ей хотелось, чтобы брат всегда оставался самим собой, поскольку, на ее взгляд, он сам был выше любых модных течений, мнений и авторитетов. Очень мягкая по натуре и совершенно лишенная высокомерия, девятнадцатилетняя Лаура была в этом так же бескомпромиссна, как ее отец. Итале ценил мнение сестры о своей персоне выше всех прочих, но сейчас ее слова больно его задели, потому что их разговор слушала Пьера Вальторскар. Торопливо поправив галстук, он с независимым видом заявил:
– Не знаю, отчего ты решила, что я хочу подражать лорду Байрону в чем-либо, кроме, быть может, его смерти. Он, несомненно, умер героем. Однако поэзия его тривиальна.
– Хотя прошлым летом ты заставил меня читать его «Манфреда»! И сегодня тоже его цитировал – «твои какие-то там крылья…»!
– «И крылья твоей бури улеглись». Но это вовсе не Байрон, это Эстенскар! Неужели ты не читала его «Оды»?
– Нет, – смутилась Лаура.
– Я читала, – сказала Пьера.
– Значит, ты знаешь, чем они отличаются друг от друга!
– Нет. Лорда Байрона я не читала; даже в переводе. По-моему, папа эту книжку куда-то спрятал! – Пьера говорила очень тихо.
– Зато ты читала Эстенскара! Тебе ведь понравилось, верно? Например, его «Орел»… Там в конце есть прекрасные строки:
- Но и в неволе видишь ты века иные,
- Что твоему открыты взору,
- Подобно небесам…
– Но кого все-таки Эстенскар имеет в виду? – наивно спросила Лаура, по-прежнему смущенная.
– Разумеется, Наполеона! – рассердился Итале.
– Ах, дорогой, снова ты об этом Наполеоне! – вмешалась в их разговор Элеонора. – Будь так добр, принеси и мне шаль! Она, должно быть, в прихожей. Или спроси у Касса, только он, наверно, сейчас обедает…
Итале принес матери шаль и немного постоял у ее кресла, словно не зная, куда идти дальше. С одной стороны, следовало бы вернуться к дяде, который все еще стоял у перил, и продолжить спор с ним, отстаивая свои позиции разумно, по-мужски; возможно, тогда он смог бы доказать Пьере, а заодно и самому себе, что только в ее обществе он так ребячлив, потому что сама она совсем еще ребенок. С другой стороны, ему очень хотелось еще поговорить с девушками.
Мать подняла голову и посмотрела на него.
– И когда только ты успел так вырасти? – удивленно и любовно спросила она.
На ее лицо из окон гостиной падал луч света. Когда Элеонора улыбалась, ее верхняя губа немножко нависала над нижней, отчего лицо приобретало застенчивое и одновременно чуть лукавое выражение; в такие минуты она была просто очаровательна, и Итале даже рассмеялся от удовольствия, глядя на мать. Она тоже засмеялась – в ответ и еще потому, что сын вдруг показался ей невероятно высоким.
Граф Орлант подошел к девушкам и, ласково коснувшись волос дочери, спросил:
– Ты не замерзла, контесина?
– Нет, папа. Здесь так хорошо!
– По-моему, нам пора в дом, – сказала Элеонора, не двигаясь с места.
– А что насчет пикника в сосновом лесу? – спросила Пернета. – Нам его все лето обещают.
– Ох, я совсем забыла! Но если угодно, можно поехать хоть завтра, хорошая погода еще постоит, правда, дорогой?
– Я думаю, да, – кивнул Гвиде, сидевший с нею рядом и погруженный в собственные мысли.
Ему не нравились споры, которые Итале и Эмануэль вели за столом. Он вообще с презрением относился ко всяким политическим дискуссиям. Некоторые из его ближайших соседей, интересовавшиеся политикой, правда исключительно в пределах родной провинции, и никак не дальше, в свою очередь презирали его за это, повторяя: «Ну, этот Сорде носом в свою землю уткнулся и глаз от борозды не поднимет!» Другие им возражали, говоря даже с некоторой завистью: «Гвиде – человек старой закваски, из хорошей семьи! Сорде – настоящие независимые думи!» – однако же соглашались с первыми в том, что во времена их отцов и дедов жить было куда проще. Сам-то Гвиде хорошо понимал, что уж его-то отец определенно к людям «старой закваски» не имел ни малейшего отношения. Он помнил, как часто прежде приходили отцу письма из Парижа, из Праги и Вены, как часто приезжали гости из Красноя и Айзнара, какие жаркие споры велись за обеденным столом и в библиотеке… И все же старый Итале никогда в местной политике не участвовал и никогда свои взгляды не высказывал иначе как в ответ на прямой вопрос. И за его молчанием, и за добровольной ссылкой в родное поместье угадывалось нечто большее, чем природная сдержанность; он определенно сделал сознательный выбор и твердо ему следовал. Чем было вызвано это решение – возможно, неким знанием о себе, возможно, горечью поражения, – Гвиде не знал. Дитя отцовского выбора, он никогда не спрашивал себя, правильно ли отец поступил, но теперь, впервые в жизни, был вынужден мысленно задать этот вопрос и задуматься, не было ли то, что он считал своей судьбой, тоже выбором, пусть и неосознанным. Так он сидел, мрачный, в теплых летних сумерках. Голоса и сына, и девушек текли мимо него, как вода. Молчала, впрочем, и сидевшая рядом с ним Пернета. Граф Орлант и Элеонора присоединились к Эмануэлю, по-прежнему стоявшему у перил; молодежь тоже продолжала негромко беседовать.
– Может быть, я скажу глупость, – послышался голос Лауры, – но я не верю, что человек должен умереть, если он сам этого не хочет. То есть… я не могу поверить, что люди, если они действительно ни капельки не хотят умирать, все равно умрут. – Она улыбнулась; улыбка у нее была в точности как у матери. – Ну вот! Я же сказала, что это глупо.
– Нет, я тоже так думаю, – откликнулся Итале. Он считал необычайным, загадочным то, что у них с сестрой возникают одни и те же мысли. Он очень любил Лауру и восхищался ее способностью говорить о своих чувствах вслух, чего сам делать не решался. – Я не вижу причины, по которой людям стоило бы умирать, не вижу в смерти необходимости. Просто, наверное, люди в итоге устают и сдаются. Разве я не прав?
– Конечно прав! Смерть приходит извне – человек заболевает, или… ему камень на голову падает, – в общем, источник смерти не внутри самого человека.
– Верно. А если ты сам себе хозяин, то вполне можешь сказать ей: «Извините, я сейчас занят, приходите попозже, когда я с делами покончу!»
Все трое рассмеялись, и Лаура сказала:
– А это значит – никогда! Разве можно переделать все дела?
– Конечно нет – за каких-то семьдесят лет! Смешно! Если бы я мог прожить лет семьсот, я бы первые сто лет только думал – у меня никогда не хватало времени додумать свои мысли. А потом уже поступал бы исключительно разумно, а не спешил и не метался бы, не попадал бы каждый раз впросак.
– И чем бы ты тогда занялся? – спросила Пьера.
– Ну, например, сто лет я бы целиком пожертвовал на путешествия, объехал бы всю Европу, обе Америки, Китай…
– А я бы уехала туда, где ни одна живая душа меня не знает! – перебила его Лаура. – И для этого совсем не обязательно забираться так далеко – вполне сойдет даже Валь-Альтесма. Да, мне бы хотелось пожить среди чужих людей. И попутешествовать я бы, конечно, тоже хотела – увидеть Париж, вулканы Исландии…
– А я бы осталась здесь, – сказала Пьера. – Я бы скупила все земли вокруг озера, кроме ваших, и заставила бы всех неприятных людей отсюда уехать. И у меня была бы большая семья. Человек пятнадцать детей. И каждый год тридцать первого июля они бы съезжались домой отовсюду, где бы ни были, и мы бы устраивали на берегу озера потрясающий праздник, катались бы на лодках…
– А я привез бы для этого праздника из Китая разные хлопушки и фейерверки.
– А я бы привезла из Исландии вулканы, – подхватила Лаура, и снова все засмеялись.
– А что бы вы сделали, если б могли загадать три желания? – спросила Пьера.
– Пожелала бы еще триста желаний, – сказала Лаура.
– Это нельзя. Всегда бывает только три желания.
– Ну, тогда не знаю. А ты бы что пожелал, Итале?
– Нос покороче, – мрачно ответствовал он, немного подумав. – Чтобы люди на него внимания не обращали. И еще – присутствовать на коронации Матиаса.
– Это два. А третье желание?
– Да мне и двух хватит, – усмехнулся Итале. – А третье я бы отдал Пьере, ей бы, по-моему, оно больше пригодилось.
– Нет, трех мне вполне достаточно, – возразила Пьера, но сказать, каковы же эти ее три желания, не захотела.
– Ладно, – кивнула Лаура, – тогда я забираю твое третье желание, Итале, и хочу, чтобы все мы и правда прожили по семьсот лет!
– И каждое лето возвращались домой – на праздники, которые будет устраивать Пьера, – прибавил Итале.
– Что они там болтают? Ты что-нибудь понимаешь, Пернета? – спросила Элеонора, прислушавшись к их разговору.
– Да я и не слушала, Леле, – отозвалась ее невестка. У Пернеты был очень красивый голос – глубокое контральто. – Как всегда, несут всякую бессмыслицу.
– Это не бо́льшая бессмыслица, чем обсуждать, чья там свекровь приходится дядюшкой чьей-то троюродной сватье! – парировала Лаура.
– И куда глубокомысленнее! – поддержал ее брат.
– Кстати, мы ведь так и не решили, какое платье сшить Пьере для бала у Сорентаев! – поспешила сменить тему Элеонора. – Когда состоится бал? Двадцатого?
– Двадцать второго, – ответили девушки хором и с энтузиазмом принялись рассуждать о тафте, органзе и швейцарском муслине, о шарфах, накидках и прическах «по-гречески»…
– Тебе очень пойдет белый муслин с крохотными зелененькими мушками и с летящим шарфом – я тебе покажу, у Пернеты в журнале есть такая картинка…
– Но мама! Это же допотопный журнал! Мода трехлетней давности! – возразила Лаура.
– Дорогая моя! Если б мы у себя в горах и одевались по моде, кто бы это заметил? – без тени строгости заметила Элеонора. Она когда-то считалась одной из самых красивых девушек Солария и пользовалась большим успехом, однако, выйдя замуж за Гвиде Сорде, без оглядки «оставила все это там, внизу». – По-моему, летящий шарф во время танца – это просто прелестно! А тебе, Пьера, эта мысль нравится?
Мать Пьеры умерла четырнадцать лет назад во время эпидемии холеры, унесшей также и младшую дочку Сорде, тогда еще совсем крошку. В доме графа Орланта хватало слуг, нянек, всяких двоюродных бабушек и прочих родственниц матери, однако Элеонора сразу же взяла заботу о двухлетней Пьере в свои руки – взяла так решительно, словно имела на это все права. Граф Орлант, горюя о жене и тревожась за малышку, был Элеоноре чрезвычайно благодарен и вскоре уже не осмеливался что-либо решать относительно собственной дочери, не посоветовавшись с Элеонорой, а она, в свою очередь, никогда не пыталась претендовать в глазах девочки на роль единственной и любимой матери. Они с Пьерой любили друг друга легко и весело, и отношения их были куда более дружескими, чем у многих матерей с их дочерями.
Пьера, как всегда, ответила не сразу и отнеслась к вопросу Элеоноры очень серьезно.
– Я бы… – сказала она и еще немного подумала, – хотела светло-серое шелковое платье с золотистыми прошивками, как на той картинке, где изображен королевский бал, и к нему золотистый шарф. И золоченые туфельки с розочками.
– Вот как? – удивилась Элеонора.
Граф Орлант слушал их молча. Каждый раз он с трудом преодолевал изумление при мысли о том, что это его дочь, его Пьера, которая вчера еще была простодушна, как малое дитя, но в которой сегодня он уже – совершенно неожиданно для себя – замечал расцвет целого мира совершенно незнакомых ему мыслей, знаний и чувств человека, стоявшего на пороге своей взрослой жизни. Когда, как успела эта девочка в свои шестнадцать лет так повзрослеть? И хотя граф полностью доверял любящему сердечку Пьеры, он частенько испытывал нечто вроде страха, смешанного с изумлением. И сейчас снова эти чувства овладели им: он живо представил ее себе, принцессу в шелках и золоте!..
– Звучит просто прелестно, – заметил он, робко высказывая свое мнение перед дамами.
Мудрые дамы в ответ лишь уклончиво вздохнули.
– Тогда, может быть, золотистый шарф с платьем из белой органзы? – вновь предложила Элеонора, пытаясь смягчить вето; Вальторскары, отец и дочь, приняли ее совет молча и продолжали слушать остальных, как бы оставаясь при своем, тайном и единодушном мнении относительно прекрасного.
Гвиде и Эмануэль беседовали об охоте, лишь Итале примолк и не принимал участия в разговорах, напряженно думая о чем-то своем. Еще в Соларии он решил, что в первый же вечер сообщит родным о принятом решении уехать в Красной: они не должны заблуждаться на его счет и думать, что он навсегда останется дома. Но прошло уже три недели, а он так ничего и не сказал. Когда, выскочив из почтовой кареты в Партачейке, он широко распахнул дверь «Золотого льва» и вошел, то сразу увидел отца, который обернулся ему навстречу. Лицо Гвиде светилось той редкой счастливой улыбкой, которая делала его совсем другим – уязвимым, стеснительным. Вспомнив об этом, Итале даже руки стиснул, невольно протестуя против подобной несправедливости. Как непростительно со стороны отца – так радоваться встрече с ним и показывать всем, как он рад, что сын наконец вернулся домой! Ведь невозможно поступать по-мужски, честно говорить и делать то, что должен, когда все со своей невысказанной любовью толпятся вокруг, цепляются за тебя, связывают по рукам и ногам? И надо признать, он и сам виноват, ибо не может побороть и свои чувства к этим людям с их неизменной нежностью и преданностью, к этому дому, где с детства его окружало счастье, где родилось столько надежд. Даже сама здешняя земля держала его крепче, чем что-либо иное в том, другом мире: холмы, покрытые виноградниками, длинная величественная цепь гор на фоне небес… Как ему покинуть все это? Точил ли он косу, или правил рулевым веслом, пересекая озеро, или читал захватывающую книгу – обо всем мог он в любой момент позабыть и невидящим взором впериться в просторы озера Малафрена, чувствуя, как тяжело было бы ему расстаться с милыми сердцу краями. Он был словно опутан чарами, разорвать которые у него не хватало сил; от этих чар можно было лишь бежать. Они становились особенно сильными во время некоторых разговоров… но об этом он старался даже не думать. Нет, это действительно несправедливо! Это просто невыносимо! С какой стати?! Неужели он влюблен в эту девочку, совершеннейшего ребенка?! Нет, и речи быть не может! Всякие там детские ухаживания, дружба, безмолвное понимание друг друга – все это он давно перерос! Если уж влюбляться, так по-настоящему, и такую, взрослую любовь, любовь мужчины к женщине, он непременно найдет в Красное! Решено: он должен отправиться в Красной! И, отметая все сомнения, он вновь повторил про себя решительно и печально: «Раз надо, так тому и быть».
– Ты сумел ее выследить, Итале? – ворвался в его мечты голос Эмануэля; он имел в виду волчицу, которую видели на горе Сан-Лоренц.
– Нет, не удалось, – машинально ответил Итале и, произнося эти слова, решил непременно поговорить с отцом.
Испытание предстояло суровое, и для начала он побеседовал об этом с дядей, выждав, когда все остальные уйдут с балкона в дом. Эмануэль, похоже, ничуть не удивился. Постаравшись полностью уяснить планы Итале – отъезд в Красной и поиски возможностей как-то применить свои силы и знания во имя патриотических целей, – он еще некоторое время внимательно слушал пылкие речи племянника, наблюдая за ним, потом задумчиво поцокал языком и наконец сказал:
– Все это весьма неопределенно и, безусловно, опасно – на мой взгляд, разумеется; впрочем, юристам свойственно в первую очередь видеть дурную сторону вещей… Не знаю, право, что скажет Гвиде. Боюсь, он сочтет все это совершенно бессмысленным, как бы ты ни старался объяснить ему цели и причины отъезда.
– Да нет, он, конечно же, меня поймет! Если станет слушать.
– Не станет. Он целых двадцать лет ждал, когда вы начнете работать вместе. Скрепя сердце позволил тебе уехать на три года в южную долину, а ты хочешь преподнести ему такой сюрприз?.. Да я и сам не уверен, что ты до конца понимаешь то, к чему стремишься сейчас. По-моему, тобой руководит не разум, а страстное стремление властвовать над собственной судьбой. В этом ты очень похож на отца. Только твое теперешнее желание весьма отличается от его желаний и полностью им противоположно. Ты надеешься с позиций разума обсудить с ним эту проблему и прийти к некоему соглашению? Сомневаюсь, что тебе это удастся!
– Но отец верит в служение долгу, в твердые принципы. Конечно же, я бы и сам с радостью остался здесь, но поставленная передо мной цель гораздо важнее личных моих желаний, и я знаю: это отец поймет. Я не могу остаться здесь, пока не волен буду сам выбирать, оставаться мне или уезжать.
– Значит, ты намерен завоевать для себя свободу выбора, служа чужим нуждам?
– Я не стану ее завоевывать, – ответил Итале. – Свобода как раз и состоит в том, чтобы делать то, что можешь и хочешь делать лучше других и непременно обязан выполнить. Разве я не прав? Свобода – не вещь, которой можно владеть или держать при себе. Это человеческая деятельность, это сама жизнь! Но разве можно жить в тюрьме чужой неволи? Я не смогу жить для себя до тех пор, пока остальные не получат свободу жить так же!
– До второго пришествия, – пробормотал с усмешкой и затаенной болью Эмануэль.
Перед ними лежало озеро – темное, спокойное; волны со слабым плеском лизали стены под балконом и сваи лодочного сарая. На востоке массивные очертания гор отчетливо вырисовывались на светлом, светящемся фоне небес: всходила луна. На западе были лишь тьма и звезды.
IV
– Э-ге-гей! Назад!
Крик графа громко разнесся над сверкающей гладью озера, но со второй лодки ответа не последовало, и остроконечный коричневый парус продолжал как ни в чем не бывало скользить по волнам далеко впереди.
– Крикните еще раз, граф Орлант, пожалуйста!
– Все равно не услышат, – заметила Пернета.
– О господи, теперь нам «Фальконе» ни за что не догнать. Итале! Поворачивай назад, дорогой!
– Услышали, поворачивают! – воскликнул граф Орлант; он морщился и щурил глаза – так ослепительно сверкала под солнцем вода.
Островерхий коричневый парус вдали, похожий на крыло ястреба, описал полукруг: лодка Итале пошла на разворот. Граф тоже развернул тяжеловатую «Мазеппу»[15] по ветру и двинулся к берегу. Вскоре легкая «Фальконе» стала их нагонять, и они услышали голос Итале:
– Эгей!
– Эгей! – звонко ответила Элеонора; они перекликались, точно встревоженные перепелки. – Смотрите, какие тучи!.. Гроза собирается!.. Пора домой!
– У вас что-то случилось?
– Ничего у нас не случилось, просто домой пора! – вступила в переговоры и Пернета, указывая на вершину Сан-Лоренца, где клубились темные тучи.
– Но Лаура хотела пособирать грибы в Эвальде!
– О господи! Не могу я больше кричать… – пробормотала Элеонора. – Скажи им, Пернета, что ничего они пособирать не успеют: дождь вот-вот польет. А у меня в подвале и так уже два бочонка маринованных грибов…
С «Фальконе» до них долетел веселый смех, а потом послышался голос Эмануэля:
– Так как вы насчет грибов?
– Никаких грибов!
– Ну что, идем в Эвальде? – Это крикнул Итале, стоявший на носу лодки.
– Никаких грибов и никакого Эвальде! Немедленно домой! – неожиданно рявкнул граф Орлант; у него даже местный акцент усилился: так говорят крестьяне в горных селеньях.
Итале в ответ самым изысканным образом поклонился, исполнил несколько элегантных танцевальных па и вдруг… исчез!
– Господи, он же в воду свалился! – встревожилась Элеонора, но тут «Фальконе» поравнялась с ними, и все увидели, что Итале и Лаура просто склонились друг перед другом в глубоком поклоне, изображая одну из фигур менуэта. Когда «Мазеппа» наконец подошла к берегу, оказалось, что Эмануэль, Итале и девушки уже удобно устроились на балконе и ждут остальных. Итале что-то оживленно рассказывал; его синие глаза сверкали, лицо разрумянилось на ветру, и, глядя на него, Элеонора и Пернета переглянулись с гордостью и восхищением.
– Итале, дорогой, а что, скажи на милость, приключилось с твоей шляпой? – улыбнулась Пернета.
– Она же насквозь мокрая! – подхватила Элеонора. – Значит, ты все-таки свалился за борт?
Пьера вдруг расхохоталась:
– Он ею ловил!..
– Шляпой?
– Шляпой, – сказал Эмануэль, – а эти молодые дамы держали его за ноги и визжали: «Не лягайся! Не лягайся!»
– Но что именно он ловил?
– Мои перчатки! – еле выговорила Пьера.
– Когда Пьера услышала ваши крики, то со страху уронила в воду свои перчатки, а мне пришлось их вылавливать. Вы лучше скажите: куда делся мой черпак? У меня всегда на «Фальконе» черпак был! – Итале и девушки от смеха стали багровыми.
– Я же просил, чтобы мне позволили ехать вместе с вами на «Мазеппе»! – вставил Эмануэль.
– А ты, Лаура, конечно, зонтик даже не раскрыла! – с упреком заметила Элеонора. – Теперь у тебя все лицо будет в веснушках!
– Веснушки… – задумчиво промолвил граф Орлант. – Я помню, как-то раз, когда контесина была совсем крошкой, она весь день играла на солнце, и я потом насчитал у нее на носу целых восемнадцать веснушек! Впрочем, мне тогда казалось, что веснушки ей очень к лицу.
– О да, веснушки им обеим к лицу! И особенно хорошо они будут смотреться на балу у Сорентаев! У обеих физиономии будут как пасхальные яйца! – возмутилась Элеонора. – Не понимаю, с чего это вы так развеселились?
Итале искоса глянул на Пьеру, стоявшую к нему вполоборота: на нежной шейке под растрепавшимися на ветру локонами уже видны были три свеженькие симпатичные веснушки.
– Между прочим, ты, несчастный, так перчатки из воды выловить и не сумел! – упрекнула брата Лаура.
– А надо было держать меня как следует! – парировал Итале. – Все время носом в воду макали!
– А ты все время пузыри пускал! – вставила Пьера. Все трое снова залились смехом. – Ой, он так смешно шлепал по воде руками и… буль-буль-буль!..
Когда они наконец успокоились, утирая глаза, Элеонора, сдерживая улыбку, упрекнула:
– И как не стыдно так глупо вести себя! Неужели Гвиде еще не вернулся? Наверно, и на небо-то ни разу не взглянул…
– Элеонора, дорогая, – сказал Эмануэль, обнимая невестку за талию, – ведь ты двадцать семь лет прожила в Валь-Малафрене! Неужели ты до сих пор к здешним грозам не привыкла?
– Двадцать восемь, дорогой Эмануэль! Да, я двадцать восемь лет живу здесь, но все равно считаю, что просто возмутительно, когда самые лучшие летние дни испорчены ливнями и громовыми раскатами! И мне надоело, что Гвиде возвращается домой промокший насквозь! – Она тоже обняла Эмануэля, ласково ему улыбаясь, и они собрались было закружиться в танце, но тут со стороны Сан-Лоренца донесся могучий раскат грома.
– Ну вот, начинается! – воскликнул кто-то.
Гремело все сильнее; черно-серые тучи будто вскипали над вершиной горы и скатывались по ее склонам к озеру и усадьбе.
– Пойдемте-ка лучше в дом! – предложила Элеонора.
Оказалось, что Гвиде уже вернулся и стоял в гостиной у окна, выходившего на юг. Итале даже застыл на минутку в дверях, любуясь темным силуэтом отца на фоне освещаемого вспышками молний грозового неба.
– Самое время выпить чаю. Эва! – окликнула служанку Элеонора и исчезла в направлении кухни.
– Какой прекрасный день! – сказал граф Орлант, с наслаждением опускаясь в массивное и удобное старинное дубовое кресло. – Жаль, что вы с нами не поехали, Сорде!
– Ничего. Зато у меня вскоре будет несколько свободных дней, и я бы хотел, граф, чтобы вы посмотрели в работе моего нового сокола; его Рика натаскивает.
Соколиная охота, как и в старину, была самым распространенным развлечением в Монтайне. Гвиде с сыном были большими ее любителями, Эмануэль тоже охотился с удовольствием, а граф Орлант, хоть он и считался безусловно лучшим в здешних местах знатоком ловчих птиц, если честно, не слишком любил лазить по крутым горным склонам с крупной, тяжелой птицей на руке; к тому же он всегда испытывал некую робость, когда сокол смотрел на него своими жестокими немигающими глазами хищника.
– Жаль, что ты не взял птицу с собой, Итале, – продолжал между тем Гвиде. – Ей бы следовало полетать. Мне самому просто времени не хватает – у нас со Стари слишком много работы.
– В следующий раз возьму! – пообещал Итале.
Совесть его грызла, и он был очень благодарен матери, когда та прервала разговор о ловчих птицах и пригласила всех к столу.
Позвякивали чашки и блюдца: Элеонора и горничная Эва расставляли на столе посуду и печенье. Возбуждение, вызванное в душе Итале прогулкой на лодке, уже угасало; теперь он думал лишь об одном: сегодня же вечером нужно непременно поговорить с отцом! Он так и сидел, задумавшись и свесив руки с промокшей шляпой между коленями – точно гость, которому одинаково неловко и продолжать беседу, и уйти. Женщины, конечно, сразу почувствовали перемену в его настроении. Элеонора поглядывала на сына с тревогой. Лаура считала, что брат снова «задирает нос», считая себя «чересчур взрослым», и только поэтому больше не рассказывает ей о своих переживаниях. Подобное «предательство» возмущало ее. Одна Пернета ни о чем не беспокоилась и по-прежнему находила Итале очень милым и забавным, особенно с этой шляпой в руках, мокрой насквозь и перепачканной ряской; она была убеждена, что с их мальчиком никогда и ничего не случится. Ну а для Пьеры, сидевшей рядом с Итале на диване и тоже заметившей его странное молчание, куда важнее было то, что он одет в синий сюртук, который очень ему идет, что щеки его покрывает очень темный, даже чуть грубоватый загар, что этот красивый и милый юноша сидит рядом с нею… Дальше в своих мыслях она не шла. Вот если бы Итале заговорил, то его голос тоже стал бы частью этого невыразимого словами присутствия рядом, и тогда Пьера стала бы внимательно слушать то, что он говорит. Но он молчал, и она слушала его молчание. И думала о том, что никогда еще не была так счастлива и что эти мгновения никогда уж больше не повторятся. Ее радость была абсолютно чиста, не замутненная ни возрастом, ни привычками, ни жизненным опытом, но в то же время она была и абсолютно беззащитна. Пьера и сама не решалась как-либо управлять своим первым чувством, чистым и хрупким, как стекло, а если и чувствовала в Итале порой некое беспокойство, то считала, что и эта скрытая тревога, и некоторая его отчужденность связаны просто с ее собственным волнением, вызванным всего лишь радостным ощущением близости – всего лишь тем, что они вот так сидят рядышком на диване и пьют чай.
Граф Орлант тем временем вернулся, явно очень довольный, из библиотеки и с восхищением сказал:
– Какую все-таки прекрасную подборку книг по ботанике удалось сделать вашему отцу! Мне, право, очень жаль, что он не увлекался еще и астрономией… По-моему, ботаника ни у кого в вашей семье особого интереса не вызывает, верно?
– Итале все время в библиотеке торчит! Но занимается явно не ботаникой! – засмеялась Лаура, надеясь как-то растормошить брата. – Помнишь, Итале, как дедушка в саду учил тебя, как по-латыни называются разные растения? Только ты теперь, наверно, все уже позабыл…
– Не все! – вмешалась Элеонора. – Итале всегда может напомнить мне название того экзотического растения, что растет с восточной стороны нашего дома. Я вечно его забываю. Как, кстати, оно называется?
– Mandevilia suaveolens, – машинально откликнулся Итале.
Стекла в гостиной после короткого, но бурного ливня совершенно запотели. Гром доносился уже издалека; сквозь струи дождя над озером просвечивали золотые лучи солнца.
– А знаете, этим летом грозы даже приятны: они освежают воздух, он становится более прозрачным…
– И мне всегда после грозы удается сделать прекрасные наблюдения в телескоп! – подхватил граф Орлант.
Эмануэль тут же стал расспрашивать его об успехах в астрономии. А Итале совершенно неожиданно для себя самого повернулся к Пьере и спросил:
– А ты еще что-нибудь Эстенскара читала?
– Нет, только «Оды», а что?
– Хочешь прочесть «Ливни Кареша»? Очень хорошая книга! Могу дать.
– Если… если папа позволит.
Итале нахмурился:
– Эстенскар – великий поэт! И благородный человек. Запрет на его стихи налагает страх, но лишь ленивые принимают запрет. А ты свою свободу должна отстаивать! Это не только твое право, но и твоя обязанность.
Шестнадцатилетняя Пьера сплела по-детски пухлые пальцы и осторожно, чуть повернув кудрявую головку на гибкой шее, уже покрытой весенними веснушками, посмотрела на отца. До них долетели слова графа: «…но если комета подойдет слишком близко к Земле, то неизвестно…» Потом Пьера перевела взгляд на Итале и пообещала:
– Хорошо, я буду отстаивать свою свободу. – Она подумала и прибавила: – Папа очень любит, когда я рассказываю ему о прочитанных книгах… Хотя, по-моему, это все-таки он спрятал от меня сочинения лорда Байрона! Впрочем, вряд ли у него хватило бы духу по-настоящему что-то мне запретить…
– Я ведь не твоего отца имел в виду, Пьера. Свобода… не имеет отношения к конкретной личности! Но мне все-таки очень хотелось бы, чтобы ты прочла эту книгу. Если ты сама этого хочешь, конечно. Я уверен, она тебе понравится! – закончил он почти умоляющим тоном. Почему-то этот разговор, как и все происходящее сегодня, казался ему невероятно важным.
– Я бы очень хотела прочитать ее.
Итале хотел уже бежать к себе, чтобы принести книгу, но Пьера остановила его:
– Ты ведь заедешь к нам во вторник вечером? Вот и захвати ее с собой. Папа тогда ничего не заметит и ни о чем меня не спросит.
Он некоторое время колебался.
– Нет, лучше возьми сейчас.
Пьера была озадачена, но принесенную им книгу взяла и не спросила, что может помешать ему приехать в Вальторсу вечером во вторник.
Все вместе они вышли из дома – одни уезжали, другие провожали. Бредя по тропинке, окутанной дивными ароматами вечера, словно промытого ливнем, Пьера спросила, останавливаясь возле одного из благоухающих кустов:
– Это и есть та самая mandevilia?..
– Suaveolens, – с улыбкой подсказал Итале, который шел за нею следом.
Эмануэль и Пернета возвращались к себе в Партачейку; проплывавшие мимо холмы, поросшие лесом, казались черными сгустками тьмы в серых полях, что тянулись вдоль дороги; лошадиные копыта глухо постукивали в тишине. Первой нарушила молчание Пернета:
– По-моему, наш дорогой племянник вернулся с прогулки в дурном настроении.
– Ммм? – невразумительно промычал в ответ ее супруг.
– Вон сова!
– Что?
– Сова пролетела.
– Ммм…
– Мне кажется, он и Пьера…
– Ну что ты! Девочке всего шестнадцать!
– Мне, между прочим, было девять, когда я впервые на тебя внимание обратила!
– Ты хочешь сказать, они влюблены друг в друга?
– Конечно нет! Но почему ты никогда не хочешь признать, что кто-то в кого-то может быть влюблен?
– Я просто не знаю, что это означает.
– Вот как? Хм… – Теперь уже Пернета не находила слов.
– Нет, пожалуй, однажды я это все-таки видел. Это происходило с Гвиде в девяносто седьмом. Он был похож на новорожденного, и весь мир вокруг ему казался новым и прекрасным. В итоге они с Элеонорой поженились. Не помню, правда, как долго у него продолжалось то нелепое состояние. Месяцев восемь, десять… Хотя обычно и этот срок люди не выдерживают. Так, несколько часов восторга… Если такой человек вообще способен восторгаться. И вообще, эта ваша влюбленность – просто чушь!
– Ах ты, смешной брюзгливый старикашка! – с невыразимой нежностью сказала Пернета. – А все-таки Итале и Пьера…
– Ну еще бы! Между прочим, это было бы вполне естественно. Вот только Итале уезжает.
– Уезжает?
– Да, в Красной.
Лошадь всхрапнула, начиная долгий подъем к перевалу.
– Но почему вдруг?
– Он мечтает сотрудничать с одной из патриотических групп.
– Он хочет заняться политикой? Но ведь ею можно заниматься и здесь, а заодно и работу какую-нибудь подыскать к дому поближе. Поступить в какую-нибудь контору…
– Знаешь, дорогая, занятия политикой в провинции – игра довольно жульническая, да и играют в нее в основном богатые бездельники или профессиональные незнайки.
– Это так, но ведь… – Пернета хотела сказать, что все политические игры таковы, и Эмануэль понял ее без слов.
– Видишь ли, Итале ищет себе не место, где он мог бы служить; он ищет таких людей, вместе с которыми можно было бы участвовать в революционной деятельности.
– То есть всяких «совенскаристов»? – задумчиво спросила Пернета. – Вроде того писателя из Айзнара, которого упрятали в тюрьму?
– Вот именно. И ты прекрасно знаешь, что эти люди не обычные преступники. По большей части это люди благородного происхождения и приходские священники, насколько я понимаю. В этот процесс втянуто множество приличных людей, Пернета, причем по всей Европе. Я, правда, их не знаю… А впрочем, я в этом не слишком разбираюсь! – И Эмануэль зачем-то сердито дернул за повод своего послушного и смирного коня.
– А Гвиде знает?
– Помнишь, как взлетела на воздух мельница Джулиана?
Она изумленно уставилась на него и молча кивнула. Потом спросила:
– Когда Итале сказал тебе?
– Вчера вечером.
– И ты его поддержал?
– Я? Чтобы я в пятьдесят лет стал поддерживать двадцатидвухлетнего мальчишку, который намерен переделать мир? Чушь какая!
– Его отъезд разобьет Элеоноре сердце!
– Ничего, не разобьет. Знаю я вас, женщин! А в итоге – чем больше будет риск, чем больше глупостей совершит этот мальчишка, тем больше вы будете им гордиться. Но вот Гвиде!.. Для Гвиде будущее заключается в его сыне. Каково ему будет видеть, как рушатся все его надежды, как само его будущее подвергается чудовищному риску…
– У мальчика есть собственное будущее! – сурово возразила Пернета. – Да и насколько в действительности велик этот риск?
– Понятия не имею! Даже думать об этом не хочу! Я и так слишком много думаю о том, что может угрожать человеческой жизни, о том, какие с этим связаны переживания… Вот почему я на веки вечные остался всего лишь провинциальным адвокатом – не хватило мужества ни на что другое. И теперь-то уж точно не хватит – стар стал и не желаю собственный покой нарушать. Жаль только, что когда-то, когда мне тоже было лет двадцать, мне некому было сказать: «Это для меня очень важно!» И все переменить. Даже если бы это и не было так уж важно в действительности.
Пернета легко, но решительно взяла мужа за руку, однако ничего ему не сказала, и они продолжили путь через теплую ночь в Партачейку – немногочисленные разбросанные огоньки в долине за перевалом.
Примерно в это время Итале, стоя на нижней ступеньке лестницы, говорил:
– Это для меня очень важно, отец!
– Хорошо. Тогда пойдем в библиотеку.
За высокими окнами библиотеки ажурная листва деревьев казалась черной на фоне звездного неба. Гвиде зажег лампу и уселся за стол, в свое любимое кресло с резными, почерневшими от времени подлокотниками; это кресло было настоящей семейной реликвией, из мебели того дома, который в 1682 году построил прадед Гвиде, а век спустя перестроил его отец. Стол был завален документами; некоторые были написаны четким беглым почерком судебных писарей, умерших два века назад. То были документы поместья Сорде. Бо́льшую их часть составляли договоры с арендаторами и купчие на земли, приобретавшиеся поколениями. Итале, глядя, как Гвиде и Эмануэль работают с кипой составленных на латыни бумаг, чувствовал: вот оно, средневековье, темное, запутанное, сухое, лежащее под сухостью этой самой земли, дающей плод, земли, которой владеют, которую возделывают и сдают в аренду, земли, которая привязывает крестьянина к себе и дает свободу помещику, земли – источника жизни, ее основы и цели, ее начала и конца. Всему этому противопоставлялась стопка отпечатанных листов, на которые, кривясь, указывал Эмануэль: Закон о налогах 1825 года, четкий, точный, безличный, современный и в приложении к средневековью в виде кипы древних документов – бессмысленный. Вот Семья и Земля, вот – Государство и Единообразие, и между ними нет никакого моста – ни революционных перемен, ни взаимного обмена представителями, ни каких бы то ни было реформ!
Итале присел у дальнего, относительно пока свободного края длинного стола; здесь лежала только книга Руссо «Общественный договор». Ее он как раз и читал в последние дни. Сейчас он снова взял ее в руки и сказал, машинально перелистывая страницы:
– Раз уж Австрия хочет, чтобы у нас была наполеоновская налоговая система, было бы неплохо, если б она позволила нам довести до конца те реформы, которые начали здесь французы, тебе не кажется?
– Пожалуй. Если им необходимы деньги, почему бы не прийти за ними ко мне? Неужели они думают, будто крестьяне способны копить наличные? Горожане…
Крупное лицо Гвиде отчетливо выделялось на фоне книжных шкафов по стенам. Это было суровое, мужественное лицо, но Итале поразило некое его выражение, которое он никогда прежде сознательно не отмечал: выражение покоя. То было не внутреннее спокойствие, являющееся у определенных людей свойством характера – Гвиде никогда спокойным характером не отличался, – а некая благоприобретенная черта, дар времени, причем не только тех лет, что сам Гвиде прожил на свете, но и всех тех столетий, опыт которых он воспринял и сделал своим собственным. Итале явственно видел по лицу отца, что тот очень устал сегодня, но тем не менее хочет непременно, хотя и не без внутреннего страха, выслушать то, что Итале собирается ему сказать, ибо в основе характера Гвиде была неспешная, неколебимая, воспитанная многими поколениями воля, сдерживавшая проявление любых личных чувств.
– Я хотел бы попробовать кое-что объяснить тебе, папа… некоторое изменение в моих взглядах…
– Я знаю, что мы с тобой расходимся по определенным вопросам. Времена меняются. Нам не обязательно обо всем думать одинаково. Спорить о мнениях – лишь попусту тратить время.
– Но ведь некоторые идеи – это не просто чьи-то мнения! И разделять эти идеи означает им служить.
– Возможно. Но у меня нет желания спорить, Итале.
– У меня тоже. Ни малейшего. – Итале бросил на стол книгу Руссо; над кипой старых бумаг тут же поднялась туча пыли. – Но я бы все-таки не хотел поступаться своими принципами. Ты ведь не поступишься своими.
– Ну, у каждого своя голова на плечах. И временем своим каждый тоже волен распоряжаться по своему усмотрению. До тех пор, пока справляешься со своими обязанностями. А это у тебя вполне получается. Ты со своими обязанностями всегда справлялся.
– Мне бы хотелось справляться с ними совсем не здесь!
При этих словах Гвиде поднял голову, но ничего не сказал.
– Я должен уехать в Красной! – продолжал Итале.
– Ничего подобного. Никому ты не должен.
– Я попытаюсь объяснить…
– Мне не нужны объяснения.
– Если ты не желаешь слушать, какой вообще смысл в этом разговоре?
Итале вскочил. Гвиде тоже встал.
– Не уходи, – сказал он и медленно прошелся по комнате. Потом снова сел в свое украшенное резьбой кресло. Итале так и остался стоять. За домом в долине сонным голосом прокричал петух; на кухне что-то напевала старая Эва. – Значит, ты хочешь поехать в Красной?
Итале кивнул.
– И ты рассчитываешь получать у меня некую необходимую тебе сумму?
– Нет. Если, конечно, ты сам не захочешь дать мне денег.
– Не захочу.
Итале изо всех сил старался подавить одолевавшие его гнев и отчаяние – он чувствовал, что эти усилия буквально истощили его физически и морально. В какой-то момент ему даже захотелось подойти к отцу и совершенно по-детски попросить у него прощения: он готов был сделать все, что угодно, лишь бы отец не сердился и не огорчался. Он сел за стол, на прежнее место, и снова взял в руки книгу; повертел ее, полюбовался игрой света на изрядно потрепанном, но все еще сохранившем позолоту корешке и наконец сказал:
– Я найду работу. Мы с друзьями надеемся прокормиться писанием статей, журналистикой, а может быть, и сами начнем издавать какой-нибудь журнал.
– С какой целью?
– Во имя свободы, – тихо ответил Итале; на отца он не смотрел; сидел потупившись.
– Свободы? Для кого?
– Для всех нас.
– Значит, ты считаешь, что можешь раздавать свободу?
– Тем, что имею, я могу делиться.
– Слова, слова!
– Да все на свете – слова! И эта вот книга тоже. Но благодаря ей пала Бастилия! И в этих твоих документах тоже слова – о нашей земле, собственность на которую они подтверждают. Ты ведь жизнь свою положил за эту землю!
– Ты весьма красноречив.
Оба надолго умолкли.
Гвиде заговорил первым – осторожно, сдержанно:
– Позволь мне пояснить, как я понимаю твои планы. Ты хочешь отправиться в долину и вместе с другими делать некое общее дело, выдуманное не тобой, а кем-то еще, но, по твоим словам, принципиально для тебя важное. Ты считаешь это своим долгом, что мне совершенно непонятно. Гораздо более понятен мне тот долг, который ты обязан исполнить перед своей семьей и перед теми, кто живет на принадлежащей тебе земле. Кто будет управлять поместьем, когда я умру? Столичный журналист?
– Это несправедливо!
– Неправда. Существует большая разница между долгом и самооправданием.
– Почему ты говоришь со мной как с ребенком? Я уже не мальчик. Я такой, каким меня сделал ты, и я хорошо знаю, что такое долг. Я уважаю твои принципы, папа, а потому прошу тебя уважать и мои!
Гвиде некоторое время молчал, потом спросил:
– Уважать твои принципы? Но какие? Твои беспочвенные теории, те чужие слова, ради которых ты хочешь бросить все? Ты совершеннолетний, Итале, и, разумеется, можешь мне не подчиниться, но до двадцати пяти лет своим наследством ты воспользоваться не сможешь, слава богу!
– Я бы никогда и не посмел им воспользоваться против твоей воли…
– Да плевать тебе на мою волю! И на свое наследство тоже плевать! Ты же готов повернуться спиной ко всему, что я нажил тяжким трудом! Но раз все это не твое и не ты его наживал, так нечего на него и плевать! – Это поистине был крик души.
Итале в отчаянии пролепетал:
– Но я же не… Я же вернусь, если буду тебе нужен…
– Ты мне нужен сейчас. Но если решил уйти, так уходи.
– Хорошо, я уйду. – Итале встал. – Ты, конечно, можешь ничего мне не давать, но не в силах отнять у меня верность родному дому и тебе, папа… Придет время, когда ты это поймешь…
– О да, время, конечно, придет! – (Раскрытая книга Руссо полетела на пол, выпавший листок с оглавлением порхнул через всю комнату, точно испуганная птица.) – Только я вряд ли до этого доживу! И ты, скорее всего, тоже!
Оба задыхались от гнева; каждый считал другого неправым; и оба чувствовали, что больше им нечего сказать друг другу.
– Подумай обо всем как следует, – промолвил Гвиде сдавленным голосом, не глядя на Итале. – Возможно, больше нам с тобой объясняться не придется. А если ты все уже для себя решил, то чем скорее ты уедешь, тем лучше.
– Я уеду с почтовым дилижансом в пятницу.
Гвиде промолчал.
Итале поклонился и вышел из библиотеки.
На его серебряных часах было двадцать минут девятого. Они разговаривали всего несколько минут, а ему показалось – несколько часов.
– Это ты, Итале? – Мать, с которой он столкнулся у лестницы, смотрела на него удивленно. – А отец все еще в библиотеке?
– Да.
Он взлетел наверх и захлопнул за собой дверь. В его комнате царили синие сумерки; казалось, ее заполнила сама синева озерной глади; в этой теплой сказочной синеве обычные предметы казались расплывчатыми, точно колышемые водой водоросли у берегов озера Малафрена. Спокойствие этого неяркого, невесомого света приглушило и как бы вобрало в себя терзавшую Итале тоску; он почувствовал, что снова может свободно дышать. Но еще никогда в жизни не ощущал он такого одиночества и такой смертельной усталости.
V
Пятое августа было томительно жарким; такие дни обычно заканчиваются грозой. Поля жарились на солнце с раннего утра; озеро застыло, как стекло, красный солнечный диск кривился и плавился в выцветших небесах. Цикады пели на скошенных лугах, в пожелтевших хлебных полях, в садах и в роще, под могучими дубами. Когда тени от гор на западе достигли озера, нижний край неба приобрел мягкий синевато-сиреневый оттенок, в воздухе повисла легкая дымка, но по-прежнему не было ни ветерка, а озеро Малафрена казалось чашей, полной огня. Пьера Вальторскар медленно спускалась по лестнице – даже столь простое действие в такой бесконечно долгий августовский день казалось ей чем-то существенным, сложным, связанным с разнообразными и невнятными, почти неуловимыми мыслями и ощущениями. В доме, построенном из известняка и отделанном мрамором, было прохладно; о том, что сегодня такой жаркий день, свидетельствовали лишь чрезвычайная сухость воздуха, непрерывное пение цикад да расплавленное золото солнечных лучей, вливавшихся в щели закрытых ставней. Пьера была одета, как подобает взрослой женщине в ее родных краях: темно-красная юбка до полу, черный жилет, полотняная блузка с вышивкой у ворота. Пышные рукава блузки были на плечах заложены в двенадцать мелких застроченных складочек, что свидетельствовало о том, что она сшита в Валь-Малафрене. На блузке, сшитой в Валь-Альтесме, рукава на плечах были бы просто присборены; отличалась бы она также некоторыми элементами вышивки и кроя; у ворота, например, был бы цветочный орнамент, а не переплетение зеленых веток с сидящими на них птицами. В этом наряде все было как полагается, и Пьера всегда предпочитала его всем остальным своим платьям. Спускаясь по лестнице, она левой рукой ласково оглаживала юбку, радуясь ее гранатовому оттенку и ощущая шероховатость и прохладу домотканого полотна. Правая рука Пьеры скользила по мраморным перилам лестницы, отполированным временем настолько, что они казались намыленными. Девушка спускалась не спеша, щиколотками ощущая колыхание пышной юбки, а рукой – холод перил; она казалась погруженной в глубокие раздумья, хотя вряд ли могла бы сказать, о чем именно думает. Когда до конца лестницы оставалось всего четыре ступеньки, она принялась мурлыкать песенку «Красны ягоды на ветке осенью…», но на последней ступеньке умолкла, остановилась и бездумно провела пальцем по спине купидона, украшавшего стойку перил. Это был грубоватый, приземистый, провинциальный купидон, вырезанный из серого мрамора Монтайны. Сейчас он выглядел таким мрачным, точно у него болел живот. Пьера тронула ему живот, проверяя, не срыгнет ли, потом резко повернулась и снова помчалась по лестнице вверх. Взлетела она туда в пять раз быстрее, чем спустилась оттуда.
Верхняя гостиная была погружена в полумрак; здесь пахло пыльным бархатом. Пьера подошла к двери в комнату отца и прислушалась. Тишина. Граф Орлант еще спал. В такую жару он обычно весь день лежал на старом кожаном диване и дремал, хотя утверждал, что спать ни в коем случае не собирается. Пьера быстро сбежала по лестнице – только юбки прошелестели, когда она при резком повороте использовала купидона как точку опоры, – и направилась в комнату своей двоюродной бабушки. Или тетушки, как звали ее все в семье.
Тетушка – а слуги назвали ее графиня-тетушка – была очень стара. С тех пор как Пьера помнила себя, тетушка всегда была старой. Разумеется, у нее, как и у всех, тоже был день рождения, но она, видно, забыла точную дату, а вот Пьера помнила каждый свой день рождения, и эти дни всегда праздновались чрезвычайно шумно с тех пор, как ей стукнуло одиннадцать. Впрочем, какое значение имеет, исполнилось тебе девяносто пять или тебе все еще девяносто четыре? Тетушка вечно сидела в своем любимом кресле с прямой спинкой, одетая в черное платье, с серой шалью на плечах, и частенько прямо в кресле дремала. Лицо ее было покрыто густой сетью сухих морщинок, начинавшихся в уголках губ и глаз. Нос, скулы, впалые щеки были словно замаскированы этой тонкой сетью. Зубов у тетушки почти не осталось, губы запали, но глаза были такие же, как у внучатой племянницы: серые, прозрачные, ясные. Тетушка не спала и внимательно посмотрела на Пьеру, как бы вглядываясь в нее через ту пропасть в восемьдесят лет, что их разделяла.
– Скажи, тетушка, тебе никогда не снилось, что ты можешь летать?
– Нет, милая.
Тетушка почти всегда почему-то отвечала «нет».
– А я сегодня прилегла днем, и мне привиделось, будто я свободно парю в воздухе, и для этого нужно было всего лишь знать, что ты это можешь! И стоит это понять, как ты просто отталкиваешься от стены одним пальцем, вот так, задерживаешь дыхание и как бы шагаешь в воздух. Представляешь? А если хочешь направление изменить, то снова от чего-нибудь отталкиваешься и летишь в другую сторону. Я совершенно уверена, что взлетала и спускалась вниз, ничего не касаясь… Хочешь, я тебе шерсть подержу?
Руки у тетушки давно уже плохо слушались, ей было трудно вязать и вышивать, но по-прежнему нравилось держать в руках спицы и шерсть или пяльцы с иглой; порой она даже дремала над работой, но больше всего она любила сматывать шерсть или шелк в клубки. Пьере это занятие тоже очень нравилось. Она могла часами держать на растопыренных пальцах моток шерсти, глядя, как красная, синяя или зеленая нить мелькает в скрюченных, но все еще умелых пальцах тетушки, превращаясь в очередной клубок.
– Не сейчас, детка.
– А чаю выпить не хочешь?
Тетушка не ответила; она успела задремать, да и время пить чай еще не пришло. Пьера выскользнула из комнаты и заглянула на кухню. Кухня в доме была огромная, с низкими потолками, сильно затененная росшими снаружи дубами. Усадьба Вальторса была построена в 1710 году; от озера дом отгораживали старые деревья, а фасадом он, как и бо́льшая часть здешних домов, был обращен к долине и холмам предгорий. Только старый Итале Сорде построил себе дом над самой водой, и это всеми считалось одним из его заграничных чудачеств. В кухне Пьера обнаружила только кухарку Марию, которая потрошила курицу. Девушка подошла поближе и стала смотреть.
– Что это такое, Мария?
– Это зоб, контесина.
– Да в нем зерен полно!.. А это что?
– Яичко, контесина, вы что ж, яиц никогда не видели?
– Видела, но не внутри курицы. Ой, посмотри, там еще есть!
– Ох уж этот Маати! Вот дурень старый! Я ж ему что велела? Поймать коричневую пеструшку с белыми пятнышками! А он моей лучшей кьяссафонтской несушке голову отрубил! Она, конечно, старая уже была, да только неслась еще очень прилично. Посмотрите-ка: вон там сколько яичек, прям как бусы…
Пьера вместе с толстухой-кухаркой заглянула в пахнувшие кровью куриные внутренности – любопытство Пьеры разожгло на мгновение интерес и в старой Марии.
– Но как они все туда попали?
– Как же, а петух-то на что? – пожала плечами Мария.
– Да, я знаю… петух… – вздохнула Пьера и наморщила носик от запаха крови. – А ты сегодня что-нибудь печь будешь, Мария?
– Это в четверг-то?
– Ах да, конечно… Значит, не будешь. Я просто так спросила… А Стасио где?
– В поле.
– Все целый день в поле! С тем же успехом они могли умереть и попасть в рай! Хоть бы зима поскорее пришла!
Пьера покружилась по кухне, раздувая юбку колоколом, обследовала гигантский котел для супа, висевший у очага, и побрела прочь. Усадьба была безлюдна. Все работники были в поле – убирали сено с последнего покоса; Мария ничего интересного рассказать не могла, тетушка спала, граф тоже, гувернантка взяла выходной. В доме было пусто и скучно, и в гости к Лауре она отправиться не могла: завтра Итале собирался уезжать в Красной – наверное, навсегда. Пьера заглянула в гостиную на первом этаже; шторы на окнах были опущены, на мраморном камине торчали такие же мраморные купидоны, как на лестнице, натертый пол отчужденно блестел, а мебель застыла как мертвая. Пол показался ей очень холодным; ей даже захотелось лечь на него ничком, как она это делала в жаркие дни, когда была маленькой, но теперь, в длинной гранатовой юбке и вышитой блузке, она стала слишком взрослой, чтобы валяться посреди гостиной на животе, поэтому всего лишь села на широкий подоконник и принялась рассматривать в щель между ставнями пустой тенистый двор. Самое ужасное, думала она, что не с кем поговорить! И никто не объяснит ей то, в чем ей самой не разобраться. Например, она совершенно не представляла, что ей делать со своей бьющей через край жизненной силой… Пьера сидела неподвижно, поджав под себя ноги и придерживая рукой край льняной занавески, но видела лишь тот же угол двора да холмы у подножья горы Синвийя. Печаль, печаль, печаль наполняла ее душу; глубокая, всеобъемлющая, но не слишком острая грусть, какая всегда возникает в конце такого жаркого лета.
В доме Сорде тоже стояла тишина, но здесь под пеленой летнего оцепенения ощущалось все же некое движение: кто-то входил, выходил, слышались чьи-то голоса. В комнате Итале было жарко и душно; он настежь распахнул окно, и туда вместе со струей свежего воздуха проник солнечный луч и широкой полосой нахально разлегся на полу. Итале на луч внимания не обратил. Одетый в легкую рубашку с короткими рукавами, он весь взмок; влажные волосы стояли надо лбом вихрами. Он разбирал свои бумаги: бо́льшую часть укладывал в жестяной сундучок, а некоторые оставлял в стороне, намереваясь взять с собой. Покончив с этим, он задвинул сундучок под стол и, облегченно вздохнув, распрямился. Легкий ветерок впервые нарушил великую полуденную тишь, полосами легкой ряби пробежал по застывшему озеру и утих не сразу; верхний листок в стопке бумаг на письменном столе сделал попытку улететь, и Итале прихлопнул его рукой, машинально прочитав несколько строк: «На сей раз ты не сон, Свобода!..» Это были его стихи, посвященные революции в Неаполе; он написал их прошлой зимой, и в «Амиктийи» все нашли, что они весьма недурны. Передохнув, Итале принялся запихивать отложенные бумаги в раскрытый чемодан, лежавший на кровати. Слова Метастазио, обращенные к его возлюбленной, которые распевали на улицах Неаполя люди, едва глотнувшие свободы, вновь зазвучали у него в ушах: «Свободу я вкушаю, вкушаю не во сне…[16] Non sogno questa volta, non sogno libertà!» – он никак не мог перестать прислушиваться к надоевшей, точно треск кузнечиков, мелодии. Ветерок снова стих. Солнечный свет по-прежнему лежал на полу широкой полосой и казался невыносимо ярким.
В дверь постучали; он отозвался, и тут же вошла Лаура:
– Я принесла белье. Мама шьет тебе к завтрашнему дню рубашку.
– Хорошо. Спасибо.
– Тебе чем-нибудь помочь?
– Да нет, все уже уложено; остался только этот чемодан. – Он стал укладывать в чемодан чистые рубашки, стараясь чем-то занять себя в присутствии Лауры. Обоим было не по себе, и каждый прекрасно понимал, что сейчас чувствует другой.
– Дай-ка я. Ты совершенно неправильно их сложил.
– Пожалуйста. – Он предоставил Лауре возможность самой сложить рубашки.
– Пьера говорила, что у нее осталась какая-то твоя книга…
– А, Эстенскар… Ты потом его забери… Да и сама заодно почитай, тебе понравится. Только не пересылай мне книжку по почте: издание контрабандное. – Итале умолк и застыл, глядя в окно. – Сегодня, кажется, будет страшная гроза.
– Надеюсь. – Лаура встала рядом с братом, глядя, как на юго-западе, над Охотником, неторопливо собираются в пышную груду белоснежные облака.
– Ставлю десять против одного, что граф Орлант не успеет убрать свое сено с поля Арли! Каждый год, насколько я помню, он все пытается обогнать эти грозы…
– Надеюсь, гроза действительно будет сильная…
– Почему?
Никто, кроме Итале, не мог спросить это таким тоном и так улыбнуться, словно ответ ему известен заранее. И не существовало больше никого, с кем она могла бы поговорить на равных, с полным доверием. Были, конечно, родители, родственники, друзья, всех их она очень любила, но брат – только один!
– Мне бы тоже хотелось уехать! Так хотелось бы!
Он долго смотрел на нее, потом снова спросил: «Почему?» – но совсем иным тоном; в нем слышалась глубокая, осознанная и полная печали любовь.
– А почему ты сам уезжаешь?
– Я должен, Лаура.
– А я, значит, должна остаться…
Оба как бы не подвергали эти факты ни малейшему сомнению.
Среди всех женщин, таких желанных и так сильно его смущавших, даже пугавших, Лаура была только одна такая! Сестра.
– Пойдешь со мной в Эвальде, Лаура?
Пока он не уехал учиться в университет, они с Лаурой каждый год в день весеннего равноденствия на заре уплывали на другой берег озера, где в заливе Эвальде река, вырвавшись из горной пещеры, с высоты падает в озеро, а на берегу высится скала Отшельника, покрытая загадочными знаками. Граф Орлант считал, что эти знаки начертаны друидами, те же, кто сомневался в существовании друидов, утверждали, что знаками отмечено то место, где великий миссионер святой Италус читал проповеди языческим племенам Валь-Малафрены. Во всяком случае, у брата и сестры Сорде эта скала пробуждала, надо сказать, вполне «языческие» чувства; и для них в годы отрочества новый год по-настоящему начинался лишь после их совместного молчаливого путешествия на рассвете к другому берегу озера и тайного празднования дня равноденствия на этой скале, в утреннем тумане, пронизанном солнцем.
– Конечно!
– На «Фальконе» пойдем?
Она кивнула.
– А ты мне писать будешь? – вдруг спросил он.
– Буду. Если и ты будешь писать мне настоящие письма. А не всякую чушь, как раньше. Ты ведь мне за все это время ни одного настоящего письма не написал!
– Ну, я же не мог написать, что нахожусь под домашним арестом… И вообще, все вдруг стало так сложно…
И он наконец рассказал Лауре всю историю целиком – о Мюллере, Галлере и Генце. Когда вошла мать, Лаура и Итале хохотали вовсю, им даже стало стыдно, что они так развеселились: они знали, как сильно печалится Элеонора из-за отъезда Итале. Лаура тут же поспешно ретировалась. Элеонора протянула Итале рубашку, собственноручно ею сшитую и тщательно выглаженную.
– Вот, надень ее завтра. – Слова совершенно не соответствовали ее чувствам, но она привыкла к подобным несоответствиям; вот и сейчас она погладила рубашку, а не сына, потому что не в силах была сказать то, что хотела, а еще потому, что эти слова все равно ничего изменить не могли. Но он еще не привык смиряться.
– Мама, дорогая, ты же понимаешь… – Он запнулся.
– Надеюсь, что да, милый. Я хочу только одного: чтобы ты был счастлив. – Она заглянула в его чемодан. – Ты наденешь синий сюртук?
– Как я могу быть счастлив, если отец…
– Ты не должен на него сердиться, дорогой.
– Я и не сержусь. Но если бы только он… – Итале снова запнулся, потом набрался смелости и договорил: – Если бы он хотя бы попытался понять, что я хочу поступить по справедливости!
Элеонора молчала. Когда же наконец заговорила, то голос ее звучал по-прежнему мягко:
– И все-таки ты не должен на него сердиться, Итале.
– Поверь, я стараюсь изо всех сил! – воскликнул он так страстно и серьезно, что мать улыбнулась. – Но ведь он не желает даже как следует объясниться со мной…
– Не уверена, что вообще можно что-либо объяснить, – промолвила Элеонора. – И уж точно нельзя объяснить словами.
Она видела, что сын ей не верит. Немудрено. И она тоже когда-то верила, что люди могут быть абсолютно честны по отношению друг к другу, и отнюдь не считала, что стала лучше или умнее, эту веру утратив. Вот сейчас, например, если она хочет быть абсолютно честной, то должна умолять сына остаться дома, не покидать ее, ведь если он уедет, то никогда уже домой не вернется!.. Однако она лишь повторила:
– Ты наденешь синий сюртук? Утром в дилижансе может быть очень прохладно.
Итале с несчастным видом кивнул.
– Я хочу приготовить тебе кое-что в дорогу; Эва отложила отличный кусок ростбифа, – продолжала Элеонора. И тут же почувствовала при этих словах неколебимую реальность его отъезда – кусок холодного ростбифа, стук колес почтового дилижанса, пыль на дороге, по которой Итале увозят из дому, тишина столовой, где все они, Гвиде, Лаура и она сама, будут уже завтра сидеть без него, – и поспешила уйти, чтобы в одиночестве как-то справиться с невыносимой тоской.
Итале спустился в лодочный сарай на берегу; время у него еще было, и он решил получше укрепить румпель. Косые солнечные лучи ярко освещали дорогу и зеленую лужайку на склоне, чуть выше лодочного сарая, но над горой Охотник облака уже превратились в тяжелые набухшие тучи, а затянувшая озеро дымка приобрела зеленоватый оттенок. Укрепив румпель, Итале принялся вощить борта, чтобы хоть чем-то занять себя. В сарае стоял жаркий полумрак, пахло воском, отсыревшим деревом, водорослями. Сквозь щели в неструганых сосновых досках, которыми был крыт сарай, просачивались солнечные лучи, играя на воде. С дороги доносились голоса возвращавшихся домой. Кто-то затянул печальную песню:
- Красны ягоды на ветке осенью.
- Спи, любимая, крепко спи!
- Серой горлицы пенье доносится,
- Спи, пока не разбудят, спи…
Делать в сарае было больше нечего. Итале поднялся по заросшему травой склону и вышел на обсаженную тополями дорогу. Те косцы, что, видимо, убирали сено на северном поле, уже прошли; все, разумеется, было закончено вовремя – Гвиде редко позволял грозам застать его врасплох во время сенокоса. На дороге было пусто; потом показались старый Брон и Давид Анжеле; они возвращались с виноградников; с ними шла Марта, жена Астолфе. Мужчины, как всегда, были в темной рабочей одежде; они немного принаряжались лишь по праздникам, когда надевали белоснежные, ярко вышитые рубахи. Брон широко и неторопливо мерил землю своими длинными ногами, задумчивый, похожий на старого печального коня, еще сильного, но уже расходующего свои силы в соответствии с немалым возрастом – экономно и мудро. Молодой Давид Анжеле возле Брона выглядел каким-то незначительным. Рядом семенила Марта в темно-красной, цвета граната, юбке и вышитой блузке, и каждые ее два шага приходились как раз на один шаг Брона. Лет десять назад двадцатилетняя Марта была настоящей красоткой. А теперь на щеках и в углах губ у нее пролегли морщинки, зубы потемнели, а кое-где и выпали, но улыбка была по-прежнему светлой.
– Никак вы снова уезжаете, дом Итаал! – спросила она юношу.
– Да, Марта, завтра.
Конечно же, все знали, что дом Гвиид и дом Итаал повздорили. Давид Анжеле лукаво глянул на Итале; Брон хранил молчание, но лишь одна Марта знала, как тактично продолжить опасный разговор:
– Только нынче вы ведь в королевскую столицу едете, дом Итаал, верно? Так мне Давид Анжеле сказал.
– Так дом Гвиид сказал молодому Кассу! – поспешно поправил ее Давид Анжеле, снимая с себя всяческую ответственность.
– Большой, должно быть, город! – продолжала Марта, явно не испытывая ни малейшего желания этот город повидать. – А народу там, говорят, что мух на сахаре!
– Только тебе, Марта, не стоило бы называть столицу «королевской», – заметил молодой виноградарь, лукаво покосившись на Итале. – Ты же знаешь, там теперь никакого короля нет!
– Зато там сидит эта заморская герцогиня! И нечего меня учить, парень. Как мне нравится называть столицу, так я ее и называю! Как встарь, как моя мать ее называла. А что, дядюшка, или я не права?
– Права, права, – сумрачно подтвердил старый Брон, не замедляя шага.
Итале спросил Марту, как поживают три ее маленькие дочки. Она в ответ рассмеялась и пояснила, что всегда смеется, когда о ее девочках спрашивают, ведь они ни разу ей повода заплакать не дали. С Броном Итале поговорил о видах на урожай винограда и о новых посадках орийской лозы. Итале всю жизнь считал себя учеником и верным последователем Брона в том, что касалось искусства виноградарства. Вскоре они вышли на Вдовью дорогу, и Марта сказала:
– Тут вам сворачивать, дом Итаал, так что желаю вам доброго пути! Храни вас Господь! – И она, постаревшая, пополневшая, беззубая, улыбнулась ему прежней, молодой и светлой улыбкой.
Особенно тепло Итале пожал руку Давиду Анжеле – ему было неловко: он почему-то испытывал к этому молодому крестьянину неприязнь. Наконец он снова повернулся к Брону:
– Когда я вернусь, Брон…
– Да, конечно, вернетесь!
Глаза их встретились. Итале показалось – а может, он просто очень хотел, чтобы это было так? – что старик все понимает без слов и знает о нем, Итале, куда больше, чем он сам. Просто Брон не испытывал потребности говорить о таких вещах вслух. Быстро простившись со старым виноградарем, Итале поспешил домой, ужинать.
Ужинали рано – завтра нужно было рано вставать – и за ужином засиживаться не стали. Когда появилась Эва и стала, шаркая домашними туфлями, убирать тарелки с синей каймой, все вздохнули с облегчением. Однако у Эвы лицо было таким же мрачным, как и у всех в доме.
После ужина Гвиде ушел на конюшню, а женщины уселись с шитьем в гостиной. Итале стоял у стеклянной двери, выходившей на просторный балкон, и смотрел на озеро. Над Малафреной разливался какой-то странный свет; вода казалась почти черной, а длинный, поросший лесом гребень горы над Эвальде – необычайно светлым на фоне помрачневшего неба. Теперь с юго-запада дул сильный ветер, покрывая воду на озере перекрещивающимися полосами ряби. Вокруг быстро сгущались сумерки, надвигалась гроза. Итале обернулся и посмотрел на мать и сестру. Когда он уедет, они все так же будут сидеть здесь, опустив глаза к работе, истинные хранительницы очага… Мать, почувствовав его взгляд, на минутку оторвалась от шитья и посмотрела на него – как всегда, чуть грустно и ласково. Потом сказала:
– Посмотри-ка, по-моему, получится очень мило. – Она встряхнула в воздухе что-то белое, непонятное. – Ее первое бальное платье…
– Да, очень мило, – согласился он. – Знаешь, я, пожалуй, схожу к Вальторскарам – попрощаться. Граф, наверное, уже дома.
– Что ты, гроза вот-вот начнется! Ты на небо посмотри!
– Ничего, я быстро! Им ничего передать не нужно?
Прыгая через три ступеньки – с двенадцати лет он всегда только так взлетал на эту лестницу, подумал он вдруг, – Итале сбегал к себе и стал поспешно рыться в ящике с книгами. Наконец он вытащил оттуда небольшой томик в белом кожаном переплете, уже довольно потрепанном. Это был перевод «Новой жизни» Данте, купленный им в Соларии. Итале присел с книгой за письменный стол, написал на форзаце несколько слов, поставил под ними свою подпись, число, сунул книгу в карман и вышел из комнаты.
Вокруг царили безлюдье и тишина, слышен был только шорох его шагов по тропинке. Кузнечики и птицы умолкли. Ветер улегся. Небо совсем потемнело, только над горой Сан-Дживан узкой зеленоватой полоской поблескивал последний отсвет дня. Когда Итале спустил лодку на воду и двинулся на запад вдоль берега, кругом стояла такая тишь, что за почти неслышным дыханием озера чудилась далекая музыка – шум водопада в Эвальде. Вдруг донесся глухой раскат грома и послышался шепот дождя на склонах гор по ту сторону озера. Дождь, как всегда, приближался широкой полосой. Парус сразу обвис. Сумерки в одно мгновение сменились густой тьмой; шум дождя нарастал, и вот ливень вовсю замолотил по голове и по плечам. Гроза бушевала прямо над головой; огромными светящимися деревьями вырастали молнии, гремел гром, двойным эхом отдаваясь от поверхности озера, хлестал дождь, намокший парус теперь рвался из рук – лодка сама неслась к берегу, и Итале уже не смог бы повернуть ее назад. «Фальконе» швыряло и накреняло так, что парус то и дело касался воды. С огромным трудом Итале все-таки удалось спустить парус и вытащить весла. Одежда липла к телу, руки закоченели; после борьбы с парусом он так устал и замерз, что весла едва не ронял, но греб прямо навстречу буре, точно желая пройти сквозь нее, раз уж ему не дано было ее обуздать и воспользоваться ее силой. Он чувствовал себя побежденным, но все же невероятно счастливым.
На мраморной лестнице Вальторсы он снял шляпу, стряхнул с нее воду, перевел дыхание и постучался. Старый слуга открыл дверь и в изумлении уставился на него.
– Вы упали в воду, дом Итаал? – спросил он наконец. – Входите же! Входите!
Из гостиной донесся могучий бас графа Орланта:
– Эй, кто там? Это ты, Роденне? Какого черта тебя понесло в такую бурю?
Граф вышел в вестибюль и увидел Итале, с которого ручьями лила вода. Войти в гостиную он отказался наотрез, заявив, что ему нужно поскорее возвращаться домой. Граф Орлант от всего сердца пожелал ему удачи и распрощался с ним, горячо сжимая его мокрую руку. В другой руке Итале сжимал «Новую жизнь». Он уже повернулся, чтобы уйти, но тут появилась Пьера.
– Уже уходишь? – удивленно спросила она; лицо ее показалось ему удивительно светлым.
Старый слуга поспешил уйти. Пьера подошла ближе; за порогом, на котором стоял Итале, бушевала гроза.
– Хочу подарить тебе эту книгу. – Он протянул ей Данте. – Хотелось хоть что-то оставить тебе на память.
Она машинально взяла книгу, не сводя глаз с Итале.
– Ты на «Фальконе» приплыл?
– Да. И чуть не перевернулся! – Итале смущенно улыбнулся.
В приоткрытую дверь ворвался ветер, и Пьера обеими руками прижала колоколом вздувшуюся юбку.
– А теперь, Пьера, давай попрощаемся.
– И ты никогда не вернешься?
– Вернусь.
Она протянула ему руку, он ее пожал, и глаза их встретились. Пьера улыбнулась.
– До свидания, Итале.
– До свидания.
Пьера долго еще стояла на пороге у открытой двери, глядя на струи дождя и вспыхивавшую молниями тьму, пока ее не прогнал старый Дживан, который тут же с ворчанием захлопнул дверь:
– Вы только посмотрите, госпожа, какой дождь! Конца ему нет! Ей-богу, только сумасшедший мог пуститься по озеру на лодке в такую грозу!
Пьера прошла через вестибюль, заглянула в гостиную, где уютно устроились отец и тетушка – она с пряжей, он со своими астрономическими таблицами, – и скользнула по лестнице наверх. У нее в комнате шторы скрывали ночной мрак и бушевавшую за окнами грозу, золотистым чистым светом горели свечи, но в ушах все еще звучал шум дождевых струй и голос Итале. Господи, он же промок насквозь! И рука у него была такой холодной. Но такой сильной! А действительно ли он приезжал? Пьера вздрогнула. Маленький томик, который она сжимала в руке, тоже был холодным и чуть сыроватым.
Она прочитала название: «Новая жизнь». Перевернула несколько страниц и успела понять, что стиль старинный, заметила строку: «Слова любви столь сладости полны, что сердце, кажется, со всем согласно»[17], и книга сама собой открылась на форзаце, где было что-то написано. Она подняла книгу повыше, поближе к свече, и прочла: «Здесь начинается новая жизнь. Пьере Вальторскар от Итале Сорде, 5 августа 1825».
Пьера так и застыла, глядя на эти четко выписанные черными чернилами слова. Заглавная буква «С» в фамилии чуть расплылась – то ли Итале, написав ее, чересчур поспешно захлопнул книгу, то ли от дождя. Девушка улыбнулась, точно видя перед собой его лицо, и, наклонившись, поцеловала дорогое ей имя.
Часть II
Изгнанники
I
Горы остались далеко позади, за холмистыми равнинами и полноводными реками юго-запада. Позади остались и долгие, то сумрачные, то солнечные, дни путешествия. Почтовый дилижанс полз по провинции Мользен; по обе стороны от дороги раскинулись пустоши, тускло золотившиеся под серо-голубым августовским небом.
– До Фонтанасфарая еще километров восемь, – сообщил смазливый щеголеватый кучер. – Великая герцогиня каждый год в августе туда на воды ездит.
– А до столицы сколько? – спросил у него молодой провинциал, ехавший на крыше кареты.
– Километров двадцать. Да половину пути на тормозах спускаться будем. Так что Западные ворота, скорее всего, только к вечеру и увидим.
Лошади, серые тяжеловозы с лоснящимися боками, тащили карету без видимых усилий, неторопливо, один за другим оставляя позади верстовые столбы. Итале надвинул на глаза шляпу, чтобы не слепило теплое утреннее солнце, и задремал. Высокая карета мерно поскрипывала и покачивалась.
– Деревня Кольпера, – объявил кучер.
Кольпера являла собой несколько домишек, притулившихся у дороги на склоне высокого холма.
– Тут, похоже, овец разводят, – заметил Итале.
– Господи, мне-то откуда знать? – с подчеркнутым равнодушием отвечал кучер. – Я ведь человек городской.
Он всем своим видом давал понять, что какие-то там овцы ему совершенно неинтересны. Итале, смутившись, сел поудобнее, вытянул ноги и стал пристально всматриваться в дальние пустынные склоны холмов, где, как ему показалось, точно белые тени облаков на рыжевато-коричневом фоне, виднелись стада овец.
В Фонтанасфарае царила прохлада; это был богатый город, расположенный довольно высоко в предгорьях. Те пассажиры, что ехали внутри дилижанса, отправились завтракать в придорожный ресторан; Итале, наотрез отказавшийся хотя бы взаймы взять денег у дяди, а из дому прихвативший всего двадцать крунеров, да и то при условии, что долг этот непременно вскоре вернет, купил в булочной пирожок и съел его в парке под тенистым вязом, разглядывая щегольские повозки, проезжавшие по улице Гульхельма. Заглушить голод так и не удалось. Вдруг сквозь ажурную листву он заметил изящный заграничный фаэтон, запряженный парой гнедых. В фаэтоне виднелся белый зонтик, из-под которого выглянуло на миг длинное лицо, которому отвислые губы и усталые глаза придавали весьма брюзгливое выражение; лицо это показалось Итале настолько знакомым, что он чуть не поздоровался с проезжавшей мимо дамой, точно с какой-нибудь далекой родственницей… Белый зонтик вскоре превратился в крошечное пятнышко среди уличной пестроты, и Итале встал, смахнув с жилета крошки. «Ну-ну, значит, это и есть великая герцогиня», – догадался он, и ему отчего-то стало грустно; он вдруг почувствовал себя маленьким и ничтожным.
Кучер сменил лошадей, и дилижанс снова тронулся в путь, взяв нескольких новых пассажиров. Одного из них Итале приметил еще на улице Гульхельма: он раскланялся с великой герцогиней как со старой знакомой. Это был молодой человек, чрезвычайно элегантно одетый, с бледным, красивым, но несколько тяжеловатым лицом. Он тоже предпочел ехать на крыше кареты и вскоре сам затеял с Итале разговор, держась при этом так просто и дружелюбно, что наш провинциал вскоре позабыл о своей личине загадочного и умудренного опытом путешественника и принялся болтать с попутчиком, хотя все еще немного дичился и больше слушал, чем говорил. Это, впрочем, явно нравилось его собеседнику, речи которого его прежние знакомые, кстати сказать, обычно не очень-то жаловали. Испытывая взаимное расположение, молодые люди, естественно, представились друг другу: Сорде, Палюдескар. Некоторое время они ехали молча, и каждый про себя расценивал происхождение и знатность нового знакомца. Итале пытался вспомнить, насколько знатен аристократический род Палюдескаров; а тот, в свою очередь, думал, что этот юный коммонер из далекой провинции кажется человеком вполне воспитанным и приличным, хотя шляпа у него и имеет такой вид, словно он ею рыбу ловил. Особенно Палюдескару нравилось то, что этот провинциал не скрывает своей неосведомленности и слушает его разглагольствования развесив уши, а потому наверняка никогда и не сможет вывести его на чистую воду. Итак, один с удовольствием говорил, а второй с удовольствием слушал, и оба были благодарны друг другу.











