Читать онлайн Пако Аррайя. Афганская бессонница
- Автор: Сергей Костин
- Жанр: Шпионские детективы, Современные детективы, Триллеры
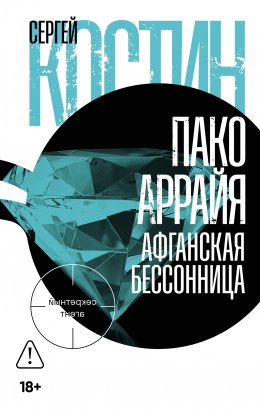
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Редактор: Лев Данилкин
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Татьяна Мёдингер, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Фоминов
Дизайн обложки: Дмитрий Черногаев
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© С. Костин, 2012
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2026
Ночь первая
Не будь сегодняшнего дня, я к концу своей жизни вряд ли смог бы назвать ее полной. Хотя, конечно, неизвестно, что меня ждет дальше. Да и, не познав этого ощущения, я, скорее всего, и не знал бы, что упустил что-то, и не сожалел бы об этом. Но теперь, когда это чувство мне уже знакомо, я понимаю, как много потеряли те, кто не прожил подобных минут. Это когда ты заглядываешь в лицо собственной смерти, успеваешь понять, что она неминуема и спасти тебя может только чудо, – и это чудо происходит. Разумеется, чудо происходит не для всех, кто подвергся смертельной опасности. Это ты потом тоже понимаешь, но это делает ощущение полноты жизни лишь еще более интенсивным. Вообще, приятно чувствовать себя в числе привилегированных.
Я услышал странный, непривычный звук, и мне понадобилась пара секунд, чтобы сообразить, что это такое. Это стучали мои зубы.
Люди, которым, как мне, приходилось бывать и в Сибири, и за полярным кругом, знают, что нигде ты не мерзнешь так, как зимой в жарких странах. Здесь всё – и в архитектуре строений, и в меблировке, и в домашней утвари, и в одежде – рассчитано на то, чтобы спасаться от жары. Зимой, когда температура иногда падает ниже нуля, в жилых помещениях можно дать дуба. Что я и делал.
Жаркая страна, столь предательски не оправдывающая свою репутацию, называлась Исламская Республика Афганистан. Город Талукан, в котором я уже столько времени пытался заснуть, был центром северной провинции Тахар (местные говорят Тахор). А меня на этой операции звали Павел Сергеевич Литвинов, и я считался тележурналистом, приехавшим сюда, чтобы снять пару сюжетов и взять интервью у фактического руководителя страны Ахмад-шаха Масуда. Кстати, Талукан отдельные бойкие журналисты называли столицей Масудистана.
В Талукане нас поселили в официальном гостевом доме, в самой большой и светлой комнате, по сути, на застекленной летней террасе. Вдоль стен там стояли широкие диваны, на которых мы и намеревались спать. К счастью, мы послушались Хусаина – местного коменданта и ключника, еще не старого, но вечно мрачного, с лицом, заросшим со всех сторон черными лоснящимися волосами. Он молча принес нам три матраса и разложил их по сторонам небольшой черной печки, мы бы сказали, буржуйки. Печка была не чугунная, а из тонких металлических листов, скорее всего, из частей кузова легковых автомобилей. Натопленная перед сном настолько, что бока ее покраснели, она через пару часов – а я все ворочался, пытаясь заснуть, – была совершенно комнатной температуры. То есть градусов пять в лучшем случае.
Я прислушался. Справа от меня раздавался хриплый, какой-то клокочущий храп. Там спал наш оператор Илья. Ему было не больше тридцати пяти, но он был уже почти лысым и таскал на себе лишних килограммов двадцать. Мы с ним провели нос к носу почти неделю, а я все еще не понял, что это за птица. Контакт с Ильей был односторонним: он слушал, но почти ничего не говорил. Так что в отсутствие поступков разобраться в нем пока было невозможно. На сей момент я отметил у него лишь пару хороших черт характера, в том числе: с окружающей средой у него конфликтов не было. Он заснул бы и на льдине.
Я осторожно откинул одеяло, закрывавшее меня с головой, и высунул нос наружу. В Душанбе из лени я перестал бриться, но недельная борода еще не греет. Не защищала и одежда. Я лег спать в джинсах и свитере, через час натянул поверх еще один, с воротником, облегающим шею. Однако у меня в запасе оставалась еще куртка – легкая, но гарантировавшая термоизоляцию при минус пятнадцати по Цельсию. Сейчас проверим! Я решительно откинул одеяло, вскочил рывком и в два прыжка стянул свою куртку, лежавшую на рюкзаках и сумках с аппаратурой.
Слева от меня раздался приглушенный смех. Там лежал третий член нашей группы, Дима, которого все звали Димыч. Невысокого роста, очень крепкий, усатый, с раскосыми глазами, этот парень неопределенной национальности был к тому же и неопределенной профессии. В нашей группе он числился ассистентом оператора, но на самом деле это была его первая съемка. Ценность Димыча в группе состояла в том, что он служил в ВДВ и два года, в 83–84-м, провоевал в Афганистане. В его активе было, соответственно, хоть какое-то знание страны и ее обычаев, а также почти спецназовская подготовка. Во всяком случае, он сразу, хотя в комнате еще было тепло, залез в постель в куртке.
– Я греюсь, представляя себя в горячей ванне, – сказал Димыч. По голосу было понятно, что он улыбается в свои усы.
– Везет тебе! – откликнулся я. – У меня воображение не настолько могучее.
– Я просто йогой немного занимался. Хочешь, куртку свою тебе дам?
Он действительно откинул одеяло.
– Да перестань! У меня фирменная, держит тепло до минус пятнадцати.
– Ну как знаешь!
Я застегнул молнию куртки до самого верха и, уже не полагаясь на авось, натянул на голову капюшон. Воздух, который втягивали мои ноздри, действовал как мятная конфета, только без вкуса мяты. Постельного белья не было, и я перед сном расстелил на подушке купленное в Душанбе полотенце. От моих бесконечных ворочаний оно давно сползло, так что капюшон был кстати и из гигиенических соображений. Я лег на подушку левой щекой, натянул на голову грубое, колючее, но зато шерстяное одеяло и старательно подоткнул его под бок с обеих сторон, чтобы не разбазаривать тепло. Заснуть, не согревшись, было немыслимо.
Однако холод был не единственной причиной того, что я никак не мог найти сна. Впервые за свою долгую карьеру нелегала я подписался на задание – в сущности, на два задания, – которые, на мой теперь протрезвевший взгляд, были практически невыполнимы. Это в кино, мы понимаем, для героя все кончится хорошо. А здесь – я ясно отдавал себе в этом отчет – чем дальше я проникну в стремлении все же выполнить эти задачи, тем меньше у меня будет шансов выбраться отсюда живым. Самое интересное, на этот раз я мог не только отказаться ехать в Афганистан, но и вообще поставить крест на своей работе на Контору. В сущности, десять дней назад в Москве я стоял перед выбором: отправиться навсегда загорать на Багамы или перейти по канату Большой Каньон – причем ночью и так, что об этом никто никогда не узнает. Вы поняли, что я выбрал.
Но что сделано, то сделано. У меня еще оставалась одна надежда на благополучный исход: отработать по своей версии по прикрытию, то есть снять репортажи, и даже не пытаться приступить к выполнению тайных поручений. Зная себя, я сомневался, что поступлю так. Но что скажет инстинкт самосохранения? К тому же в этой поездке со мной были еще два человека, чья судьба вряд ли будет отличаться от моей.
Идея забросить меня в Афганистан под видом телерепортера была совсем неплохой. Профессия журналиста объясняла неизбежную любознательность и стремление попасть туда, куда не следовало бы. А оба других члена группы – и Илья, и Димыч – понятия не имели, кто я такой на самом деле, и поэтому должны были вести себя как нельзя более естественно.
Что еще нужно сказать, чтобы дальше все было понятно? Это был декабрь 2000 года, или священный месяц Рамадан 1421 года, последний декабрь и последний Рамадан перед 23 днем месяца джумада аль-ахира 1422 года, который западный мир запомнит как 11 сентября. Запомнит настолько, что прибавлять год станет уже ни к чему. Так вот, некогда обширная территория, контролируемая легендарным командиром моджахедов Ахмад-шахом Масудом – для него, кстати, этот Рамадан будет последним, – стянулась к тому времени, как шагреневая кожа, к узкой полоске Панджшерского ущелья и паре северо-восточных провинций. Президент Республики Афганистан Бурхануддин Раббани уже давно удалился в свою резиденцию в неприступном Бадахшане, и Масуд, который официально был лишь министром обороны, практически исполнял обязанности главы государства. Чтобы разрешить эту коллизию, его еще называли лидером Северного альянса – союза полевых командиров, чьи отряды состояли из таджиков, узбеков и хазарейцев. Все эти народы живут к северу от горного хребта Гиндукуш, разрезающего Афганистан пополам. А южнее Гиндукуша живут кочевники-пуштуны. В этом-то, собственно, и состоит проблема Афганистана – это две страны в одной.
Проблему эту создали два Александра – II и III, так что по большому счету справедливо, что русским никак не удается от нее отделаться. Во второй половине XIX века, когда Россия присоединяла Среднюю Азию, ей, по идее, нужно было идти до Гиндукуша. Однако завоевания царей всполошили англичан, и Александр III решил остановиться на правом берегу реки Пяндж. Если бы он не побоялся конфликта с Великобританией, то узбеки и таджики оказались бы все в одном государстве. А пуштуны – в другом, в Пуштунистане, о котором многие из них до сих пор мечтают. И тогда не было бы в том числе и этой войны, войны талибов-пуштунов против афганских таджиков и узбеков. Талибов поддерживал Пакистан, а Северный альянс – Россия: она не хотела, чтобы фундаменталистский ислам подобрался еще ближе к ее границам. Поэтому мы и смогли договориться о съемках.
Сегодня утром пошел уже седьмой день, как мы бессмысленно кантовались в бывшей интуристовской гостинице «Таджикистан» в городе Душанбе, ожидая вертолета. Он доставил бы нас на, как говорят в Таджикистане, сопредельную территорию всего за час, только этот час никак не наступал.
У меня создалось впечатление, что весь город Душанбе был огромной перевалочной базой для поставки российского вооружения и других грузов Масуду – бывшему грозному противнику, а теперь единственному союзнику в борьбе с мусульманскими экстремистами. Во всяком случае, и все таксисты, и работники гостиницы прекрасно знали Гуляма – очень живого, уже пожилого афганского таджика с густой, круглой, аккуратно подстриженной, совершенно седой бородой. Гулям расселял людей, готовящихся к переброске в Афганистан, и нанимал иногда десятки леваков-таксистов, чтобы доставить в аэропорт прибывающие по железной дороге грузы. Это была, как все уже поняли, весьма важная персона. Что весомо подчеркивали доставаемые им изо всех карманов два мобильных телефона, которые в Таджикистане воспринимались тогда как какаду на плече человека, пересекающего лондонскую Риджент-стрит. При всем при этом нравы в Таджикистане простые, и в городе большой человек Гулям был больше известен под фамильярной кличкой Дед Мороз.
Дед Мороз наверняка прокручивал и свои дела. Во всяком случае, нас он точно водил за нос. Он знал, что наша съемочная группа была приглашена самим Ахмад-шахом Масудом, и, как мне казалось, должен был иметь на наш счет соответствующие инструкции. Очень простые – отправить нас в Талукан ближайшим вертолетом. Однако это лишь в теории.
Мы прилетели в Душанбе неделю назад поздно вечером. С Дедом Морозом – мы его тогда в лицо не знали – в аэропорту разминулись, или просто он встречал кого-то более важного, прилетевшего тем же московским рейсом. Но у меня был номер его мобильного, и, разместившись в гостинице, я позвонил ему. Мы договорились связаться на следующий день в десять утра, и я лег спать в уверенности, что уже завтра мы будем на месте.
Но наутро накрапывал дождь, и Дед Мороз бодро сообщил мне – он хорошо говорил по-русски, – что в Талукане идет снег и вылетов оттуда сегодня не будет, так что и звонить больше не стоит. Давайте завтра в то же время! Назавтра в Душанбе вовсю светило солнце, но ответ я получил тот же: в Талукане непогода, звоните завтра. На третий день я заподозрил неладное и пошел в афганское посольство.
Меня принял молодой, лет двадцати шести, парень, звали его Фарук. У него был неожиданно очень приличный английский, вряд ли выученный в Пакистане. Обилие сленга и общий раскованный стиль поведения скорее говорили о нескольких годах, проведенных в Штатах. Несмотря на восточные черты лица, Фарук и выглядел вполне западным человеком. Так что – я этого не ожидал – мы сразу стали говорить на языке, который был нам общим вдвойне. Я имею в виду как ряд западных ценностей и условностей, так и причастность к определенным службам. Хотя, надеюсь, поводов заподозрить меня в принадлежности к разведке я не дал. А вот Фарук в посольстве числился заместителем военного атташе, то есть вопрос был только в том, разведчик он или контрразведчик. Я склонялся ко второму варианту.
Фарук со смехом выслушал все мои подозрения по поводу того, что, несмотря на круглосуточный воздушный мост, налаженный между Душанбе и Талуканом, личным гостям Ахмад-шаха Масуда место на вертолете могло бы найтись только за приличный бакшиш. Нет, ничего подобного! Он, Фарук, тоже знал о нашей группе. Более того, он сам собирался в Талукан ближайшим рейсом, но из-за непогоды прилет вертолета из Афганистана откладывался со дня на день. Мы расстались приятелями – и на том, что он без нас не улетит.
Потом наступил четвертый день, который казался нам уже сороковым, и пятый, и шестой. Каждое утро в десять мы были в полной боевой готовности: вещи сложены, заряженные аккумуляторы в сумке, оставалось только расплатиться за постой. Потом я звонил Деду Морозу, и в 10:10 мы снова расходились по своим номерам, раскладывали на полочке в ванной зубную щетку, пасту, мыло, Илья ставил на подзарядку аккумуляторы – они, оказывается, постоянно должны находиться на включенном заряднике. Потом втроем мы выходили в город.
От прежнего советского Сталинабада в нем оставались широкие, как Елисейские Поля, проспекты, псевдокоринфские колонны официальных зданий, просторные магазины, в которых можно было бы играть в теннис, тенистые, сейчас промозглые, парки с вековыми платанами и чайханами у молчащих по случаю зимы фонтанов. От вечного Востока, все больше возвращающего свои права, в Душанбе было явное преобладание мужчин: прогуливающихся не спеша, с достоинством, выпятив вперед живот, или, наоборот, суетливо, с мерцающей улыбкой торгующих за бесчисленными лотками вдоль всех улиц. То и дело с размашистыми движениями щеток вам призывно кричали чистильщики обуви – а мне-то казалось, что все они исчезли вместе с Советским Союзом моего детства. Новое время заявляло о себе бородатыми 30–40-летними мужчинами в камуфляже, черных шапочках на бритой голове и с автоматами на плече – точно такими же, с какими русские снова воевали в Чечне. В Таджикистане боевики тоже были в оппозиции правительству, но пользовались перемирием: все устали от многолетней гражданской войны. При этом бородачи чувствовали себя вполне уверенно. Однажды – на третий или четвертый вечер нашего пребывания в Душанбе – они устроили банкет в ресторане нашей гостиницы. Странное это было ощущение. Человек пятьдесят вооруженных бойцов: не военных, не милиционеров – не имеющих никакого отношения к государству! А их предводитель приехал в гостиницу на бронетранспортере с государственным номером. Не знаю, был ли он выдан официально или просто кто-то в шутку снял номер со своих или чужих «жигулей» и прикрутил его на БТР.
Русских в Душанбе оставалось все меньше, до такой степени, что прохожие с любопытством разглядывали нас. Радушие в их взгляде проскальзывало не всегда. Да и в тех местах, где, побродив по городу пару часов, мы садились перекусить, особой любезности местные жители не проявляли. Так что день на четвертый мы фактически перестали выходить из гостиницы. Мы продолжали просыпаться в 8:30, в 9:00 завтракали в ресторане гостиницы, и после стандартного ответа Деда Мороза я распускал свою команду до вечера. Ребята валялись в номере и смотрели индийский MTV. Я, пользуясь случаем официально побыть в шкуре русского, купил в букинистическом магазине Толстого и Достоевского и запоем читал, уничтожая попутно горы кураги, изюма и миндаля. В нашей нью-йоркской квартире, разумеется, была целая полка русских классиков, но на английском. Я эти книги и не раскрывал, вызывая удивление моей жены Джессики, которая в остальном считала меня вполне образованным человеком.
Джессика! Даже из Душанбе Нью-Йорк казался другой планетой. И на той, другой, планете моя жизнь добропорядочного гражданина США, владельца солидного турагентства и респектабельного отца семейства, была наделена не большей реальностью, чем эта. Выдуманная биография, чужое имя, тайные цели, фальшивые предлоги!
Для всех моих близких я пробовал новый маршрут по караванным тропам через пустыню Каракумы, предназначенный для любителей экзотики и экстрима. Это должно было объяснить невозможность связаться со мной по мобильному телефону. Последний раз я звонил Джессике вчера – только считалось, что я не в Душанбе, а в Ашхабаде. Это моя жизнь – она состоит из лжи: одной большой и целой кучи мелкого вранья.
Итак, на седьмой день нашего отупляющего пребывания в Душанбе – стоп! это было сегодня утром, хотя, кажется, прошло уже несколько дней – я не выдержал. Номер одного из двух мобильных Деда Мороза – а я знал только один – молчал, и я, взяв у выхода из отеля левака, поехал в аэропорт. Левак – хорошо говоривший по-русски пожилой таджик, служивший когда-то в ракетной части под Москвой, – не раз подряжался для перевозки грузов на сопредельную территорию и поэтому сразу подвез меня к пролому в бетонном заборе аэропорта. Судя по множеству отпечатков подошв разнообразных рисунков, я пользовался этим входом в запретную зону далеко не первым. На мои ботинки тут же налипли комья глины, и я заковылял к взлетной полосе, как человек, впервые вставший на коньки. Несмотря на все предосторожности, чтобы удержаться на ногах, мне то и дело приходилось судорожно махать руками, будто ветряная мельница.
Я все же растянулся во весь рост, перепрыгивая через арык, так что, когда наконец я добрался до двух стоящих на бетонной площадке вертолетов, мой правый бок вполне мог служить маскировкой на местности.
Дед Мороз был там. Он наверняка увидел меня еще издали, но сейчас сделал вид, что только-только заметил мое присутствие. Ошибиться же, чем он был занят, было невозможно: он руководил посадкой пассажиров в видавший виды Ми–8. Еще один вертолет стоял рядом.
Я думал, что Дед Мороз смутится, увидев меня. Ничуть не бывало!
– Где вы ходите? – закричал он. Мы с ним говорили по-английски.
– Как где я хожу? – крикнул в ответ я. Нас еще разделяло метров десять. – Я звоню вам с десяти утра, но ваш мобильный молчит.
– У него сел аккумулятор, – не моргнув глазом, соврал уважаемый человек Гулям.
Он пожал мне руку и картинным жестом указал на вертолет. Казалось, он собрал все силы, чтобы законное возмущение прозвучало всего лишь как вежливый упрек.
– Прилетели вертолеты, а вас все нет!
– А как, по-вашему, я должен был об этом догадаться?
Я был так зол, что не считал нужным вступать в лицемерные восточные игры.
– Я уже часа полтора звоню вам в гостиницу, а мне говорят, что их нет ни в номерах, ни в ресторане.
Это было чистое, наивное, нелепое вранье. Во-первых, во всех номерах «Таджикистана» были телефоны, и Дед Мороз записал мой в первый же день. А во-вторых, двадцать минут назад я еще был у себя.
Только тут я заметил в группе стоящих поодаль людей Фарука – того контрразведчика из афганского посольства, который поклялся не улетать без нас. Он широко улыбнулся мне и подошел поздороваться.
– А где ваша группа? – спросил он.
– Сидят в гостинице и ждут от меня новостей, – без тени язвительности, так же широко улыбаясь, сказал я. Я вообще быстро учусь нравам и обычаям страны пребывания.
– Звоните им скорее!
Фарук протянул мне мобильный. Я забыл в Москве зарядник для своего телефона. В Душанбе купить новый не удалось, а просить Контору выслать мне зарядник из Москвы я не стал. Мы ведь должны были вот-вот перелететь в Афганистан, а там сотовой связи точно не было.
Пока я набирал номер Димыча, Фарук сделал знак одному из окружавших его людей.
– Я пошлю за ними своего водителя, – сказал он мне. – Так будет быстрее.
– Мой таксист тоже ждет у дырки в заборе, вон там! – показал я. – Пусть он проедет мимо, чтоб и его забрать. У нас полно аппаратуры.
Фарук что-то сказал водителю, и тот не спеша – мужчинам не пристало проявлять торопливость – направился к забрызганной грязью «Волге», стоявшей на краю вертолетной площадки. В трубке раздался голос Димыча. Я прокричал ему, чтобы они с Ильей немедленно спускали вещи в холл – свою сумку я перед уходом закинул в его номер.
Фарук внимательно слушал русскую речь – возможно, он понимал, хотя и не признавался в этом. Теперь он уже не казался мне вполне современным западным человеком.
– Я думал, мы договорились, что вы не улетите без нас, – не выдержал я.
– Конечно, мы полетим вместе на втором вертолете, – как ни в чем не бывало заявил Фарук. Но при этом по его приказу один из провожавших афганцев вытащил из вертолета красную нейлоновую сумку. Его сумку.
Первый вертолет был загружен. Усатый пилот задраил дверь изнутри, и Дед Мороз помахал рукой кому-то, едва различимому сквозь мутный от грязи иллюминатор. Пришел в движение винт, и по мере того, как он набирал обороты, вертолет от мелкой дрожи переходил к судорогам. У меня теперь было время рассмотреть его получше. Это явно была одна из тех машин, что перевозили советских солдат еще лет пятнадцать назад. Краска цвета хаки кое-где облупилась, и эти места были подкрашены черным. Закрепленные по обоим бортам батареи, выстреливающие тепловые ловушки, были пусты. Впрочем, та, которая была по нашу сторону, и не могла бы стрелять – ее ячейки, напоминающие соты, были смяты, похоже, неудачным маневром на земле.
Я ожидал, что вертолет тут же легко оторвется от земли и, выполняя крутой вираж, возьмет курс на вожделенную сопредельную территорию. Отнюдь! Вертолет вырулил на взлетную полосу и, рыча, приступил к разгону. Проехав по земле с полкилометра, он, как беременный пеликан, тяжело оторвался от земли, завис в воздухе, как бы прикидывая, сможет ли полететь, и все же начал подъем.
Минут через сорок, когда прибыла группа и наступила наша очередь садиться во второй вертолет, я смог оценить и внутреннее убранство стальной птицы. Большую часть салона занимала большая красная цистерна с запасом топлива, закрепленная по левому борту. Вдоль кабины пилота и по правому борту шли две скамейки, на которых размещались пассажиры. Нам досталось место в хвосте, у последнего иллюминатора, но люди все прибывали. Лицо Димыча – а ему в незапамятные боевые годы приходилось пользоваться этим видом транспорта не один десяток раз – постепенно вытягивалось.
– Что? – спросил я.
Димыч пожал плечами.
– И все же?
– По правилам, в вертолет можно загружать столько людей, сколько остается сидячих мест.
Лицо Ильи, обычно лишенное определенного выражения, оживилось.
– На скамьях пятнадцать человек, а на полу – еще семнадцать, – вскоре сообщил он.
И при каждом были какие-то вещи. Только наша аппаратура, аккуратно сложенная в самом хвосте, весила почти шестьдесят килограммов – мы платили за перевес, когда летели из Москвы в Душанбе.
Дверь кабины открылась, и в салоне появился один из двух пилотов. Он проделал ту же операцию, что и Илья, отметив кивком и пришептыванием каждую голову и прикинув количество багажа. Его более чем двукратный перевес не смутил. Дверь закрылась, и тут же вертолет охватила дрожь. Двое марокканских журналистов, летевших в Талукан по заданию бельгийского телевидения, – с ними мы успели познакомиться перед посадкой – удовлетворенно кивнули мне, мол, свершилось. Сидевший рядом с ними Фарук дружески подмигнул мне. Я подмигнул ему в ответ. На Востоке не стоит ни с кем ссориться!
Мы тоже сначала, как самолет, разогнались по полосе, а затем натужно, но все же бодренько оторвались от земли. Вертолет поднялся примерно на километр и уверенно пошел крейсерским курсом. Все заметно повеселели.
Илья, приложив голову к стенке, задремал, а я стал прислушиваться к Димычу. Он завел разговор с сидевшим напротив него на полу афганцем лет тридцати пяти в европейского покроя полупальто. Дело в том, что Димыч не переставал меня беспокоить.
Но сначала о моей легенде в съемочной группе. Звали меня, как я уже говорил, Паша. Так было проще: если бы я, забывшись, представился своим постоянным именем Пако, все можно было бы списать на оговорку. Но я вот уже как двадцать лет навсегда уехал из Союза, и в неизбежных долгих разговорах со своими помощниками я наверняка мог проколоться на незнании какой-то новой реалии. Поэтому я придумал такой вариант. Для всех остальных, особенно для афганцев, я был российским тележурналистом. А Илье и Димычу я под большим секретом сообщил, что уже давно эмигрировал в Германию и на самом деле репортажи, которые мы ехали снимать, предназначались для немецкого телеканала ЦДФ. Немцам договориться об интервью с Масудом было бы намного сложнее, чем журналисту союзной страны, поэтому я якобы и прибег к такой хитрости. В Германии я пока вроде бы обретался по виду на жительство, и паспорт у меня оставался российский – так что вряд ли афганцы что-то заподозрят. Я платил Илье с Димычем по западным расценкам, то есть раз в пять больше, чем российское телевидение, так что молчать было в их интересах. Кто платил? Я, я! В Конторе вопрос о том, как будет финансироваться эта операция, как-то и не вставал. Но, конечно, я мог себе это позволить.
Так вот, проблема с Димычем была в том, что он был натурой творческой и неутомимой. У него в связи с предстоящими съемками возникла задумка.
– Слушай, Паш! – убеждал он меня во время наших долгих посиделок в номере гостиницы «Таджикистан» среди батареи пивных бутылок. – Давай мы скажем афганцам, что я воевал против них в ту войну. Представляешь, мы тогда были врагами и, вполне возможно, даже стреляли друг в друга. А теперь у нас общая опасность и мы союзники.
Я только качал головой.
– Мы же давно признали, что зря полезли тогда в Афган! – не сдавался Димыч, и его узкие азиатские глаза становились совсем круглыми. – Меня же послали туда не спрашивая. Да, я стрелял в них, но и они стреляли в меня. На войне как на войне! Но теперь старые обиды можно забыть.
Я снова качал головой. Илья, который в наших разговорах участвовал в основном взглядами, с тревогой смотрел на меня. Ему такая задумка нравилась еще меньше, чем мне.
– Ну почему?
– Димыч, ну представь себе такую ситуацию. У кого-то в окружении Масуда наши убили всю семью, и этот человек немного тронулся в уме. Для него все русские одним миром мазаны. Он вскинет свой калашников и уложит нас всех одной очередью. Просто потому, что для него та война не закончится никогда.
– Ну ладно, ладно! Закончим сейчас этот разговор. Но вот увидишь, Паш, это хорошая мысль. Мы приедем, ты поймешь, что все нормально, и мы вернемся к этому разговору. Увидишь!
Вот почему я прислушивался к разговору Димыча с тем парнем, сидящим на полу. Похоже, зря – говорил в основном афганец, его звали Малéк. Он выучился на врача в Одессе, был женат на русской, у них было двое детей. Он только что отвез семью на Украину, к родителям жены, и теперь возвращался назад. В Талукане он был единственным хирургом.
– А что, талибы могут захватить Талукан? – присоединился к разговору я.
Малек замялся:
– Ну сейчас-то Рамадан… Ну это знаете…
Я знал:
– Пост.
– Ну да, можно и так сказать. Пока Рамадан, никто не стреляет. Так что для вас сейчас самое хорошее время. Но Рамадан заканчивается через несколько дней. И что будет дальше, никто не знает.
Малек говорил по-русски легко, хотя и с акцентом. Восточные люди, в своей массе вышедшие из торговцев, вообще очень способны к языкам. Я убеждался в этом в сотый раз.
– А почему же вы сами не остались в Одессе?
– У меня здесь, помимо работы, родители и дом. Мои оба брата погибли, так что теперь…
Он постеснялся договорить. Теперь семья была на нем.
Говорить, перекрикивая шум мотора, было трудно, и я, понимающе кивнув ему, выпрямился.
В этом вертолете уже был Афганистан. Я летел туда впервые, но это было понятно. Мужчины – кроме нашей группы, Малека, Фарука и двух марокканцев – были одеты в длинные шерстяные плащи, типа бурнусов, здесь их называли «чапаны». На голове у большинства были шерстяные же коричневые круглые береты, заканчивавшиеся внизу круглым ободком. Как я уже выяснил, он был образован закатанной вверх тонкой шерстью. Наверное, при желании ее можно было размотать и использовать как шарф, хотя тогда и лицо оказалось бы закрытым. Я уже спрашивал у Фарука, этот головной убор назывался «пакуль». Он был как бы частью военной формы в армии Масуда, но, как я скоро смог убедиться, пакуль был так же распространен, как и чалма.
В вертолете летели и две женщины. Сказать, были ли они молодые или старые, привлекательные или уродины, было невозможно. На них были не просто паранджи, а никабы. То есть их головы закрывали глухие капюшоны, прорезанные лишь узкой полоской вуали на уровне глаз. Самих глаз видно не было. А с плеч до земли женщины были окутаны балахоном из такой же желто-зеленой плотной ткани. Разумеется, представительницы лучшей части человечества сидели на не очень чистом, дребезжащем полу. Мы пытались было, пока рассаживались, уступить свои места на скамейке, но они отказались возмущенным щебетанием. Они сидели, выпрямив спины, – наверное, молились, чтобы уставшая стальная птица доставила их домой живыми и невредимыми.
Я выглянул в иллюминатор. Мы пролетали над однообразным грязно-бежевым предгорьем без каких-либо признаков жилья. Скальные породы сменялись каменистой пустыней, которую вдруг прорезал широкий поток, разбившийся на несколько переплетающихся рукавов. Я ткнул в бок Димыча.
– Пяндж, – пояснил он, едва бросив взгляд за окно.
– Вы что, бывали уже в Афганистане? – спросил Малек.
Я напрягся, но реакция у Димыча была неплохой.
– По карте посмотрел. Здесь другой реки нет. Ну заслуживающей такого названия. А что, не Пяндж?
– Пяндж.
И тут произошло следующее. Шум двигателя изменился, и вертолет начал немедленно терять высоту. Это, в сущности, нельзя было назвать откровенным падением, но и на маневр было не похоже. Земля быстро приближалась, и это было понятно даже тем, кто не сидел у иллюминатора.
Димыч выглянул в окно, и на его лице выступили скулы.
– Похоже, мы падаем, – стараясь говорить легкомысленно, произнес я.
Димыч молча посмотрел на меня. Афганцы, сидевшие на полу, теперь принялись оживленно переговариваться на дари.
Я посмотрел на цистерну с керосином. Над ней, как я заметил при посадке, болтался парашют в брезентовой сумке. Один на тридцать два человека.
– Он твой! – шутливо сказал я Димычу. Перекрикивавшийся со своими соотечественниками Малек не мог нас слышать. – Ты, наверно, один умеешь им пользоваться.
Димыч только усмехнулся:
– Его сложили лет пятнадцать назад, держу пари, наши же. Он уже никого не спасет.
Я выглянул в иллюминатор. Вертолет шел навстречу земле под острым углом. До столкновения оставалось несколько метров – уже были отчетливо видны метелки на высокой траве, покрывавшей пологий берег.
– Что, мы сейчас врежемся? – спросил Илья.
Он заметно побледнел, да и голос его звучал неуверенно.
– Похоже, – ответил ему Димыч. – Жалко, не договорим с Малеком, – интересный был разговор.
Странное дело: никому из нас не пришло в голову попрощаться – друг с другом или мысленно с близкими (мы потом обсудили это). Афганцы перекрикивались, но тоже не панически – такая перепалка вполне могла произойти и на базаре. А мы просто смотрели друг на друга и ждали смерти.
Вертолет покосился на правый бок. Пушистые белесые метелки теперь уже стелились под винтом. А сам винт должен был вот-вот чиркнуть землю.
И тут двигатель, уже и так ревевший в агонии, взял, вероятно, самую высокую ноту в своей жизни. Вертолет вздрогнул и так же бочком медленно вошел в вираж, оторвавший его от земли. Метелки выпрямились, потом стали меньше, потом превратились в кусок шелковой ткани, переливавшейся под ветром.
В меня стреляли не раз – я могу даже сказать, много раз. На моих глазах, совсем рядом со мной убивали и товарищей, и друзей, и моих самых близких. Но это все было по-другому. Человек стоял с тобой рядом, а в следующий миг он падал. Ты понимал, что на его месте мог быть ты, но ты не глядел в лицо своей смерти. Для этого нужно было бы, чтобы ты увидел пулю, которая вылетела из чьего-то ствола, чтобы ты видел, как она медленно летит в тебя, и в последний момент заметил, что она летит мимо. Все дело в скорости. А тогда рассмотреть приближение земли у меня время было.
И знаете что? Я вспомнил про молитву. Критический момент был позади, но тогда у меня не было никаких мыслей, только тупое ожидание финального столкновения. Не было и фильма из всех важных и неважных событий жизни, который, как утверждают, проносится в сознании перед самой смертью. Но что мешало нашему вертолету в предынфарктном состоянии грохнуться через какой-нибудь десяток километров? И я стал молиться.
Разумеется, я был воспитан атеистом. Все, что я знал о христианстве, было рассказано нам с моей первой женой Ритой во время подготовки в Лесной школе КГБ под Москвой. Потом, уже на Кубе, где перед заброской в Штаты мы два года осваивали местный испанский, мы прошли практические занятия. Анхель и Белинда, наши друзья, чьей задачей было превратить нас в настоящих кубинцев, не раз ходили с нами в церковь, где мы освоили все католические обряды. Изредка, по большим праздникам, мы ходим в церковь и в Нью-Йорке: Джессика – католичка, как, соответственно, и наш сын Бобби. Так вот, из всего этого запаса знаний в нужный момент не всплыло ничего. А вспомнилась мамина молитва, которой ее научили две православные московские бабушки. Молитва такая: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси и защити мя!» Я никогда в жизни не произносил ее – ни вслух, ни мысленно. У меня свой способ встречать сложные ситуации: я смотрю на себя со стороны и свысока, будто бы с невысокого потолка. Но в тот момент и это мне не пришло в голову. Вспомнилась молитва, что я услышал когда-то очень давно и не догадывался, что она все еще хранится у меня в памяти.
Знаете, что еще? Мне было неловко молить о собственном спасении. Я всегда ненавидел просить за себя. Может быть, в этом и было некое лицемерие – даже перед самим собой и даже перед лицом смерти, – но я представил себе мою маму (она по-прежнему живет в Москве, и с ней мы только что провели вместе целую неделю), представил себе Джессику, ее мать Пэгги, с которой мы очень дружны, моего двенадцатилетнего сына Бобби. Я представил себе их горе, когда они узнают о моей гибели, – а мы все еще были в воздухе, и двигатель вертолета с хрипами по-прежнему старался из последних сил. И я стал молиться. Слова были такие: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, ради наших близких, спаси и защити нас всех! Если это возможно».
Глупо? Тем не менее я успел произнести эту молитву добрую сотню раз. В сущности, я не переставал повторять ее про себя до тех самых пор, пока наш вертолет не коснулся колесами пожухлой травы посреди превращенной в аэродром спортивной площадки в центре города Талукан.
Куртка с термоизоляцией свою гарантию оправдывала. Я перестал дрожать и даже высунул кончик носа из-под одеяла. Но заснуть мне по-прежнему не удавалось. И дело было не в клокочущем храпе Ильи, отмерявшем тишину равными интервалами, но с вариациями в тональности и громкости. Ну да бог с ним, со сном! И мы отдохнем…
Теперь почему я попал в Афганистан. Незадолго до Рождества на меня вышел мой нью-йоркский связной Драган. Это персонаж, и с невероятной историей – я как-нибудь расскажу о нем. Но сейчас достаточно будет сказать, что через него Контора просила меня придумать предлог, чтобы отлучиться на пару недель. Причем связи со мной бо́льшую часть времени не будет. Я сказал Джессике и Элис, своей помощнице в агентстве, что еду в Туркменистан. У меня действительно есть идея организовать переход через пустыню Каракумы на верблюдах. Таким средневековым караваном, как во времена Марко Поло. Лучше всего это делать зимой – летом там, по рассказам, закопанное в песок яйцо через пару минут уже сварено вкрутую. Так что я вылетел в Стамбул. Но оттуда полетел не в Ашхабад, а – по другому паспорту – в Москву.
Я бываю в Москве – я уже давно не говорю «дома», мой дом в Нью-Йорке, почти напротив Центрального парка, – где-то раз в два-три года, иногда чаще. И, начиная с 1985 года, когда я впервые вернулся в Союз после засылки на Запад, каждый раз испытываю шок. Потому что каждый раз я приезжаю в другой город, вернее в другую страну.
Сначала, в 85-м, это был мир, который я за семь лет успел позабыть. Мир лозунгов типа «Слава КПСС!» или «Рабочее время – работе!» на каждой свободной стене, мир одинаковых кроличьих шапок и серых пальто, мир авосек с просвечивающими сквозь ячейки банками сгущенки и томатной пасты, мир черных «Волг», разрезающих поток «запорожцев» и «жигулей». Вспомнил тогда.
В следующий приезд, в 87-м, проезжая по улице Горького мимо Театра юного зрителя, я увидел афишу: ближайшей премьерой было «Собачье сердце» по Булгакову. Я читал эту книгу на кальке, в почти слепой самиздатовской распечатке, наверное, пятый экземпляр. А человек, читавший ее за мной, Витька Катуков, вылетел из-за нее из Военного института иностранных языков, где мы тогда учились. Он оставил распечатку в портфеле в аудитории, когда во время перерыва ходил в буфет. И кто-то неслучайный его портфель в отсутствие хозяина проинспектировал.
Потом была Москва начала 90-х, с мостовыми в выбоинах, как после бомбежки, с голыми витринами магазинов, очкастыми старшими научными сотрудниками, торгующими с рук пивом перед станциями метро, и пенсионерами, разложившими на продажу прямо на тротуаре ржавые болты и гайки, водопроводные краны и куски проводов.
В следующий раз я приехал в город, подвергшийся нашествию английского языка. Магазины по-прежнему были пусты, но стены и крыши уже были захвачены «пепси-колой», «адидасом» и «сименсом».
Была еще Москва тысяч киосков вдоль всех тротуаров, на каждом свободном пятачке, в которых продавали все, чему не могло найтись сбыта на Западе.
Потом киоски исчезли, улица Горького, ставшая снова Тверской, превратилась в подобие Медисон-авеню, Пиккадилли-стрит или Елисейских Полей. В книжных магазинах, булочных и кулинариях моего детства теперь продавали автомобили «Пежо», часы «Пьяже» и кристаллы Сваровски. Ночью подсветке фасадов мог бы позавидовать Рим, а по количеству «мерседесов», БМВ, «ауди» и «лексусов» с Москвой не сравниться ни Берлину, ни Вене.
В этот раз, две недели назад, когда встречавшая меня машина ехала из Шереметьево на конспиративную квартиру в переулках у Пречистенки, я, уже не ожидавший с последнего приезда увидеть что-либо новое, замер. Мы проезжали мима Дома на набережной, где когда-то жила кремлевская номенклатура. Крышу здания, некогда гордо увенчанную красным знаменем, теперь украшала огромная вращающаяся эмблема «Мерседеса». Это была финальная точка в соревновании двух систем.
В Конторе меня курирует человек, который кому-то уже знаком. Его кодовое имя – Эсквайр, но про себя я зову его Бородавочником. Не потому, что он похрюкивает и питается кореньями, вырывая их длинным носом, а из-за крупных родинок, сразу выделяющих его лицо из множества других. Узнав его получше, обнаруживаешь, что у Эсквайра есть и другие качества, мешающие ему потеряться в толпе современников. В частности, быстрый и острый ум, которым он пользуется по назначению в качестве холодного оружия скрытого ношения. Еще я подозреваю, что ему нравится производить на окружающих отталкивающее впечатление – во всяком случае, этим он владел в совершенстве. Однако, что касается наших отношений, упрекнуть мне его не в чем. Можно было бы даже предположить, что он относится ко мне хорошо – настолько, насколько можно сказать о бородавочнике, что он хорошо летает.
Эсквайр – меня из аэропорта сразу привезли к нему – хмыкнул, когда я выставил перед ним на стол литровую бутылку двенадцатилетнего «Чивас Ригал», купленную в самолете.
– Это ты правильно, – сказал он. – У нас есть что обмыть.
Он полез в ящик стола, достал плоскую прямоугольную коробочку и открыл ее. В ней рядом с наградной книжкой лежал серебряный крест с закругленными концами. Я знал, что это орден Мужества, меня наградили им за лондонскую операцию прошлого года. Я взял его в руку – это было странное чувство. Поясню на примере.
Пару лет назад я пытался организовать рай для дайверов на одном из маленьких независимых архипелагов Полинезии. Чтобы наладить контакт с местными властями, я привез туда два громадных ящика одноразовых шприцов, на дефицит которых мне намекнули в переписке. С моим проектом ничего не получалось, но перед отлетом местный министр здравоохранения и туризма надел мне на шею бусы из ракушек, переливавшихся всеми цветами радуги. Устроившись в салоне первого класса, я, естественно, сунул ожерелье в сумку, а дома повесил его на гвоздик в прихожей. Ракушки стали быстро собирать пыль, и Джессика убрала их в какую-то коробку. Так вот, из последующей переписки с представителями суверенного полинезийского государства стало ясно, что эти бусы – высший знак отличия, который местные граждане могли получить в конце деятельной и полной самоотречения жизни во благо отечества.
Это к вопросу о фетишах и символах. Ну правда! Кто бы мог вместе со мной гордиться этой наградой? Только мама. И где я мог бы не то чтобы носить, но даже хранить свой орден? Только у мамы. Хотя, признаюсь, всегда приятно, когда твои усилия, особенно связанные с риском, ценят.
Эсквайр уже разлил виски по стаканам – он помнил, что я пил виски чистым, а себе добавил минералки.
– Извини, что награду тебе вручают не в Кремле, – сказал он в качестве поздравления.
– Переживу.
Мы чокнулись и выпили. Большинство людей хорошее виски как-то смакуют, причмокивают. Бородавочник же просто налил глоток жидкости в соответствующую полость в своем теле и захлопнул губы. Они у него были такие тонкие и сжимались так плотно, что их, собственно, и видно-то не было. На лице моего начальника рот занимал не больше места, чем одна из глубоких морщин на его высоком лбу интеллектуала. Даже меньше – морщины все же длиннее.
– Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем я тебя сдернул, да еще так надолго? – спросил Эсквайр.
Я внимательно посмотрел на него. Тот ли это момент, которого я давно жду, чтобы наконец выложить все начистоту? Но разве с Бородавочником можно поговорить по-человечески? Это же хитроумнейшая и сложнейшая шифровальная машина, где любая информация теряла первоначальный вид, многократно перекодировалась и возвращалась в виде, абсолютно недоступном для прочтения. Да и выражение лица моего куратора выдавало крайнее нежелание впускать в себя чужие проблемы и сомнения. Я уже говорил, у него как будто к верхней губе был навечно прилеплен кусочек говна, который он был обречен нюхать. Нет, этот блестящий знаток людей в качестве исповедника карьеры бы не сделал. Потому я молчал. Молчал и Бородавочник.
– Что скажешь? – первым не выдержал он.
Эсквайр уже понял, что я хочу поговорить не только о новом задании. Он не был уверен, хватит ли у меня духу. Но, если хватит, он от этого разговора уходить не собирался.
– Если честно, Виктор Михайлович, у меня к вам есть один вопрос, – спокойно, не возбуждаясь, медленно артикулируя каждое слово, сказал я.
Бородавочник развел руками с видом человека, готового слушать меня до утра, а когда кончится выпивка, он сам сгоняет в ближайший магазин за пивком. Но помогать мне провести неприятный разговор наводящими вопросами он не собирался.
Хорошо!
– Не знаю, надо ли мне напоминать вам свою биографию? – начал я. Эсквайр учтивым наклоном головы дал мне понять, что он с радостью выслушает все, что я сочту нужным ему напомнить. – Я работаю в Конторе больше двадцати лет. Из-за…
Я хотел сказать «из-за вас», но это было бы не только обидно, но и несправедливо.
– Из-за этого моего рода деятельности я потерял первую семью. Поверьте, мне плевать, что пару-тройку раз в году я рискую жизнью. Более того! Поскольку с каждым разом увеличивается не число друзей, а число врагов, возможно, опаснее всего даже не операции, когда я начеку, а как раз мои самые обычные дни.
Эсквайр кивнул. Его только чуть перекосило, когда я сказал «Контора» – они все говорили «Служба» или, по старинке, «Комитет». Но с остальным он был согласен.
– Но это был мой выбор, – продолжал я. – Хотя в сорок три уже понимаешь, что в девятнадцать лет с выбором легко ошибиться.
Я сделал паузу. Бородавочник давно понял, о чем я собирался говорить. Возможно, он ухватил это с самого начала. Не исключено даже, что он этого разговора ожидал уже несколько лет, много лет. Человек не только умный, но и великодушный спросил бы в этом месте: «Ты что, хочешь выйти из игры?» Или сказал бы: «Я понимаю, ты устал». Но это мог бы сделать тот, кто был готов меня отпустить. А Эсквайр такого намерения не обнаруживал. Но и я не собирался поджимать хвост.
– Так вот, вопрос, которым я все чаще задаюсь, – продолжил я, – зачем я это делаю? Все это! Я уже давно другой человек, не тот мальчишка, которого заманили края за далеким горизонтом и жизнь, полная приключений. Если честно, я никогда в жизни, уже тогда, не собирался сражаться за торжество коммунистических идей, за классовую солидарность трудящихся и прочую чушь. Да в это никто и не верил! Никто из моих друзей в Конторе, – я специально опять сказал в «Конторе», – и вы, Виктор Михайлович, не верили. Не пытайтесь меня убеждать! Для этого нужно было быть…
Я сгоряча чуть было не сказал «идиотом», однако Эсквайр таких резких слов точно не заслуживал. Я все-таки завелся. Чего меня понесло в коммунистическую идеологию? Никогда со мной такого не было, я про нее давным-давно забыл. Наверное, это виски. Я и в самолете себе не отказывал: от Нью-Йорка до Стамбула с пересадкой в Париже двенадцать часов лёта, потом еще три часа до Москвы. Выпил – поспал, выпил – поспал. Этот «Чивас Ригал» явно заявлял, что он – лишний. Но мало ли кто там что заявляет! Я посмотрел на свой стакан, сделал еще глоток и уселся поудобнее в кресле, надеясь, что теперь и Бородавочник что-нибудь скажет.
– Ты не упомянул самое главное, – наконец произнес он. – Мы здесь всегда работали – и сейчас работаем – на интересы вечной России. Каждому поколению русских выпадает обязанность сделать так, чтобы она, Россия, при его жизни не только не разрушилась, но и не растеряла свое могущество, свое влияние, свои территории. Коммунисты десятилетиями старались сохранить в целостности огромную сильную державу, созданную нашими предками. Делали это, как умели, как считали правильным. Но где-то просчитались.
Эсквайр оттолкнул свое офисное кресло начальника с высокой кожаной спинкой и, развернувшись на колесиках, встал из-за стола и принялся ходить взад-вперед, не прерывая свою речь. Он мастерски владел такой манерой разговора: как на совещании – без бумажки, но гладким текстом, как по выученному. Без какого-либо мэканья, повторов и потери мысли.
– Следующий период, живя за границей, ты проскочил. Нас всех после распада Союза пытались убедить, что Запад – наш лучший друг. Если и ты так думаешь, дальше вести этот разговор бессмысленно.
Эсквайр тоже завелся. Чуть-чуть. Или играл в это.
– Я так не думаю, – сказал я. И это была правда.
– При СССР это ведь был такой армрестлинг. Они жали на нас – мы жали на них. Перестань мы работать, они бы уже давно припечатали нас к столу.
– Что и произошло в итоге, вам так не кажется?
Но это был мой последний выпад. Бородавочник вдохнул полной ноздрей аромат того, что виртуально прилепилось к его верхней губе.
– Мы проиграли один подход. Проиграем второй – нас надолго вычеркнут из высшей лиги. Мне кажется, при новом руководстве страной этого не произойдет.
Бородавочник так и расхаживал вдоль стены, где когда-то, я помню, висел портрет Дзержинского, набранный из ценных пород деревьев. Какой-то умелец корпел долгими зимними вечерами. Потом на этом месте с цветной фотографии улыбался Ельцин с поднятым в ротфронтовском приветствии кулаком (в гражданских организациях он улыбался и приветливо махал рукой). Однако дух очередных перемен дошел и до Конторы: теперь в тонкой рамочке новый президент Путин шагал куда-то в рубашке, придерживая за петельку заброшенный на спину пиджак.
Я молчал. Конечно же, мой начальник был прав.
– Тебе приятно вести этот разговор? – раздраженно спросил Эсквайр. – Мне – нет. То, что ты думаешь, я знаю. То, что я могу тебе ответить, ты знаешь тоже. Стоит продолжать?
Я вздохнул. Мне стало немного стыдно за свой узкий, ничтожный, бюргерский горизонт.
– Ты уйдешь, я уйду! – Нет, Эсквайр реально завелся, хотя вряд ли он пил последние двадцать часов. Я еще не видел его таким. – Уйдут все, кто задает себе вопрос, зачем нужно делать то или другое, если это не приносит выгоды или удобств им лично. Мы им уступим место, этим людям? Или троечникам, которые будут верить всему, о чем им говорят на совещаниях?
Может, я действительно устал? Или после двадцати лет жизни с американской семьей у меня и вправду сбился внутренний компас?
Эсквайр по-прежнему ходил между окном и дверью: пять шагов туда, пять – обратно. Брюки – на нем был его привычный добротный серый костюм – были ему длинноваты и чуть касались пола за каблуками.
– Ты хочешь выйти из игры?
Он все-таки сказал это. Я, по слабости характера, заранее приготовил формулировку типа: «Я хотел бы уйти в бессрочный отпуск». Или «долгосрочный», если разговор пойдет жесткий. Но тут не знаю, что на меня нашло. Возможно, это была реакция на внезапное осознание собственной ничтожности. В общем, я взбрыкнул.
– Да, Виктор Михайлович, я хочу выйти из игры, – старательно выговаривая каждое слово, произнес я.
Мы смотрели друг другу прямо в глаза. У Эсквайра есть отвратительная манера щуриться, когда он раздражен – я называю это «Змеиный Глаз». Он пользуется этим приемом, как гремучая змея пользуется трещотками на хвосте. Странное дело, в данном случае прибегать к крайнему методу устрашения он не стал. Он просто считал с меня информацию – я надеюсь, что он увидел в моем взгляде прямоту, нежелание продолжать жизнь во лжи и непреклонную решимость настоять на своем, – и в течение нескольких секунд усваивал ее.
Знаете, что он сделал потом? Он улыбнулся. И улыбка эта была почти человеческая. Бородавочник вернулся в свое кресло и взялся за бутылку.
– Ты чего не пьешь?
Вы заметили уже, что Эсквайр говорит мне «ты», а я ему – «вы». Мне это не очень нравится. Как человек, усвоивший либеральные ценности, я не хочу учитывать ни тот факт, что он – генерал-лейтенант, а я всего лишь подполковник, ни что у него таких, как я, в подчинении – если в нашем случае можно говорить о подчинении – человек сорок, если не больше. Я успокаиваю свое самолюбие тем, что он все же лет на пятнадцать старше.
Несмотря на мои протесты, Бородавочник долил виски и мне, и себе. Без тоста, даже без традиционного жеста, означающего, что каждый пьет за здоровье другого, мы пригубили стаканы. Я снова остро почувствовал, что каждый глоток для меня уже давно лишний. Я не пьянел, просто тошнота подкатывала все ближе.
– Ты у матери своей остановишься?
Мама – отец мой давно умер – жила на небольшой уютной даче в Жуковке. Место считается – и реально стало – очень дорогим, но я со своими заработками мог позволить себе поселить ее с максимальным комфортом. На мамином участке росли сосны, наполнявшие его под летним солнцем ни с чем не сравнимым ароматом. В пятнадцати минутах ходьбы протекала Москва-река, в которой еще можно было купаться (она еще не вошла в город Москву). Самолеты – что в Подмосковье большая редкость – над домом не летали. Главное, об этом позаботилась уже Контора, дача располагалась на территории поселка Совмина и прямым телефоном соединялась с медпунктом. Еще у нее был прямой телефон Эсквайра. И ей перечисляли мою зарплату в рублях. Так что мама была там в полной безопасности.











