Читать онлайн На юг
- Автор: Иван Жученко
- Жанр: Иронические детективы
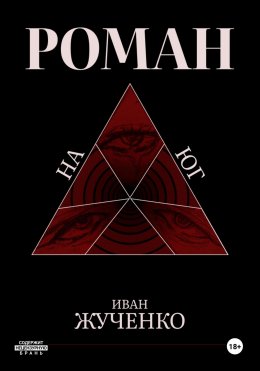
И БЫЛО НАЧАЛО
В шестой день Бог создал зверей и человека. (Бытие 1:24-31)
Что ж, Господь Бог наш, сбросивший нас с плеча в пропасть построенного им и усовершенствованного человеком порочного мира, имел честь уточнить дату начала этой Божественной комедии. Но как и у Данте, естественно, все не могло пойти слишком гладко, может оно и было так задумано, в виде кромешного хаоса.
Я, как представитель среднего класса, среднего роста, немного маленького веса, отцепивший себе прекрасную половинку женского пола, я ваш покорный слуга в течение следующих сотен страниц буду очернять все аспекты человеческого существования, и я буду это делать до тех пор, засунув конечно вашу голову в тиски, и буду крутить вертель, все сильнее и сильнее закручивая мысли в вашей голове, и с каждым разгоном вашего давления, вы будете думать что «нет, ну это точно конец этой оперы», но мои дорогие, это лишь жалкое начало, начало моей писательской карьеры.
Я, как и любой человек, обычный потребитель существующего контента, всё изящно впитываю как губка и воспроизвожу когда мне нужно в том акценте, что нужен именно мне. Библия, Ницше, Кант, Данте, режиссер Финчер, картины Да Винчи, фильмы Ди Каприо, десятки просмотренных роликов на YouTube, биографии худших из лучших, архивы наполеоновских войн и тысячи, нет… десятки тысяч статей на Википедии.
Всё это впитав, я постараюсь выдать вам хороший продукт. Сомнительно, крайне сомнительно, что вы разберетесь во всех завязанных хитросплетенных моментах, но… я желаю вам удачи.
В книге будет сюжетная линия, обычный сопливый детективчик, по поимке одного из обычных маньяков под именем «Потрошитель Яммера». Его будет искать сенатор Освальд и остальные персонажи данной поэмы. Но как говорится, дьявол в деталях.
Все события, прочитанные вами, являются основанными на реальных событиях.
И в конце концов, смех безумия от прочтенного Ваш – станет гимном в мою честь.
ГЛАВА 1
Холодное утро ноября. Птицы уже совсем не щебечут за окном. Все, кто хотел улететь на юг с наших прогнивших земель, давно улетели. Остались лишь совы да вороны.
Индустриализация зашла в старый свет, и теперь все – от богачей до трущебных крыс, что называют себя пролетариями, прочитав лишь пару брошюр с цитатами Маркса и Энгельса, – постепенно и довольно быстро улучшают свое бренное бытие.
Веками, нет, даже тысячелетиями ничего не менялось. Все пахали в поле до посинения, чтобы прокормить себя и свою семью. Сейчас же с приходом так называемых "машин" все меняется…
Станки, заводы, первые прототипы паровых двигателей и автомобилей изрядно меняют картину Дойчланда.
Знаете ли вы, что если собрать 10 немецких годов, то по промышленности мы опережаем Англосаксонскую империю? Да, это так. И это есть факт. Количество заводов и промышленных возможностей – мы явно впереди… Кхм, ну что ж, что-то я затягиваю про промышленность, и ваши мозги уже скрутились до сырных косичек, и я могу медленно потянуть за них и одеть на них яркие, школьные, белые банты… а это я еще до концерна "Герман-Геринг" не дошел, не то что до "Фольцваген-групп".
Продолжим…
Холодное утро ноября. Наш персонаж… нет, пожалуй, назову его Личностью с большой буквы, быстрым шагом продвигается к улице Дайхштрассе. Его синие от мороза и легкого ноябрьского снега пальцы прикрывают перчатки из нежной оленины, что подарила мать. Время от времени он, поднимая голову, ищет в встречных людях кого-то знакомого, иногда здороваясь, но на словах, не за руку.
Длинное черное пальто с отпавшей нижней пуговицей моментами распахивается от пронзающего ветра, и у нашего героя закрадывается мысль "почему он сегодня не остался дома".
В очередной раз подняв голову, он потянул руку к тяжелой дубовой двери. Зайдя в здание, отдав пальто в гардероб, он чуть спеша пошел в свой кабинет.
В тусклый кабинет зашла секретарша. Пышная девушка по имени Моника, лет 25 (никто никогда не знал сколько ей на самом деле), всегда долго красилась перед выходом, но никогда не опаздывала на работу. Ее тонкие пальцы с кольцом с зеленым, похожим на изумруд, камнем положили довольно тяжелую стопку документов на стол перед мной.
– Господин Сенатор, это Ваше расписание до конца недели, – тихим, но довольно звонким голосом сказала она. – Туда входит, как всегда, расписание ужинов. Из примечательного – ужин во вторник в 18:00 с Петером Ремарком и Бургомистром Лейбницем.
– Благодарю, Моника. – Не подняв глаз, ответил я.
Сенатор Освальд был довольно юным человеком для политики и тем более для написания законов. Он возглавлял максимум бюрократии – комитет по законам Нижней Саксонии. Как вы наверное уже поняли, действия происходят в Ганновере – промышленном городке с политически важным для импорта всей империи портом.
Время приближалось к позднему вечеру. Большая часть представителей так называемого "народа" ушла с работы и примкнула к другим сливкам общества в бардели и оперы на севере нашего замечательного города.
С каждой минутой толстые книги и перечни законов становились все тяжелее, и при каждом переворачивании страниц, честно говоря, чувствовалась какая-то усталость и монотонность от процесса.
Освальд впервые с самого входа в сенат поднял взгляд и посмотрел на старое фото в рамке – фото его семьи.
Неужели, я совсем забыл вам рассказать?
Да, у Освальда до всех этих бумаг и белокурой красавицы секретарши была любящая жена и маленький 4-летний сын. Хорошая была картинка, как в сказках, которые на ночь рассказывают нам бабушки, чтобы мы лучше спали, но к сожалению, эта история закончилась печально.
Жена Освальда подхватила грипп и сильно болела последние два месяца 1897 года. Освальд разрывался между работой и домом, работая по 15 часов в сутки, остальные он мчался, чтобы уделить ей время, своей единственной.
31 декабря он задержался и решил перед дорогой домой взять буженины и бутылку чего-то хорошего.
Прийдя к дому, он увидел пламя, столь яркое, словно феникс поразил улицу. Но феникс означает возрождение, а тут было пепелище из двух трупов…
Спустя несколько часов к полуночи пожарным удалось потушить пламя. Без вопросов и слов подошел давний друг и комиссар полиции района.
– Друг мой, Освальд, керосиновая лампа… она по всей видимости упала вместе с ней, и огонь проник во все комнаты, они не мучались, умерли быстро, надышавшись угарным газом.
Освальд смотрел на развалившийся дом, слушая слова друга и комиссара полиции. Его сердце сжималось от боли, и он чувствовал, как вся его жизнь рушится вмиг. Все, что было ценно в его мире, погибло в этом ужасном пожаре.
Вскоре началось расследование, и полиция пришла к выводу, что пожар был случайным, вызванным падением керосиновой лампы. Освальд не мог поверить в такое стечение обстоятельств. Он чувствовал себя виноватым, что не был рядом в тот момент, что не смог спасти свою семью.
Освальд провел дни и ночи, пытаясь понять, как ему жить дальше. Его работа стала единственным, что у него оставалось. Он погрузился в нее еще глубже, стараясь забыть о своем горе. Но тень прошлого всегда следовала за ним, напоминая о потере, которую он никогда не сможет забыть.
Прозвенел колокол. Сегодня день памяти по Святой Богородице Остобрамской. Католиков в городе осталось немного, но по их праздникам можно спокойно определить число и год. Человечеству не кажется, что они наплодили больше праздников, чем могут прожевать?
Как мы, я и Освальд уже поняли, сегодня 16 ноября, и дело близится к вечеру, а рабочий стол завален будто до мая 1905 года.
Что-то мелочно горькое вспомнил Освальд, поднявшись со стола, он подошел к большому окну с пейзажем на площадь Блюхера перед сенатом.
Освальд смотрел взглядом на две тысячи ярдов, пока не заметил или не вспомнил что-то знакомое в этой довикторианской брущатке. Резко схватил мамины перчатки из нежной оленины, накинув пальто и быстрым шагом покидая кабинет, он лишь успел обронить фразу:
– Спасибо, Моника, Вы свободны.
Освальд мог бы красочно описать и похвалить старания Моники, девка давно бы могла устроиться в транспортную торговую компанию в порту и зарабатывать больше, но она сидит на госслужбе и с трепетом помогает своему боссу, может, просто боится развиваться или уйти, или ей движет нечто большее.
Спустившись по ступеням сената и отворив дверь, Освальд притушил свой пыл, и взгляд его стал более детским и робким. Он глядел в окно небольшого паба с другого конца площади. Самое странное, как после столь долгого пребывания на бумажной работе он оставил себе такой орлиный взгляд.
Причесывая свой бардак на голове в отражение зеркал игрушечных лавок по пути, Освальд не спеша шел.
Зайдя в паб, он еще медленее подошел к столу возле стойки и опустил свой взгляд на одинокую фройляйн.
– Мила, добрый вечер, – сказал Освальд. – Что такая милая фройляйн как Вы забыли в столь мрачном от трущоб и крыс городе?
– Господин Сенатор, – ответила Мила с ухмылкой. – Этот бетон, крысы и трущобы у меня в сердце и крови. Пусть я и уехала на 7 лет, но Британия и их напыщенность и гордость своим чаям ни им не мне совсем ни к лицу, вот я и решила посетить свою родину и Вашу бумажную крепость.
Освальд слушал Милу с интересом, улыбаясь в ответ. Его сердце было тяжело от недавней утраты, но разговор с этой загадочной женщиной из далекого прошлого казался отвлечением от горя.
– Вы удивительно остроумная, Мила, – сказал он. – Пожалуй, встреча с вами стала для меня светлым пятном в этом мрачном городе. Вы смогли вернуть мне частичку утраченной надежды.
Мила взглянула на него с интересом, словно читая его душу. Ее глаза были как две загадочные глубины, и Освальд чувствовал, что она способна на многое, как он когда-то считал и раньше.
– Господин Сенатор, – прошептала Мила. – Судьба иногда приносит нам нечто неожиданное.
Они продолжили беседу, словно уносясь в мир собственных мыслей и надежд.
Но каждую секунду, как Освальд смотрел на Милу, он вспоминал свою Фрау… и он будто в душе чувствовал измену…
– 22:00 Мы закрываемся, дохлебывайте и уходите, господа, – сказал старый бармен.
Освальд помог надеть пальто Миле и проводил ее до выхода, где ее ждал экипаж такси.
– Мы еще увидимся, – сказала Мила.
– Не знаю, – тихо ответил Освальд.
Пройдя пару кварталов и немного покачнувшись от вина, Освальд присел на лавочку, стоящую возле таможенного отделения, чьи сотрудники давно дома пили чай.
Закурив сигарету, он почувствовал чью-то тяжелую руку на плече. Повернув голову, боковым зрением он увидел до боли знакомое лицо в темноте.
– Кто Вы? Я Вас знаю? – спросил Освальд.
– Oui, Oswald, je suis ta conscience, – сказал человек из темноты.
– Француз… – опустив обратно свой взгляд в викторианскую брущатку, ответил Освальд.
– Я видел, как ты был не такой скучный как всегда, не такой грубый и даже помог с пальто той мадемуазель, – сказал Француз.
– Фройляйн, правильно говорит фройляйн, – с упреком возразил Освальд. – Ты не в третьей республике и это тебе не шаболда из Бастилии.
– Сколько ты не прячься от себя и своей сущности, сколько не уходи во взгляды прохожих людей и теплоту перчаток, подаренных твоей матерью, ты не убежишь от потери своей Фрау и ты найдешь свою сущность быстрее, чем ты думаешь, – сказал Француз, положив вторую руку на плечо Освальда.
Обойдя лавочку, француз присел рядом, закурив трубку с американским табаком.
– Меня можно порвать, не касаясь рукой, дать и забрать меня легко, – медленно сказал Француз. – Я могу порой стать обманом, но, будучи честным, я лучший подарок. Кто я?
– У меня совсем нет времени на твои загадки, – ответил Освальд, вставая с лавки и поправляя брюки. – Пожалуй, я пойду домой, через 7 часов мне на работу.
Уходя домой, Освальд смотрел на ярко-синие небо и полнолуние. "День сегодня был насыщенный", – подумал он.
Придя домой, он положил свое длинное черное пальто на спинку винтажного кресла и, облакатившись рукой об стол, тяжелым взглядом посмотрел под ноги.
«Все могло быть иначе, ты просто дурак» – раздирающая мысль молнией пронеслась в голове, но тут же молотом по наковальне ударила другая:
«Ты жалок, у тебя в любом случае ничего бы не вышло», но… «Я же сенатор и я успешен» – мысленно возразил Освальд.
Он лег в постель. Во дворе был слышен вой собак, ночью они всегда страшнее, и в голове предстает образ цербера дьявола при вое этих псин.
Освальд долго не мог уснуть и просто смотрел в потолок, изредка моргая. Спустя пару взмахов ресниц появилось утреннее солнце. Оно столь нежное, что не успело еще наволить своими лучами планету и засушить поля растений, будто давая мотив для жизни и нового дня.
Освальд встал с кровати. Утро 17 ноября. Спустился вниз со своей просторной спальни в гостиную, заварил себе крепкий экспрессо и начал собираться на работу.
Забирая перчатки со стола, он увидел книгу Ницше «Так говорил Заратустра», и мысли уже не стали запираться в голове сенатора. Он произнес:
– Да, старая моя Фрау, именно на это я тебя променял.
Пройдя гостиную и одев свои начищенные черные туфли, Освальд удалился на работу. По пути его ждали знакомые люди, которых он видел каждый день, изредка им улыбаясь и поправляя свой высокий цилиндр. Один из них – 9-летний мальчик Заг, вечно грязный от дыма и копоти заводов, продающий газеты. Его мать ушла, когда ему едва исполнилось 2, отца Заг почти не видит, он работает на заводе на производстве поршней для двигателей линкоров. Такова она… атмосфера Германской империи.
– Господин сенатор, купите газету! – воскликнул мальчик и одернул Освальда за пальто.
Герр Освальд дал парню 5 пфеннигов, одной рукой взял газету, другой неопрятно всполошив Загу волосы, и продолжил свой путь.
Во время дороги на работу времени останавливаться не было. Освальд закурил на ходу, и его внимание захватила газетная статья о «очередном» трущобном маньяке по имени «Потрошитель с Яммера». Яммер – это один из микрорайонов Ганновера, где в конце 19 века жили рабочие в трущебах. Еще этот район называли «темное море»: с крыши местного протестантского собора было видно нескончаемые крыши маленьких домиков, от государственных складов до промышленной зоны.
Потрошитель ищет одиноких людей и жестоко убивает их возле сливных стоков.
Среди его жертв довольно разносортная картина: 6-летний мальчик, 27-летняя девушка, 40-летний имперский офицер-инвалид на пенсии и пара проституток с того же района.
Освальд, после прочтения пройдя уже не одну сотню метров, развернулся назад и посмотрел, будто искал Зага. Маньяк – это угроза для всего города, но стоит ли она больше внимания, чем красная угроза?
Уже прошло 6 кварталов с той самой газеты, но Освальд никак не мог одуматься, и ему будто казался этот потрошитель перед глазами, как он убивает Зага…
Но тут перед его взором показались гранитные ступени здания сената. Сделав шаг наверх, Освальд услышал приветствие с южным немецким акцентом:
– Герр Освальд, доброе утро! У меня назначено на 9:00, есть к Вам пару дел.
Освальд увидел перед собой старого еврея Эдмона де Ротшильда, французского филантропа и внука родоначальника династии Майера Амшеля Ротшильда. Именно в Ганновере он когда-то начинал: сначала лавка со старыми монетами, потом спустя годы это переросло в банк. Тогда у евреев в Германии совсем не было прав, они не могли покидать Гетто и выезжать за черту города, не могли посещать базар и касаться овощей на прилавках, даже не могли ходить больше чем по 2 человека в ряд. Так вот Майер дал большую сумму тогдашнему сенату, чтобы увеличить права евреев, и пусть антисимитизм еще силен, но евреем быть в Ганновере стало легче.
– Доброе утро, Эдмон, да конечно, пройдемте в мой кабинет.
Освальд и Ротшильд проследовали на 5 этаж в сенаторский кабинет. Моника еще не успела подготовить отчет дел на день и испуганным взглядом прошлась по паре мужчин в черных одеяниях.
– Доброе утро, фройляйн, – сказал Ротшильд и закрыл за собой тяжелые двери кабинета.
Освальд присел за сенаторский стол из дуба и стал перебирать папки с делами и законопроектами, будто что-то ища. Ротшильд тихо, но вызывающе устроился на гостевом диване в другом конце кабинета. Еврей разложил руки на спинку кожаного дивана, будто в его небольшой, но крайне умной еврейской голове промелькнуло что-то очень невероятно прибыльное, как это обычно бывает у евреев.
– Герр Освальд, – начал Ротшильд, – я не просто так покинул солнечный юг Франции, чтобы приехать в еврейское гетто на окраине серого немецкого Ганновера. Давайте сразу ближе к делу, чтобы не мусолить ни мне, ни Вам мозги, оно же Вам не надо, Герр Освальд?
– В доках Яммера есть очень интересные станки, которые пришли сюда напрямик из такого же дождливого Ливерпуля, – продолжил он. – И я знаю, что помещение бывшего сахарного завода совсем пустует. Улавливаете мою мысль, Герр Освальд?
– Я знаю, что станки были военными… – ответил сенатор.
– Да, военными. – Ротшильд кивнул. – Я хочу выкупить землю вместе с помещением завода, привезти туда те станки и людей из неблагополучного Яммера. Мне нужно, чтобы Вы, господин сенатор, дали мне соответствующие бумаги и разрешение. Со своей стороны я смогу гарантировать трудоустройство приблизительно для 600 человек.
– Ничего плохого в трудоустройстве людей не вижу, – заметил Освальд. – Я дам Вам одобрение сената. Но хочу лишь спросить, сколько эти люди будут работать в сутки и какую зарплату получать?
– По стандарту 14 часов в сутки, 6 дней и 20 марок в неделю, – ответил еврей.
– Неплохо, мистер Ротшильд, – хмыкнул Освальд. – Но для моего полного морального одобрения я бы хотел услышать о 12 часах в сутки и о 40 марках в неделю. А так Вы говорите о каком-то римском рабстве.
– Прошу заметить, – возразил Ротшильд, – мой народ был в римском рабстве, когда Ваш народ еще не вылез из пещер и рек на севере. Готов повысить до 30 марок, но 14 часов остаются.
– 35, – твердо ответил Освальд.
– По рукам, – вздохнул Ротшильд и встал с дивана, потянув руку.
– Никто не остается довольным, выходя из переговоров, не так ли, Герр Освальд? – спросил он с усмешкой.
Да, это Вы хорошо заметили. Сегодня же Моника подготовит все предстоящие документы. Все остальные детали мы урегулируем с Моникой. Но, мистер Ротшильд, вы должны понимать, что это дело должно быть совершенно конфиденциальным. Мы не хотим привлекать излишнее внимание к этой сделке, не так ли?
– Согласен, конфиденциальность очень важна для нас, – ответил Ротшильд.
– Насчет охраны территории и обеспечения безопасности рабочих это также нужно обсудить? – заметил еврей.
– Да, безопасность будет нашим приоритетом. Мы обеспечим охрану и принимаем на себя ответственность за благополучие рабочих. Я думаю, нам удастся добиться взаимовыгодного соглашения, – тихо ответил сенатор.
– Прекрасно. Надеюсь, это сотрудничество будет успешным и приносящим пользу обоим сторонам, – сказал Ротшильд.
Ротшильд, пожав руку, надел на свою седую плешивую голову цилиндр и покинул кабинет. Еврей был из старой гвардии, таким обычно не перечат. В его глазах было что-то животное, но в то же время рыцарское. Знали бы вы, сколько Ротшильд потратил на благотворительность! Одна треть бесплатных обедов для малообеспеченных в северной Германии оплачивается этим стариком.
Освальд постепенно разбирал оставшиеся дела на день, подписывал законопроекты и утверждал порядок дневного заседания для законодательного собрания на месяц. Время близилось к обеду. Освальд в течение всей своей жизни очень мало ел, и невероятно, как при таком питании ему удалось дорасти до 1,80 м. Утром он пил кофе и шел на работу, в обед обычно ел сэндвич с селедкой и луком, после чего обязательно пил мятный чай, чтобы со рта не несло. А вечером он брал пару баварских колбас и сотню граммов вареного картофеля. Поговаривают, что раньше Освальд ел намного больше, но смерть жены и сына подкосила его на такую голодовку.
Как всегда, Освальд спустился в буфет за своим сэндвичем.
Проходя на углу лестницы, его резко тяжелыми руками в черных перчатках схватили за обе руки и будто швырнули в сторону темного угла, прижав к стене. Из тени керосиновой лампы на стене засветились два глаза. Это был француз.
– Ты играешь с огнем, – сказал француз и еще сильнее прижал Освальда к стене.
– Черт возьми, о чем ты? – всполошился Освальд.
Француз отпустил Освальда, расстегнул свое буро-коричневое короткое пальто и достал из внутреннего кармана пистолет Люгера 1898 года. Щелкнув затвором, вылетел пистолетный патрон.
– Знаешь, что это, сенатор? Это пистолет и пули, которые будут производить несовершеннолетние дети района Яммера. А по чьей вине они это будут делать? По твоей. Ты со старым евреем приговорил их к каторжным работам за гроши, чтобы получить политические очки и немного денег для еврея, – сказал француз.
– Если бы я не согласился, еврей бы сместил меня и поставил другого сенатора. Я мог лишь поднять для них ставку, с чем успешно справился, – ответил Освальд.
Француз отдал патрон Освальду, похлопал его по плечам, опустив голову вниз, он засмеялся и так же резко поднял голову, сделав пару шагов назад. Француз спросил:
– Так что, ты отгадал мою загадку?
– Про «Меня можно порвать, не касаясь рукой»? Да, еще тогда отгадал. Ответ – «обещание».
– Так дай мне обещание, сенатор, что ни один ребенок не пострадает на производстве Ротшильда, – сказал француз.
– Не в моих целях, чтобы кто-то из граждан Ганновера пострадал. Я ведь слуга народа, – монотонно ответил Освальд.
Француз еще пару секунд смотрел Освальду в глаза, и когда понял, что тот не врет, развернулся и начал спускаться по лестнице сената, насвистывая марш Наполеона. Освальд, поправив свое пальто и совсем забыв о сэндвиче, вернулся в кабинет. Он запер двери и сел в кресло.
Закурив сигарету, Освальд подошел к окну, чтобы проветрить кабинет. Подняв темно-алый тюль, он потянулся к ручке и взглянул на площадь. Идет снег… Хотя был ноябрь, такой осенне-холодный.
Освальд вспомнил слова Милы о том, что они еще встретятся. Не проверив свой график, что было ему далеко не в привычку, он вышел прочь из кабинета, как всегда проигнорировав Монику и ее деловой календарь. Выйдя из здания сената, Освальд направился в сторону из центра.
ГЛАВА 2
Освальд с переменным успехом шагал, словно отбивая своими каблуками германский имперский марш по городской брусчатке. Он мимолетом прошел рынок, где на ювелирной лавке висели триколоры, и напротив стоял памятник Вильгельму Первому. Снег все шел и шел, приближалась метель, поднимался ветер, и каждая снежинка будто врезалась с быстротой бритвенного лезвия в поникшие щеки Освальда. Мимо пролетали экипажи викторианского такси с пассажирами на борту. Эти господа и их украшенные в жемчуг фрау, должно быть, спешили домой к камину или от камина в оперу.
Освальд продолжал свой путь по улицам Ганновера. Вечер был довольно светлый из-за миллионов падающих снежинок. Снег отражал свой свет в небо вечно тусклого города, и это напоминало его жителям, что в мире есть и всегда будет капелька добра и света в их жизнях, как этот свет спустился в вечер ноября в Ганновере.
Туфли Освальда, подобно большинству обуви того времени, имели трехсантиметровый каблук, что возвышало и так высокорослого сенатора над другими, но во время метели являлось преградой, так как каблук постоянно скользил. На улице Роттенбург-на-Таубере всегда была большая яма, которая в дождливую погоду превращается в лужу, подобную морю, а в снег – в каток, подобный Ледовому побоищу Тевтонского ордена.
Именно на этот лед не повезло наступить каблуку Освальда, и ударом молнии и грохотом грома сенатор полетел на брусчатку. Сейчас асфальт делают мягким, он плавится на солнце и трещит от холода, но брусчатка – более серьезная причина для переломов всех возможных костей.
Сенатор, упав на брусчатку и даже не проверив целостность своих конечностей, повернул голову к одной из лавок, где была аптека. В окне сверкали различные бутыльки и флакончики, таблетки от чумы, для полового акта и бессмертия. На брошюрах было написано, что они лечат рак и психические расстройства. Конечно, они содержали популярный тогда героин, но это было задолго до всех врачебно-медицинских комиссий.
Под керосиновой лампой сидела фройляйн-аптекарь.
Ее голову украшали каштановые длинные волосы, а зеленые глаза были спрятаны в блокнот, куда она записывала перечень привезенных лекарств из разных концов Европы. Среди аптечных полок виднелись нежные руки с аккуратным маникюром. Освальд сразу понял, чьи это руки. Еле встав и отряхнув пальто от снега и воды, сенатор вошел в аптеку. Глаза аптекаря ничуть не изменили вектор своей занятости, а из-за полок вышла Мила.
– И снова добрый вечер, сенатор. Что вы забыли в этой не обремененной политикой части города? – сказала Мила.
– Я просто решил пройтись и, проходя мимо этой замечательной лавки, заметил ваши нежные руки. Решил спросить, как вы?
– Ах, просто решили пройтись. Какое совпадение – второй раз за неделю, господин сенатор. Какие у вас планы на вечер? Не хотите ли пройтись вместе?
В глазах сенатора промелькнула радость от этого предложения, и Освальд молча кивнул головой, дав свое согласие на прогулку. Выйдя из аптеки, они обнаружили, что снежная буря закончилась, и снег мило хрустел под каблуками жителей Ганновера.
Сенатор и Мила шагали улица за улицей, рассказывая друг другу, как прошли их последние дни и ночи, что нового Мила узнала в других странах и государствах Европы, какие виды, памятники, картины и другое искусство ей встретилось. Она могла часами говорить Освальду о прожитых моментах своих путешествий и эмоциях, которые получала. Освальд все время слушал и слушал, лишь кивая и иногда дополняя краски историй Милы маленькими фактами, которые мог знать только настоящий аристократ и мужчина.
Небо сегодня было необычайно светлым для осеннего вечера из-за всего снега, который Бог высыпал на тротуары Ганновера. Мальчишки и девчонки играли в снежки и лепили Кайзера с цинковым ведром вместо короны. Освальд предложил прогуляться в сторону старой цитадели, где был причал. Сейчас в той цитадели находилось императорское управление полицией, и с вышки открывался невообразимо красивый вид на "французский" квартал города. Мила согласилась с предложением Освальда.
Сенатор предложил проехаться на такси, но свободных экипажей совсем не было: люди не были готовы к холоду и снегу, и все были заняты. Тогда Мила предложила пройтись пешком, чтобы у них было больше времени поговорить на насущные или не очень темы. Герр сенатор был только рад ее предложению. Минута за минутой, квартал за кварталом, километр за километром, они шли и рассказывали друг другу истории из жизни, приближаясь к цитадели.
Мимо пабов и ближе к причалу начали виднеться большие огненные, как в аду, башни с постоянно горящими огнями на верхушках. Свет окон пабов и барделей сменился светом от кораблей императорского флота, что причаливали к берегу. На стенах цитадели виднелись следы от ядер, явно воинственного прошлого германского рейха, а изюминкой в этом пейзаже были трюмно расставленные горгульи по углам возле башен, словно сторожащие Ганновер. Их нельзя было подкупить или взять в плен, убить или шантажировать. Бетон с металлом иногда может быть крепче, чем вера и принципы человека.
Освальд и Мила зашли через…
Мила и Освальд зашли в главные ворота цитадели. Изрешеченные ворота возвышались на несколько метров выше и так высокого сенатора. Чуть пройдя, они увидели колонны, подпирающие потолок. Справа от входа были решетки, за которыми содержали самых отъявленных негодяев, убийц и насильников, когда городская тюрьма переполнялась. Этажом ниже тюремных камер и пыточных катакомб был склад с порохом. Он почти никогда не использовался местным гарнизоном, так как за жизнь любого из служащих офицеров здесь не было не только ни одной войны, но даже и стычки. Солдатам Французской Бастилии есть чему позавидовать в этом плане.
Вдоль стен через каждые три-четыре метра на высоте полутора метров висели факелы – это было намного дешевле керосиновых ламп. Там, где могли быть заключенные, даже факел не позволялся. Им светил свет из маленьких, 20-сантиметровых по периметру решетчатых окон. Несколько высоких башен вели к стрелковым пунктам, которые просматривали всю территорию от начала до конца. Хоть инцидентов и не было, не стоит думать, что солдат с жалким жалованием из-за совести решит не стрелять в вас, если увидит, как вы воруете металл или еще какой-то бред с территории цитадели.
Освальд одолжил у одной из стен этого замка факел и предложил подняться Миле:
– Давай поднимемся наверх северной башни. Вид на город оттуда просто отличный, – сказал сенатор, взяв факел в свою перчатку.
– Хорошо. А как же солдат с винтовкой на посту? – спросила Мила.
– Там сегодня стоит Генри. Это племянник одного из секретарей библиотеки в центре города. Мы с ним в довольно хороших отношениях, – сказал Освальд и нехотя потянул Милу за руку наверх, как маленький ребенок.
Сорок пять метров вверх поднималась северная башня цитадели, целых 115 ступеней, будто поднимаешься в рай, только очень темный, следуя за жарким источником света, который держит сенатор. Извилистая круговая лестница не заканчивалась, и у постоянно курящего Освальда началась одышка. Мила подбадривала его, говоря, что осталось совсем немного. Только суть в том, что одышка была не из-за сигарет, а при виде факела. Освальд сам того не понимая, засмотрелся на пламя и вспомнил свою жену и ребенка. Его дыхание участилось и стало тяжелым, а пульс пробивал грудную клетку так, что скрипели ребра и шатались тонкие ноги.
На восемьдесят пятой ступени Освальд упал на одно колено и опустил голову вниз, стараясь не смотреть на огонь факела. Мила положила руку ему на плечо и спросила:
– Освальд, что с тобой? – прозвучал её голос.
Не дождавшись ответа, она взяла факел из его рук и обняла его за талию.
– Вставайте, сенатор, вы справитесь.
Освальд, чуть отойдя от эффекта панической атаки, утвердительно кивнул в ответ Миле. Встав на ноги и отряхнув правое колено, он услышал, как шум дыхания и шагов пропал. Теперь было слышно лишь крыс, которые бегали между стенами этажами ниже, как будто устраивая между собой гонки за кусок сыра или что они там едят.
Сенатор забрал обратно факел у своей спутницы, и они пошли наверх чуть медленнее, чем вначале, но всё же пошли. Наверху была металлическая лестница с пятью ступенями на последний ярус, где стоял солдат Генри и нёс свою службу.
Освальд поднялся первым, приподнял металлический люк весом килограммов в семь и встретился взглядом с солдатом. Они кивнули друг другу.
– Генри, вы не против, если я со своей спутницей разделю с вами столь прекрасный вид?
– Конечно, господин сенатор, – счастливо ответил Генри, умирающий от скуки и вечного свиста ветра.
Освальд спустился обратно, оставил люк открытым, подал руку Миле и подсадил её на первую ступеньку, придерживая чуть выше талии.
Мила и Освальд поднялись на крышу северной башни.
Освальда очень волновало то, что огонь факела до сих пор его тревожил. Огонь горел где-то внутри грудной клетки, где-то внутри души и сердца. Мила заметила это и положила свою голову на плечо сенатору, слегка приобняв его. Тихую идиллию прервал картавый голос Генри:
– Господин сенатор, видите те звезды? Это Большая Медведица, – сказал Генри.
– Да, спасибо, Генри. Я тоже проходил астрономию в школе, – ответил сенатор Освальд.
Так бы они и смотрели на звезды, огоньки двух башен и домов ночного Ганновера. Слушали изредка лай дворовых собак, которые плодятся стаями под стенами привилегированных районов.
Освальда уже будто отпустило от всего того ужаса, что держал его в заперти столько лет. Почувствовав теплоту Милы, он потянулся к ней, а она к нему с ещё большим рвением. Их лица остановились за пару сантиметров друг от друга, и они смотрели так понимающе, что хотели друг друга поцеловать. Мгновение, и уже даже Генри готов был кричать «Горько!», как под стенами башен цитадели стал слышен раздирающий женский крик. Через пару секунд Освальд и Мила уже осознали, что что-то не так: обычно в спальных районах так не кричат. Крик был пугающе мерзок, как сигнал пожарной тревоги, что-то среднее между свистком и пищанием какого-то сумчатого животного.
Генри включил старый прожектор и стал направлять его на тротуар вниз, ища причину криков среди стен домов. Освальд подошел к молодому парню и раздражённо сказал:
– Дай сюда этот чертов прожектор! – начал искать причину, чтобы быстрее всё уладить. Сенатора не столько волновал крик и женщина, сколько то, что поцелуй с Милой оборвался, так и не начавшись, по такой глупой причине.
Освальд высматривал и увидел женщину возле ближайшего дома. Она так громко кричала, что сенатор решил спуститься и посмотреть, что там случилось. Взяв перчатки и опять подняв люк, Освальд спустился на лестницу, сказав Миле, чтобы ждала его тут, пока он всё уладит. На это Мила возразила, что знает сенатора с самого детства и ей так же интересно, как и ему.
– Ладно, пошли, – ответил Освальд и накинул на неё своё пальто сверху, прикрываясь тем, что на улице стало намного холоднее за последние 40 минут.
Освальд и Мила спустились, и их барабанные перепонки стали разрываться при приближении к кричащей женщине.
«Как у нее еще не сорвался голос?» – подумал Освальд и, подойдя, мило спросил:
– Женщина, что у вас случилось?
Перед ним стояла явно не очень образованная кухарка лет 50, весом явно больше центнера, при небольшом росте и платье в горошек. Пальцы не были толстые, а голос, как уже стало понятно, был очень громким, из чего можно было предположить, что она работает где-то на скотобойне. Женщина, увидев статного мужчину в костюме-тройке и перчатках дороже, чем её месячная зарплата, тут же замолчала. Она протянула свой короткий толстый палец в сторону переулка, где в её дворе выбрасывают мусор.
Раз в неделю, каждое воскресенье, его оттуда вывозят на телеге местные ребята за небольшую плату. Среди отходов, мешков, костей куриц, бутылок и другого вида токсичного промышленного мусора виднелась черная туфелька на ноге. Освальд сказал Миле стоять на месте и не подходить ближе к проулку.
– Там воняет дерьмом, не хочу, чтобы ты это нюхала, – сказал Освальд.
– Господин сенатор, я переплывала Атлантику и уверяю вас, что ничего так плохо не пахнет, как скот в трюме в недельном плавании, – ответила Мила, взяв Освальда под руку, и пошла с ним.
Освальд приподнял пару мешков куриных костей и жира, что лежали сверху, и увидел воистину страшную картину. Лежала полуголая девушка лет 25, может, 30. Красное платье с кружевами по краям было поднято высоко вверх, так что была видна левая грудь. На ногах была одна черная туфля, а вторая лежала в сорока сантиметрах возле другого мусорного мешка. На спине этой девушки была татуировка в виде бабочки, из чего можно было понять, что она девушка с низким уровнем социальной ответственности. Тело было достаточно ухожено для такой барышни.
Волосы держали две продолговатые позолоченные спицы, одна из них была сильно согнута под семьдесят градусов, возможно потому что ее удалили чем то или швырнули на пол. Пижама под платьем и нижнее белье было настолько сильно что складывается впечатление что либо его вообще не было либо какой-то лесной сказочный зверь тут рвал и метал. Освальд взял труп женщины за плечо и перевернул с бока на спину чтобы лучше разглядеть труп. Он словно интерн медицинского сжиравшими глазами поглощал информацию которую мог понять по этому трупу.
На животе было коло-резатая рана, небольшая сантиметра 3-4. По краям раны уже орудовали опарыши. Лицо жертвы лежало на еще одном мешке с куриными остатками и опарыши оттуда освежевали ее лицо и остветлили зубы от кариеса. При свете единственного во дворе фонаря было видно что от лица ничего не осталось, глаза вытекли, а щеки были сьеты насквозь. Среди шикарноуложенных, но немного растрепанных волос также ползали эти мерзкие маленькие белые личинки. А на шее виднелись темно-бурые следы от пальцев которые были глубиной в пол сантиметра от силы что вдавливала эту проститутку. Влагалище жертвы было окровавлено, от того что с ней произошло, а два пальца на правой руке сломаны.
Мила все это время стояла за Освальдом и так же смотрела на труп, ей надоело, может быть стало просто страшно что Освальд и так со своей не так здоровой психикой пересмотрит эту ужасную картину. Она взяла его пальто и накрыла труп.
– Господин сенатор, нам надо вызвать полицию и государственного суд мед эксперта. сказала Мила сделав взгляд таким что дает понять что не хочет оставаться с Освальдом тут не на секунду.
Освальд тихо, как всегда, кивнул готовой Миле. Конечно, Освальд был согласен с предложением Милы вызвать сюда патруль и экспертов своего дела, но к тому времени он будто уже упал в бездонную пропасть азарта. Освальд с детства любил читать газеты и разгадывать кроссворды, и сенатор видел перед собой не труп, а лишь очередной кроссворд. Может, этим он хотел помочь жителям города, поймав убийцу как законно избранный сенатор. С другой стороны, это не совсем входило в компетенцию Освальда, так как его род деятельности предполагал законы, а не поимку очередного насильника.
К тому времени к крику женщины спустился не только Освальд с Милой, но собралась ещё внушительная толпа зевак. Один из них был внуком местного старейшины Чокса. Прошедший долгую карьеру на шахте, Чокс под конец жизни перебрался со всей своей многочисленной семьёй поближе к хорошим районам. Тут его выбрали местные жители как самого старого и опытного, возможно, из-за уважения, но скорее всего из-за его напористой дотошности.
Чокса разбудили примерно в 3:10, и пока он надевал свою пижаму и небрежно накинул старое пальто из шерсти какого-то непонятного животного, прошло, наверное, минут тридцать, может, сорок, хотя дед живёт буквально за углом, и всё это вызывает вопросы, как он не слышал крики той женщины.
Чокс медленно подошёл, прихрамывая, к сенатору Освальду, сразу определив своими плохо видящими глазами, покрытыми угольной пылью, что он тут главный. Чокс и Освальд протянули руки друг другу. Старик явно хотел пропиарить своё непонятное на улице величие или чем-то впечатлить сенатора, и в тот момент, когда их руки сошлись в рукопожатии, он сжал его руку и не отпускал, толкая речи о том, что всё решит, и полиция обязательно поймает преступника. Полиция была вызвана. Долго ждать не пришлось, так как ближайшее районное отделение было всего в двух кварталах от цитадели.
Подошли два человека в штатском. Один высокого роста представился как Конрад Штайнер, а второй, более молодой, низкий и пухлый, был его помощником Отто Гендевальдом. Пройдя к трупу бедной проститутки, всё ещё накрытой верхней одеждой Освальда, Отто немного пошатнулся из-за стоящего запаха дерьма и зловония от трупа. Конрад же, не чураясь того, что может почувствовать его нос, поднял пальто, чтобы посмотреть на жертву. Старейшина Чокс, который до этой ночи ни разу в своей долгой шахтёрской жизни не видел истерзанного трупа, зашатался, как Отто, но, в отличие от молодого оперативника, не устоял и упал в обморок. Забавно, что на секунду старый старейшина без сознания напугал улицу больше, чем плоть и кости трупа, лежащего в двух метрах дальше. Внук с детворой оттащили деда от греха подальше, мало ли когда очнётся и снова увидит труп – поймает инфаркт.
Конрад Штайнер секунд тридцать смотрел на труп и, запомнив, как всё лежит, начал копаться в глубинах своей памяти, где он её мог видеть. Отто, заметив татуировку бабочки на спине, сообщил о ней своему командору. Тогда тот тихо промямлил под нос: "Не из наших," – и, развернувшись к Освальду, протянул испачканное кровью и небольшим количеством вытекающих кишок пальто.
– Это, наверное, Ваше, господин сенатор, – сказал Конрад.
– Спасибо, инспектор, пожалуй, я обойдусь без него сегодня, – ответил Освальд, оценив ситуацию. Он подумал, что намного проще будет выкинуть это пальто, чем одеть его и потом покупать весь костюм целиком.
Штайнер ещё раз оценил труп и, подозвав к себе Отто, сказал отправить труп на изучение к доктору Фишеру в морг при больнице номер 4 в конце улицы Дюссельдорфа. Отто Гендевальд дважды щёлкнул пальцами в сторону пинающих мёртвую тушку четырёх полицейских в форме и в приказной форме сказал:
– Чем вы тут занимаетесь, придурки? Это же место преступления, а не футбольная лига Бразилии, – пронизывающе сказал Отто, не сводя глаз с полицейских. – Давайте везите труп в четвёртую больницу к Фишеру, – добавил он.
– Но, герр Отто, туда же ехать на повозке часа полтора, – неуверенно ответил один из полицейских.
Герр Отто, посмотрев на старые отцовские карманные часы с серебряным напылением, показал пальцем на стрелку, которая показывала 4:34 утра, и намекнул на то, что если они не довезут труп до шести, то останутся на вторую суточную смену без оплаты. Конечно, у него не было таких полномочий, но вечно злой Конрад мог их предоставить, и полицейские это знали. Тут же замолкнув, они начали грузить труп на медицинскую телегу, приехавшую ещё двадцать минут назад.
Уже понемногу светало, и ранние лучи света начинали освещать сначала башню цитадели, а потом и всю улицу, заменяя свет фонаря, который обычно отключают к пяти часам утра. Всё это время, пока толпа зевак и офицеры полиции толпились в тесном переулке, мозг Освальда был занят размышлениями о преступлении, так что он совсем позабыл о своей работе. Но хуже всего, он позабыл о Миле. Пелена маленьких пушистых облаков, похожих на шотландских овец, накрыла небо и, подобно стаду, скакала по небосводу, время от времени пропуская лучи солнца. Один из лучей попал Освальду в глаза. Не привыкший к солнечному свету, вечно сидящий в кабинете и выбирающийся на улицу только поздно вечером, господин сенатор зажмурил глаза. Спустя мгновение он почувствовал чьё-то дыхание возле своего подбородка, что было странно: толпа людей уже разошлась, и было абсолютно тихо ранним утром, все вставали и собирались на работу, а вокруг лежал снег. Сенатор открыл глаза и увидел Милу, лестно протягивающую ему чашку какого-то тёплого чая с запахом лесных трав. Над волосами Милы светило солнце, напоминая ангельский нимб.
Не верующий в господа Бога, Освальд, как после очередной рабочей ночи, потерявшись в памяти, спросил: – Сколько?
– Что сколько? – ответила ему Мила.
– Сколько мы тут находимся? – сказал Освальд.
– Не знаю, часа три, может, четыре, из которых вы, господин сенатор, точно стоите почти голый без верхней одежды. Стоит ли мне напомнить вам, что на улице зима и вы можете простудиться, а работа у вас и так тяжелая? – сказала Мила, протянув чашку горячего чая в сторону Освальда. Тот не сильно рад был этому маломальскому подарку, как расстроен тому, что эта ночь закончилась, и в непонимании, что делать дальше. Мила постояла так ещё, может, пару секунд и двинула чашку в руку Освальда.
– Выпейте это, потом поговорим. Пока вы тут стояли, инспектор Конрад Штайнер дал мне свою визитку, чтобы я передала вам, как вы отойдёте от шока, – добавила Мила.
– От какого шока? Всё было нормально, – сказал Освальд.
– Вы смотрели на труп в течение получаса до прибытия инспектора. Это не очень вписывается в нормальность, – сказала Мила и протянула в сторону сенатора темнокоричневую визитку инспектора.
Освальд нехотя взял дешёвую картонку. На ней было написано: "Конрад Штайнер, инспектор по особо важным делам района Яммера, Нижняя Силезия," и маленьким шрифтом был указан адрес: "5 отделение полиции Яммера, улица Балдуила, дом 15, 4 этаж, кабинет 414."
Конрад Штайнер родился в 1861 году. Маленький комочек весом 2 килограмма, голубоглазый и не кричащий во время родов, он также родился с парой зубов, что было воспринято в провинции как плохой знак свыше. Его отец имел небольшую ферму вблизи обширных полей Франкфурта. Конрад был единственным ребенком в семье и отдушиной для своей матери, которая была на 15 лет младше своего мужа.
Забеременела она от него в 13 лет и, можно сказать, росла вместе со своим сыном. Конрад рос под вой, когда все немецкие графства и княжества после Франко-прусской войны были превращены в империю на полях Версаля в Париже.
Штайнер рос замкнутым в селе парнем, и его отец регулярно избивал. В 1870 году отец Конрада уверовал в Бога, но не в прямом понимании этих слов. Он, а затем и вся его семья, примкнул к какой-то секте, что в те годы в провинции Германии было не редкостью. Он также уверовал, что в 1892 году наступит конец света, и, продав все, что имел, отдал все секте. Сам он с семьей стал ждать конца света в палатке возле леса, но, как известно, конца света не наступило в 1892 году, и он просто финансово прогорел. В те дни он обвинил сына в том, что тот виноват во всех их бедах.
После этого Конрад покинул родной край. Одаренный проницательным медным взглядом, "пилящим" людей насквозь, и весомыми умственными способностями, Конрад поступил в академию полиции при Ганновере.
ГЛАВА 3
После такой, если можно сказать, бурной ночи Мила решила пригласить Освальда в ресторан, хотя скорее его можно назвать забегаловкой на три звезды под пафосным названием "Рыцарская Трапеза". Окна были в романском стиле, обрамлённые разноцветными стеклышками, как фрески в католических соборах. Возле входа лежал вечно пьющий ветеран 1871 года, наверное, с того самого года его ноги и начали вонять французским пармезаном, или, может, потому что он не моется. Потолок был слишком низкий для ресторана, и в люстру можно было упереться головой, если вы предпочитаете носить цилиндр. В зале вместо стульев стояли старые 80-летние кресла, вешалок для вещей не было. Освальду она бы и не понадобилась, так как он уже оставил своё пальто в том переулке на радость какому-то из местных бездомных, а вот Миле не помешал бы крючок, куда можно было бы повесить её шубу. Освальд, будучи джентльменом, подозвал хлипкого официанта и попросил его положить куда-то верхнюю одежду фройляйн. За это господин сенатор отвернул карман пиджака официанта и положил туда одну марку в качестве чаевых. Освальд и Мила сидели минут тридцать в ожидании, пока на кухне этим утром заработают печи, чтобы можно было сделать заказ. Фройляйн и сенатор пустились в философские размышления о том, кто и почему убил эту проститутку.
– Может, преступник занялся с ней сексом и просто не захотел платить, – утверждала Мила.
– Вряд ли, – как всегда бледно сказал Освальд.
– Почему вы так считаете? – спросила Мила, намекая на то, что это частая причина для убийств проституток.
– Обычно, когда хотят заняться сексом и не хотят за это платить, заводят жену. Хоть в перспективе она и оказывается дороже, чем проститутка или даже множество проституток, но всё же заведено так. Во-вторых, удар ножом был нанесён раньше, чем произведён половой акт, – добавил Освальд, постукивая своими туфлями по ножке стола, чтобы стряхнуть остатки снега.
– Как вы это заметили? – спросила Мила.
– Всё проще, чем кажется. На платье был след крови, и ткань разрезана от ножа. То есть сначала её пырнули ножом, а потом подняли платье, чтобы надругаться, – сказал Освальд, слегка покашливая.
– Не надо было мне бросать ваше пальто на труп. Простите, это было так спонтанно. Теперь вы можете заболеть, – опустив глаза, сказала Мила.
– Ничего страшного, сейчас это меньшая из наших проблем, – сказал Освальд, отвернув голову в сторону, ища глазами официанта.
– Вы сказали "из наших проблем"? – покраснела Мила.
Освальд, поставив Милу в неловкое положение, так и не ответил. Непонятно, что интересовало его в тот момент больше – труп этой проститутки, работа, на которую он может опоздать, или Мила, которая сидела напротив. Также было непонятно, что делать дальше.
Подошёл юный официант и радостно картаво сказал: – Печь нагрета, жду ваши заказы, герр и фрау.
С маленькой дрожью в ногах, по нему было видно, что работает он здесь максимум день, может быть третий. Впервые видел людей, одетых дороже, чем его пятилетняя зарплата, что было в новинку как для такого заведения, так и для этого юнца.
Освальд спросил о качестве морепродуктов и из какого они моря привезены, смотря в глаза мальчику. После чего расслабленно сделал заказ салата из морепродуктов для Милы и чёрного чая для себя на завтрак. Официант записал и трусцой побежал в сторону кухни. Освальд посмотрел под стол, убедившись, что снег с туфель полностью стряхнут, встал с кресла, застегнул верхнюю пуговицу своего пиджака и, поправив брюки, стройно расправил плечи. Взглянув на Милу, он улыбнулся впервые за несколько часов и сказал: – Фройляйн, я пойду помою руки.
Развернувшись на девяносто градусов, сенатор пошёл в уборную. Зайдя туда, Освальд посмотрел на треснутое по диагонали зеркало, может, этим оно напомнило ему его сущность. Освальд увидел, что зря так поправлял костюм: он сидел уже не так хорошо, как сутки назад, он устал, и причёска его была растрёпана, а глаза украшали два усталых синих горбика. Сенатору явно нужна была тёплая ванна и хороший сон. Освальд, помыв синие от холода пальцы дешёвым мылом, уже собрался открывать дверь, как позади себя увидел знакомый силуэт в этом до ужаса маленьком туалете.
Позади Освальда стоял француз, его плечи тряслись как от смеха, только смеха совсем слышно не было. Освальд смотрел непонимающе, как он мог тут оказаться. Головной убор и плечи француза были с небольшой присыпкой снега, словно маленькие Альпы, только ростом метр семьдесят.
Освальд непонимающе долго смотрел на француза, осматривая его одежду и всматриваясь в глаза в надежде понять хоть малейшую капельку его намерений. Руки француза были запачканы какой-то чёрно-бардовой гарью, как у красильщика на сталелитейной фабрике неподалёку. Кутикулы вокруг ногтей были то ли обгрызены от нервов, то ли стёрты, а лицо украшали несколько неглубоких царапин.
– Что ты забыл в этом районе? Я совсем не ожидал тебя тут встретить, – сказал Освальд, приперев ногой дверь уборной, требуя ответа.
– Я словно твоя Мила, всюду следую за тобой, – ответил француз, покачнувшись вправо и присев на край раковины, готовясь к долгому душевному диалогу.
– Мила не моя… она мне подруга, ничего более. Для меня всем была жена и ребёнок, но не она, она не может стать их заменой, – возразил Освальд, протирая голову платком. У сенатора явно поднялось давление после острого, как наполеоновский штык, вопроса.
– А как же ваша прогулка? Ах да, ты показывал ей прелесть всего этого неба, что светит. Разве это не любовь? Скажи мне, сенатор, разве ты не влюбился?
Француз начал смеяться и, выходя из себя, приблизился к Освальду на расстояние двадцати, а может, даже десяти сантиметров и начал облизывать свои толстые губы, готовясь к новой штыковой атаке.
– Знаешь… а я даже не осуждаю. У меня ведь тоже есть любовь, и была любовь до этого, только своей теперешней любви я говорю, что прошлой не было, и любил только её. Вранье повсюду, Освальд, в тебе, во мне, в теле и душе соответственно. Для тебя приведу пример попроще. Та проститутка, которую убили, её тоже кто-то любил, не только трахал и насиловал за пару железных марок на прогнивших пружинах старого матраса. А именно любил. Может, её любил её отец или мать, не знаю её семью, но что-то такое точно было. Может, у неё вообще были дети, или может, близнецы. Любовь – это заведомо проигрышное мероприятие: ты кого-то любишь, а цель твоей любви умирает, или, что ещё хуже, уходит от тебя, что раздавливает в тебе всю ту личность, что ты формировал не только для себя, но и для человека, которого мы так сильно любим. Самое забавное, что когда человек по-настоящему одинок и в его жизни появляется любовь, одиночество пропадает, а когда пропадает любовь, она прожигает душу и оставляет такой пробел в жизни, что, будто одиночества до этого и не было, и вот оно истинное одиночество. Разве не это ты чувствовал, когда твоя жена сгорела и сожгла заодно и твоего сына? Как там говорится? Одним выстрелом два зайца?
Закончив свой небольшой монолог, француз стал дожидаться реакции на удары, облизывая свои губы.
– У тебя нет монополии на правду, француз. Я был неприятно удивлён твоим присутствием, – сказал Освальд, выходя из уборной.
Француз пошёл за ним по пустому, как пустошь, коридору. Они разменулись между выходом в зал и на улицу, француз пожелал сенатору удачи в своей манере и удалился под снова надвигающуюся снежную бурю, растворяясь за несколько метров в тени.
Освальд вернулся за стол к Миле. За столом сидел давний знакомый Освальда – Карл Лебрехт Иммерманн, местный писатель и публицист, а также владелец самой крупной газеты города Ганновера «Ганноверский трактат». В сопровождении его была фройляйн, на вид только поступившая в университет на журналиста, с блокнотом в руках. Возле входа покорно ждал помощник, лакей и лизоблюд с опытом – Фридрих.
Карл при виде подходящего Освальда махнул рукой своей фройляйн, чтобы та сделала какую-то команду, как собачка в цирке. Он поднялся и протянул руку сенатору.
– Крайне рад вас видеть, господин сенатор, не знал, что такие боги политики, как вы, могут снизойти в наш бедный район, – сказал Карл, поправляя нижнюю пуговицу своего напыщенного зелёного до ужаса приталенного пиджака итальянского кроя.
– Герр Иммерманн, тоже рад вас видеть. Вы не беднеете, всё носите костюм, который по цене квартиры в этом районе, – подметил Освальд, показав Миле взглядом, что долго не собирается вести данный диалог.
– Ответьте мне на один вопрос, я же журналист в прошлом, хочу по дружбе спросить.
– Какой же? Давайте ближе к делу.
– Что вы думаете о сегодняшнем убийстве?
– Я думаю, это квалификация для медийного отдела полицейского управления, – ответил сенатор.
– Но вы же всё-таки законодатель, и бюджет определяет ваша партия в сенате. Почему в городе настолько небезопасно, что вообще приходится задавать столь глупые вопросы про убийства? Это же сплошная чушь. Не лучше бы нам интересоваться модой, ганноверским барокко и оперой?
– Хорошо вы подметили, герр Иммерман, но наша партия утвердила самый большой бюджет за последние десять лет для финансирования полицейского управления. Может, ваша абьюдантка хочет задать мне вопрос? – сказал Освальд, посмотрев на девушку, стоящую за плечами Иммермана.
– Аааа, я хочу спросить вас… – промолвила девушка.
– Заткнись, Анджела, не позорь меня перед человеком, – сказал Иммерман, забрав у девушки блокнот. – Знаете, эта молодёжь совсем не держит уровень беседы. Ей пока многого не хватает, но я… я обязательно её натаскаю, – сказал герр Иммерман, похлёбывая свой виски ранним утром ноября. Девушка позади него совсем притихла, и он понимает, что она тут ради карьеры, а путь карьеры бывает очень тернист, если вы понимаете, о чём я.
– Знаете, герр Иммерман, вы очень небрежно относитесь к молодёжи. Когда-то мы с вами были такими же молодыми, и совсем скоро они нас заменят, – ответил сенатор Иммерману.
– Да никогда они меня не заменят, – сказал Иммерман, допивая свой виски.
Он встал, совсем забыв про мнимое приличие и не застегнув пуговицу. Фридрих уже открыл дверь перед публицистом в ожидании похвалы. Старик направился к выходу, держа в одной руке бутылку, а во второй – талию Анджелы, играя мерзкими пальцами по её талии как на пианино.
– Знаете, господин сенатор, статья будет с заголовком: «Потрошитель Яммера: городская власть бездействует». Ждите завтра утренний выпуск с большим заголовком и фото пострадавшей, – сказал Иммерман, удаляясь из помещения «Рыцарской трапезы».
Иммерман покинул зал. Освальд вздохнул с облегчением, а потом сразу же его накрыла зевота. Зевоту оборвал голодный взгляд Милы: то ли она смотрела так на Освальда, то ли на свой салат из морепродуктов – было непонятно.
Освальд выпил черный чай залпом, и на душе его стало чуть потеплее. В голову нагрянуло осознание, что вскоре на работу, и он немного опаздывает.
Сенатора начала накрывать какая-то странная паническая атака. Он начал кашлять изо всех сил, и через кашель пробирался смех. Глаза его немного пожелтели, как старые костяные пуговицы, а лицо еще никогда не было таким впавшим от усталости.
– Мила, рад был провести с тобой этот вечер, ночь и утро, но мне действительно очень надо на работу. Где бы я смог найти тебя? – спросил он.
– Отель недалеко от Сената, – ответила ему Мила, только начавшая есть свой салат.
– Тот, что с башней в виде часов? – спросил сенатор.
– Именно, – сухо ответила Мила.
– Я тебя найду. Хорошего дня, – сказал Освальд и выбежал быстрой походкой на улицу.
Вокруг проезжали экипажи такси, и все люди шли на работу. Кто-то разбирал снег после вечерней снежной бури, а кто-то шептался о новости про очередное убийство. Освальд махнул рукой и взял себе экипаж такси до здания Сената.
По пути Освальд часто вспоминал про тело проститутки, которое видел ночью. Его голова впечаталась в бордовое сидение кареты такси, а тело стало настолько расслабленным и одурманенным какими-то странными чувствами, что колеса кареты перестали отстукивать брусчатку, и движение стало похоже на прокатку утюга по рубашке. Сенатор на один маленький единственный миг подумал, небрежно или добросовестно он попрощался с Милой, как его мысли стукнулись о грязные нарративы дел в Сенате. Опять писать законопроект под новое управление налоговой и разбираться с жалобами горожан по трубопроводу… Трубопровод, точно… Сейчас почти зима, и уже снег лежит на улице. Скоро начнутся перебои с отоплением, и город накроет дым каминов и печей. Надо бы заложить под это еще финансовых средств из городского бюджета. Главное, чтобы финансисты и Блюхер дали согласие, и Монике надо это не забыть сказать, – подумал про себя Освальд.
– Мы прибыли, герр сенатор, – прервал тихое раздумье Освальда кучер, стуча рукой по крыше такси.
Сенатор расплатился с кучером и поднялся по массивным ступеням. Они никогда не казались ему настолько массивными, непроходимыми. Что-то все-таки было античное в этом здании, хоть до стиля античности ему было далеко. Власть всегда терниста, и об этом стоит помнить и учитывать.
Освальд промок от пота и легких капель моросящего дождя. Вы же еще не забыли, что он избавился от своей верхней одежды?
Блюхер уже ждал его, блестя у входа своими круглыми пенсне на золотой цепочке. Толстая пачка бумаги была готова на рассмотрение или на полный протест со стороны финансового комитета города. Понятно было одно: ждал Блюхер с самого открытия Сената, нервно отбивая мраморный пол железной вставкой на туфле. Цок-цок-цок проносился по залу, и нехотя люди оборачивались на Блюхера, как на обитателя психдиспансера. Честно говоря, пол Сената следовало бы туда отправить. Освальд сверил свои часы с часами в холле: он опоздал на 40 минут. Рядом с большими часами на втором этаже ждала Моника, но Освальд сделал вид, что не заметил ее.
Блюхер, не сильно скрывая свое долгое ожидание, начал торопить события и бежать впереди паровоза. Он протянул бумаги Освальду с формулировкой:
– Это ваши последние законопроекты. Их нужно пересмотреть и отправить на доработку. У финансового комитета нет на это средств, – сказал Блюхер.
– Для такой новости могли бы отправить ко мне кого-то пониже рангом, – заметил Освальд.
– Я жду вас с восьми утра. Мы должны работать как часы, как часы без опозданий, как единый механизм, понимаете? – Блюхер.
– И как это относится к тому, что вы мне лично это преподносите вместо ваших подчиненных? – Освальд.
– В том, что я отношусь к вам с уважением, и что эти законы нужно доработать вовремя и без опозданий. Власть не должна останавливаться, если вы опаздываете. Часы не должны отставать, понимаете?
– Часы отстают на 46 секунд.– Сказал Освальд Блюхеру, сделав вид, что не видит рядом с ними Монику.
– Почему это? И почему именно на 46 секунд?
– Часовщик ровно столько времени курит одну сигарету, и курит он каждый час. Он переводит их, подкручивает, но 59 минут из 60 каждый час они отстают именно на 46 секунд, когда он курит и останавливает механизм, и минутная стрелка замедляется, – сказал Освальд, забрав несколько помеченных томов бумаги с законопроектами по бюджету.
Моника всё так же стояла у часов напротив коридора с кабинетом сенатора и кабинетом главы собрания. Моника сменила наряд, что сразу бросилось в глаза: вместо сдержанности и компромиссов, что было обычным делом для любого официального или политического здания Нижней Саксонии, наружу вывелось что-то ярко вульгарное. Черные брюки из плотного шелка и белую, всегда выглаженную угольным утюгом рубашку заменило платье с вырезом до таза со стороны правой ноги. Низ платья и рукава от плечей до запястья украшали кружева, показывающие всю красоту и нетронутость тела Моники. На декольте был глубокий вырез, ярко подчеркивающий грудь третьего размера. А лицо, ах, её милое лицо. Теперь оно в темно-красной помаде, а щеки в румянах. В руках совсем не было бумажных дел, и она не прыгала с отчётами о выполненных заданиях перед боссом. Не хотела и забрать бумаги у слегка промокшего Освальда. Сутки, сутки Освальда не было в Сенате, а как много изменилось: убийство, ночь с Милой, теперь Моника цирк устроила.
«Этот ноябрь меня убьет», – подумал Освальд и увидел легко шатнувшийся листок бумаги с парой предложений. Он сразу понял, что к чему, и не стал тянуть с вопросом.
– Подписать? По собственному? – сказал он.
– Да, спасибо, герр сенатор, – ответила ему Моника.
Освальд достал перьевую ручку, подаренную мэром. Ей он обычно подписывал что-то чрезвычайно важное, и Моника знала об этом. Сделал росчерк пера и собирался вернуть лист обратно девушке, но сжал его и остановился в мыслях.
– Один вопрос: куда ты теперь пойдёшь? – сказал Освальд Монике, впервые поинтересовавшись о её делах и, наверное, в последний раз.
– Я пойду на прослушивание в оперу, герр сенатор.
– Что ж, удачи в достижении вершин на сцене.
ГЛАВА 4
Конрад Штайнер и Отто Гендевальд поздним вечером обедали в опустевшей столовой полицейского участка. Почему только обедали? Потому что были завалены томами дела на потрошителя Яммера.
Конрад заказал себе тарелку солянки и куриный стейк со спаржей. Своему меню и относительно нейтральной позиции к углеводам он никогда не изменял. Пухляш Отто набрал себе жареного картофеля и все баварские сосиски, что остались к вечеру, так что на одном противне не хватало места.
Конрад ел всегда очень быстро. Его желудок и кишечный тракт работали в три смены, как шахты с рудой, заполненные черными рабами. Отто Гендевальд, как обычно, растягивал трапезу на пару часов, после каждой баварской сосиски облизывая пальцы, чтобы никому ничего не досталось. Конрад в сотый раз перечитывал новый том о проститутке, убитой возле Цитадели, о том, что написала Грета-Виктория, и о свидетельских показаниях сенатора Освальда и женщины, что нашла труп.
Давайте немного преподнесу вам сводку про Грету.
Грета-Виктория мечтала стать врачом с самых малых лет – этим она пошла в своего деда-патологоанатома. Она была необычной девушкой, если понимать обычное представление о девушке конца XIX века. Закончившая врачебную академию с отличием и посетившая множество лечебно-исследовательских филиалов на юге Италии, Грета-Виктория готовилась к своей первой практике по стопам дедушки.
Сегодня был её первый день в морге. Она стояла в кабинете. Перед ней на старом немного ржавом столе лежал труп женщины лет 25–30. Грета-Виктория прижала большой и указательный пальцы к холодной, как лёд, плоти и очень туго натянула её над грудиной, как учил её дедушка. Довольно важно сделать надрез. В тот момент она вспомнила всю теорию и кусочки практики, что были в Италии. Сотни врачей и профессоров промчались у неё перед глазами, и вспомнились их советы. В конце концов она не хотела портить светлую память своего деда-врача.
Грета без колебаний провела скальпелем от одного плеча к грудине, с каждым сантиметром вгоняя лезвие всё глубже в кожу. Она пыталась сохранить маску безразличия к этому телу, совсем не думая о том, что когда-то это был человек с прошлым и определённой историей, с родителями и, может быть, детьми. Конечно, её будущее на этом врачебном поприще было совсем не обязательно, и она могла прожить намного дольше, чем ей было предначертано. Но что есть, то есть.
Сталь скальпеля разрезала грудную клетку намного мягче и легче, чем ожидала Грета. В моменте промелькнула мысль: «А делаю ли я всё правильно, и должно ли быть так просто… разрезать человека?» Тошнотворно-вишнёвый запах поднимался от сделанного разреза. Профессора уже давно привыкли к запаху крови, испражнений и других человеческих жидкостей. Грета держалась довольно хорошо. Она подавила нарастающую дрожь. Отступив от стола пару шагов, Грета с изумлением стала разглядывать свою работу.
Кровь совсем не полилась из раны и была темно-алого цвета. Если бы эта проститутка была убита менее 40 часов назад, то кровь бы залила весь стол фонтаном. А так всё закупорилось и застыло, и можно было рассматривать каждую ткань и орган. Грета протёрла скальпель об белую простынь на столе и простерилизовала его. Вдоль зелёной стены лежал ещё десяток трупов с уже дряблыми конечностями. Каждый из них мог бы стать целым аттракционом для любого из интернов, закончивших академию.
Взяв другой, более длинный скальпель, Грета направилась обратно к трупу проститутки с намерением сделать надрез от другого плеча вплоть до пупка. Она не ожидала, с какой силой надо было разделить рёбра, чтобы увидеть сердце. Это уже не было похоже на нарезку свиной колбасы по утрам на завтрак.
В глазах Греты в очередной раз помутнело, и она взялась перечитать заключение полиции. В первом абзаце было сказано о ножевой ране в районе живота, что совпадало с вскрытием, и печень была в застывшей от холода крови. Лицо отсутствовало. Но ничего не было сказано про синяки на шее. Как их могли не заметить? «Возможно, обычная халтура», – подумала тогда Грета и вписала это в свой отчёт.
Ножевое ранение было нанесено задолго до изнасилования. «Что за мерзость крайней степени», – подумала Грета-Виктория. Вот таким врачом была она… Грета-Виктория.
Конрад резко поднял глаза от дела, как только звук его чтения в голове прекратился, и он снова услышал, как Отто облизывает свои пальцы.
– А та женщина, которая нашла труп, случайно не твоя мать, Гендевальд? – спросил Конрад.
– Это почему? – выпучив глаза, но не оторвавшись от еды, ответил ему Отто.
– Ну смотри, мы знакомы полтора года, и я ни разу не спросил тебя о твоей личной жизни и семье. Вот интересно, не твоя ли это мать, так как вы очень похожи.
– Чем это?
– Вы оба толстые, Отто, – сказал Конрад.
– Открою вам секрет, инспектор Штайнер, не все жирные между собой родичи, – сказал Отто, отодвинув тарелку от лица.
– Ладно, прости. А та женщина, которая каждый день в час дня приносит тебе обед, это кто, курьер? – сказал Конрад, закинув туфли на край столика и закурив сигарету марки «Ред Эпл».
– Нет, это моя мать… – тихо сказал Отто своему начальнику.
– Вот видишь, вы оба толстые и родственники. Значит, моя версия ещё жива, не так жива, как проститутка возле Цитадели, но всё же, – сказал Конрад, затушив недокуренную сигарету.
Конрад, несмотря на свой иногда показательный цинизм и черный юмор, был человеком довольно практичным и через чур верующим в Бога. Если бы даже Бога не было, он бы придумал его сам и поклонялся. Для таких людей, как он, нужно что-то, чтобы сдерживало его в рамках правил. Вы спросите, а почему его не держат законы? Он же инспектор полиции со стажем и должен следовать лишь букве закона. Во-первых, отвечу вам я, буква закона в Германии, да и в любой другой стране мира, это не такая аксиома, как сейчас. Многие госслужащие брали взятки, это было в порядке нормы. Но Конрад не из этих. Он более редкий экземпляр. Хоть он и не брал взятки, его брали немного другие утехи. Ему казалось, что Бог, а не закон, дает ему право вести это расследование по Яммеру. А когда человек во что-то верит, а потом его вера терпит тотальный крах и тонет, что может случиться? Катастрофа или Армагеддон? Явно ничего хорошего из этого не выйдет.
Между делами по Яммеру, которые он читал на постоянной основе, во внутреннем кармане его пиджака всегда лежала маленькая карманная Библия. Штайнер с виду мог казаться человеком внесистемным, честно говоря, мне так иногда и казалось. Холодный взгляд из голубых глаз и брови, которые держались на одном уровне, какую бы эмоцию ни испытал инспектор. Если бы существовала медаль за брови, её точно дали бы Штайнеру. Под пиджаком пряталось не только слово Божье, но и шестизарядный револьвер, вечно готовый к бою, то есть взведённый в боевое положение.
Штайнер и Гендевальд не с самого начала вели расследование по Яммеру. Изначально убийства в разных районах расследовали местные участки. Лишь через пару лет, во время пивного марафона в одном из центральных пабов, которым владеет бывший коп на пенсии, встретились пару следователей по мокрухе и обсудили очень похожие эпизоды из своих районов. Когда картинка начала складываться, что убийства похожи и, возможно, орудует один и тот же человек, то созвали комиссию во главе с комиссаром Нижней Силезии. Тогда и создали штаб.
Главой штаба назначили Конрада, а в помощь дали Отто и немного финансов из казны города.
Конечно, это были сущие гроши для поимки маньяка. Не было ни описания, ни одного свидетеля, ни одной уцелевшей жертвы. Проститутка, найденная сенатором Освальдом в проулках квартала возле Цитадели, была девятой жертвой.
Что вообще такое девять жизней? Девять жизней – это чья-то судьба, кто-то любил этих людей, а их просто утилизировали и всё? Если вдаваться в практическую часть вопроса, то в конце 19 века половина Ганновера читала Ницше вместо посещения протестантской или католической церкви, и что для тех, что для тех жизнь человека мало что стоила.
Честно говоря, если бы меня спросили, что можно сделать, чтобы могло сойти вам с рук без наказания – убить десять человек или украсть десять лодок, то здравомыслящий человек того времени выбрал бы убийство людей. Ведь лодки стоят денег, не говоря о том, что они банально большие. А уход десяти маленьких экономических ячеек на тот свет мало кто заметит.
Ситуация накалилась в 1899 году, когда убили семилетнюю девочку. Её нашли изнасилованной, как ту проститутку. Тогда владелец газет Иммерман взорвал настоящую пороховую бочку, и на комиссара начали давить общественность и политики. Тот начал давить на председателя штаба Штайнера, конечно, без увеличения его финансовых возможностей для поиска убийцы. Штайнер, в свою очередь, начал давить на пухлого Отто, выдавливая из него кишки своими библейскими притчами.
Ночь под тусклой лампой сменила тон позднего обеда в столовой, но не было никакого просвещения в деле. Гендевальд уже был измотан опросом зевак со всего квартала, а пальцы Штайнера украсили малиновые мозоли от количества перелистанных страниц уголовного дела. Отто разложился на диване и приложил ко лбу слегка холодный графин с водой, чтобы испытать каплю облегчения от напряженной ситуации. Штайнер и не думал отдыхать и начал подкидывать дров в костер изнеможения пухлого Отто.
– Мы его обязательно поймаем, – сказал Штайнер своему подопечному.
– Это было бы хорошо, герр инспектор, но как? – ответил Отто, не убирая графин со лба.
– "Ибо плата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем", – в рифму и поправив галстук, сказал инспектор.
– Вы опять цитируете Библию? Вы же знаете, что я еврей и не читал это, – ответил Отто.
– Еврейство не порок. Иисус тоже был евреем, но в первую очередь сыном Господа… хотя знаешь, Отто, мне кажется, я знаю, как мы поймаем этого подлеца, – сказал Конрад, прикрыв лицо руками, продумывая мелочи.
Отто присел и поставил графин на комод, стоящий рядом. Не прерывая мысли Конрада, он держал паузу и молчание, чтобы выслушать его.
– Твоя искалеченная вера мне кое-что подсказала, но мы воспользуемся моей верой. Мы, как Господь Бог, принесем в жертву сына Господнего Иисуса Христа, не в спасение от греха, а как наживку.
– Что вы имеете в виду… – ответил Отто, уже поняв, к чему ведет мотив инспектора Штайнера.
– Мы используем парня или девушку как наживку, – сказал Штайнер, хлопнув ладонью по дубовому столу.
Утром, после выпитой на ночь бутылки крепкого трёхлетнего рома, Отто выкатился из дома, забыв свой галстук. По дороге в офис инспектора он позавтракал в закусочной на Бэйкерштрассе и, как всегда, превысил суточную норму калорий. Ветер дул прямо в лицо Отто, и его большие небритые щеки надувались ещё больше, а пуговицы на пальто, не сходящиеся, извивались по ветру, как у героя из комиксов. Только без суперспособностей, а с диабетом, хроническим перееданием и проблемами с алкоголем на ночь. Отто Гендевальд много курил, и сегодня был один из тех дней, когда он курил особенно много. Пачки сигарет на день оперативной работы ему показалось мало, и он купил ещё две про запас. Поджигая сигарету утром, Отто чувствовал неописуемое чувство эйфории, напоминающее ему его самую первую сигарету, выкуренную в школе. Лёгкий дурман, окутывающий лёгкие и кружащий голову, немного расслаблял притупленные чувства после ночной смены в участке. Но если у первой сигареты было оправдание, то в чём смысл двух выкуренных пачек в сутки?
Когда Отто закончил академию полиции с отличием и был лучшим выпускником на факультете, он был совсем не тем, кого мы знаем сейчас. Он был подтянутым и стройным парнем с очень острым и логически верным умом. Логические полицейские задачи на лекциях криминологии возбуждали чувство справедливости и наказания преступников в отдалённых глубинах души Отто. Когда Отто дали первое дело в 1895 году, ему было немного за 22, совсем молодой парень со знаком отличия из академии. Дело было под стать его уму и сноровке, но опыта было слишком мало… Ах, опыт, да, конечно, он имеет значение. Полицейскому дали дело мясника Дойла, рекетира, по локоть измазанного в крови. Днём он работал мясником на забое скота у тёти Кондебульд, а вечерами грабил лавочников. Кличка мясник появилась из-за одного лавочника, который не хотел расставаться со своими кровными, и был пущен, по слухам, мясником на убой как скот. Отто Гендевальд долго собирал показания свидетелей и косвенные улики, и вместо того чтобы доложить начальству, не выдержал и не соблюл устав, заявившись пьяным к Дойлу с папкой улик. Дойл, отсидевший два срока в Зибецгруфе на севере, вблизи Дании, так просто не собирался идти с повинной и, выхватив пистолет, прострелил живот юному полицейскому, убежав как цыганский табор летом. Отто пережил это ранение. С тех пор из-за раны и проблем с кишечником он заметно набрал в весе и сменил гардероб на более тихий и прищемлённый. Значок отличия полицейской академии он больше никогда не крепил на свою грудь.
В ту ночь, когда Заг исчез, Конрад и Отто были на дежурстве. Заг, девятилетний мальчик, подрабатывающий газетчиком, часто оставался допоздна, разнося последние выпуски. Он был сообразительным и находчивым ребёнком, любимцем всей полицейской станции. В ту ночь его отправили домой пораньше из-за опасностей, связанных с потрошителем Яммера.
Но Заг не послушался. У него была своя причина – он хотел помочь инспекторам поймать преступника. Он заметил подозрительного человека, который часто мелькал в их районе, и решил проследить за ним. Когда Конрад и Отто узнали, что мальчик пропал, они бросились на его поиски.
Это был мрачный и туманный вечер. Лампы на улицах горели тускло, словно не желая прогонять густую мглу, окутавшую город. Заг, уверенный в своих силах, следовал за тенью мужчины, который двигался с настороженностью и скрытностью. Улица была пустынной, только звуки шагов мальчика и его подозреваемого нарушали тишину.
Тем временем Конрад и Отто, обеспокоенные отсутствием Зага, прочёсывали близлежащие кварталы. Они разделились, чтобы охватить больше территории. Конрад пошёл на север, к старым складам, а Отто направился на юг, к парку. Оба знали, что ситуация критическая: с тех пор как Яммер появился в городе, ни одно дитя не могло чувствовать себя в безопасности.
Заг следовал за мужчиной до старого склада на окраине города. Он видел, как мужчина оглядывается, проверяя, не следит ли кто за ним. Мальчик спрятался за бочками, затаив дыхание. Его сердце билось как сумасшедшее, но он не собирался отступать. Когда мужчина вошёл в склад, Заг осторожно прокрался за ним, стараясь не производить шума.
Внутри склада было темно и холодно. Заг видел, как мужчина двигался к дальнему концу здания, где тускло мерцала лампа. Мальчик притаился за старыми ящиками, наблюдая за каждым движением незнакомца. Он понимал, что оказался в очень опасном месте, но возвращаться было уже поздно.
Тем временем Конрад и Отто снова встретились в центре района. Их поиски не дали результатов, и тревога усиливалась с каждой минутой. Они знали, что с каждой минутой шансы на спасение Зага уменьшаются. Инспекторы приняли решение обыскать район склада на окраине, последнее место, где их подозрения могли оправдаться.
Когда Конрад и Отто подошли к складу, они заметили едва заметные следы на земле – маленькие отпечатки ног Зага. Сердце Конрада сжалось от страха и вины. Они двинулись к входу, стараясь не производить шума.
Внутри склада тем временем Заг наблюдал, как мужчина остановился перед старым столом, на котором лежали странные инструменты. Мальчик почувствовал, как его охватывает ужас. Он понимал, что ошибся в своих действиях, но уже было слишком поздно. Мужчина повернулся, и Заг увидел его лицо – лицо, искажённое жестокостью и безумием.
– Ты что тут делаешь, мальчик? – произнёс мужчина с холодной усмешкой.
Заг попытался убежать, но мужчина схватил его за руку. Мальчик закричал, но его голос утонул в гулком пространстве склада. Мужчина бросил Зага на пол и достал из-за пояса нож. Заг, напуганный до смерти, понял, что оказался в лапах потрошителя Яммера.
Конрад и Отто облазили все близлежащие рощи. Правый берег реки Ляйне прочёсывали отряды с кинологами, парк Людвига и сквер рядом прочесали сверху донизу. И ничего, абсолютно ничего. Не было никаких зацепок. Преступник словно испарился, будто его и не было. Тело мальчика было божественно девственным и нетронутым. Но это не должно было впускать иллюзию безопасности в вены Конрада. Губы Зага с каждой минутой всё больше синели, а вороны, сидящие на высоком дереве в роще, ждали своего пира, радуясь смерти маленького человека.
Отто Гендевальд, как всегда, запыхался и напрочь сбил дыхание. С его больным сердцем и лишним весом и его упорством… они должны были его поймать. Должны были… но не поймали. Сигарета, выкуренная после погони за тенью, была последней, и стресс отходил на задний план драмы. Ум Отто начал осознавать, что именно из-за его с Конрадом действий и их жалкого тщеславия в данную минуту в роще лежит труп маленького газетчика. Конрад Штайнер не мог не заметить волнений Отто. Раньше, если бы у этого парня закончились сигареты, он бы тут же побежал в ближайшую лавку за новой пачкой, не смотря на график и субординацию перед инспектором. Сейчас Отто просто смотрел на труп, как алые губы Зага всё синели и синели. Гаврош лежал в полуметре от его тела. Видно, что парень пытался убежать… но не сразу. Маньяк его чем-то заманил… но этого уже не узнать. Ногти рук были забиты землёй, а земля вокруг расцарапана и напоминала узор снежного ангелочка вокруг невинного парня.
Конрад взял под руку своего младшего напарника. Холодный взгляд окутал Отто, и он в который раз не мог сопротивляться харизме и цинизму инспектора Конрада.
– Завтра будет служение церкви на правом берегу. Сходишь со мной. Пастырь будет проводить крещение. Может, там кто-то что-то видел. Проведем время полезно и немного приятно, – сказал Конрад в сторону Отто.
– Да, полезно и приятно. Я понял вас, герр инспектор, – мямля, ответил Отто Гендевальд.
Сомнение – вещь страшная, и сомнение сейчас бушевало в душе Конрада. Что если напарник его сдаст, что они по его указке превысили свои полномочия и что это привело к смерти, что ещё хуже, к смерти ребёнка. Читатели газет сожрут их с дерьмом за такую историю, а время на свободе останется просто фикцией, которую комиссар Нижней Силезии быстро исправит. Самое плохое, что может случиться с полицейским, это далеко не смерть, а факт нависающей, словно дамоклов меч, тюрьмы над головой. Все те, кого ловили ранее, будут там ждать и устроят настоящий ад на земле, и всё ради того, чтобы заставить копа умолять, умолять о смерти. Но она не придёт так скоро, и пытки будут долго продолжаться: иголки под ногти, сломанные рёбра и выбитые зубы, разбитые головы и выколотые глаза – вот что ждёт любого полицейского в тюрьме. Конрад это прекрасно понимал. Хоть у него и не было с женой детей, но такую жизнь ему не хотелось. Значит, срочно нужно найти преступника.
Конрад и Отто встретились в назначенный час близ улицы Кригмарин. Конрад опоздал на пару минут, что было непривычно для строгого начальника. Отто был сам не свой и немного нервничал, покуривая очередную сигарету. Конрад подошёл и привычным взглядом, снизу от туфель до макушки черных, как октябрьская туча, волос, оглядел Отто.
– Ну что, готов к божьему крещению? – спросил Конрад, поправляя манжеты на рукавах.
Отто медленно кивнул и, кажется, от волнения забыл выдохнуть сигаретный дым и подавился. Старшего инспектора это подзадорило, ему нравилось, когда кто-то рядом нервничал. Они сверили часы и спустились к низкому берегу реки. Пляж после летнего сезона был заполнен мелким мусором, фильтрами от сигарет, коричневыми бутылками от дешёвого разливного пива из близлежащих пляжных баров. Спустя метров двести такой картины низкие ботинки Гендевальда наполнились песком. Это не был привычный песок, который можно видеть на пляжах курортов в Эгейском или Средиземном море, песок с мелкими камнями быстро стирал кожу до крови. В довесок к плотной обуви располневшего Отто это добавляло ему нервов и неудобства перед начальником. Каждые несколько шагов он приостанавливался, потирая туфлю об туфлю, затем снова шёл. Отто знал, что вся эта ситуация с потрошителем Яммера не к добру, но сегодня нужно опросить свидетелей, может, победа совсем близко.
Вдали мелькали белые пятна, похожие на маленькие кораблики из бумаги. Два кораблика плавали в воде, а полсотни стояли на берегу, как в порту. При приближении к корабликам отросли руки и ноги, и стало понятно, что это паства протестантской церквушки проводит крещение новоприбывших.
Священник толкал пафосную речь про ад и рай, бога и дьявола, вечные муки и благословение, всё в этом роде, стиле. Для каждого прихожанина можно найти что-то на свой вкус и цвет, ведь у каждого есть проблемы, а когда их нельзя или не хочется решать, бог – это наша последняя инстанция, куда мы обращаемся, обращаемся без заявления в письменной форме. Темный уголок папы устных фраз, и всем кажется, что с неба упадёт рояль, и пневмония сама себя вылечит. Людям нужна вера во что-то, это как эффект плацебо в медицине, и положительное свойство этого эффекта вполне имеет доказательную базу.
Священник, хотя тут его называют пастырь, был плодом совокупления немки и ливийца. Его локоны кучерявы, а из-под чудной белой шапки чуть выступают седоватые волоски. Его мужские толстые руки под речь опускали под воду очередного уверовавшего. Это называют крещением, как Иисуса когда-то крестил Иоанн. На берегу стояла паства из человек сорока-пятидесяти и что-то шептала себе под нос, они молились за новеньких.
Глаза Конрада загорелись пламенем, и блестка выступила наружу. Он тоже начал молиться и потеть, его начало трясти, и он чуть не упал на колени. Отто стоял в стороне, он был евреем и читал Тору, не так активно, как Конрад – Библию, но всё же не понимал всего того мрака, который тут творился.
Конрад зашёл в воду к священнику, похлопал его по крепкому плечу и спросил:
– Святой отец, вчера вечером вы не видели тут чего-то подозрительного? На другом берегу, в зарослях, убили мальчишку.
– Нет, сын мой, Господь видит всё, спроси у Него. Давайте помолимся за душу ушедшего и за душу убившего его, чтобы тот раскаялся, и бог простил его, – сказал пастырь.
«Простить убившего? Какая чушь», – подумал про себя Отто. Через секунду он почувствовал холодный взгляд Конрада, нехотя встретил его своими глазами.
– Мой друг Отто – он еврей и не крещённый. Мог бы он сегодня принять крещение? – спросил Конрад у пастыря.
– Да, конечно. Вера одна для всех, – ответил ему пастырь.
– А могу ли я сам крестить его, с вашего позволения? – добавил Конрад.
– Ну раз на то воля бога всевышнего, то дерзайте, – усмехнулся пастырь, отойдя чуть в сторону.
– Отто Гендевальд, тебе пора креститься, и крестить тебя буду я, твой инспектор. Войди же в врата Господа нашего, – сказал Конрад, приказав своему подчинённому спуститься в воду.
Отто понял, что выхода из ситуации нет и нужно идти на поводу.
Он снял ботинки, оставив их на берегу. Его носки были пропитаны кровью от песка, стёршего пятки почти до костей. Он снял пиджак и попросил подержать даму лет тридцати. Затем начал входить в воду. Она была очень холодной, хотя если не думать, что ноябрь, и представить пляж полный красоток, может стать легче. Может, именно эти мысли трясущийся Отто проговаривал про себя в голове. Быстро прошли секунды, и Конрад, при приближении, погрузил его в воду. Держал сильно и не отпускал. Глаза Конрада наполнились кровью, капилляры лопнули, дьявольская сущность как будто завладела им. Отто пытался выбраться из лап, но из-за выкуренных сигарет и лишнего веса он ничего не мог противопоставить в этой шахматной партии. Он проиграл, и лёгкие быстро наполнились водой. Вскоре, от отсутствия кислорода, Отто перестал подавать признаки жизни. Тогда инспектор Конрад отпустил его. Труп пухлого Отто Гендевальда всплыл, он уже никогда не выйдет на берег и не оденет свои туфли.
Всю паству окутала тишина, лишь было слышно, как маленькие волны бьются о брюки выходящего из воды Конрада Штайнера.
ГЛАВА 5
Карта преступлений потрошителя Яммера стремительно расширялась. Не было понятно ни мотива убийцы, ни того, чем он наслаждается. Убивал он от мала до велика, детей, женщин и мужчин разного возраста и комплекции. Раны, причинившие смерть, находились либо в районе брюшной полости, либо в районе головы. Раньше преобладали случаи быстрого убийства жертвы, но три последних жертвы были убиты ударами в брюшную полость чуть ниже пупка. Также наблюдались множественные гематомы от больших рук потрошителя. От синяков на горле проститутки были тонкие отметины, что привело Конрада к предположению, что убийца не из простого рабочего класса, а довольно деликатный человек, возможно, с письменной работой. Его раздумья поддержала доктор Грета-Виктория, хоть она и патологоанатом. Всем медикам хоть немного преподают психологию, и её предположение основывалось на том, что убийца работает на достаточно сложной работе, а убийства для него – радость и средство непостижимого отдыха, как для нормальных людей – посиделки на пляже в субботу с друзьями и кружками тёмного пива из лавки Гонгофера.
Собралась комиссия по решению этого вопроса. Во главе стола был сенатор Освальд, Конрад Шнайдер в качестве главного инспектора города, направленного комиссаром региона. Также присутствовали врач Грета-Виктория, осматривающая трупы убитых, пара юристов-детективов Винфрид и Оделия Штайнер которые пришли из-за пропажи Отто, и Эмили Маейр, единственный свидетель, видевший убийцу, и Мила, искавшая справедливости для семей умерших.
Эмили Майер была настоящим виртуозом своей профессии. Несмотря на женские половые органы, фройляйн имела большой опыт в починке автомобилей марки «Бенц». Машина вышла в свет в Германии в 1885 году. Всего на три года позже, в родильном доме на улице Императора Карла, в палате номер 34, юный крик разбудил полэтажа. Это рвала и метала маленькая новорожденная Эмили. Тогда она еще не понимала, что кричит, потому что ее легкие открылись, и она узнала, что такое кислород и какой он приятный.
С самого детства она не отличалась ростом и не считала себя красивой. Ее отец и мать переквалифицировались с рабочих по деревообрабатывающим станкам на тогда только появившиеся новомодные автомобили. На улицах совсем еще не было дорог, но изредка машины проезжали. Везли они, конечно, тех, кто мог себе позволить их купить – удовольствие не из дешевых.
Раз то, что работает, может и ломаться, подумали родители Эмили и открыли сначала небольшой гараж вблизи городского порта, а потом, спустя время, оборудовали уже целый ангар со стоянкой, платя по 15 золотых марок за неделю аренды. Шли годы, Эмили росла и видела, как отец и мать обслуживали новомодные автомобили. Ее увлекало это больше, чем куклы с двоюродными сестрами. И она училась, и училась. Но жизнь Эмили была не без проблем. Однажды она по уши влюбилась в местного парня на 10 лет старше. Он покупал героин у китайцев в Чайнатауне, что тоже был недалеко от порта. Поставки героина тогда сделали бум в Ганновере.











